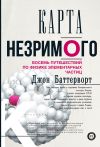Текст книги "Ангел, архангел, архай"

Автор книги: Ольга Рёснес
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Сама по себе материалистическая ориентация культуры является необходимой и неизбежной для развития самостоятельности суждения и в целом человеческой свободы. Материализм есть своего рода «плата за вход», но не более того: в качестве мировоззрения он совершенно не пригоден в силу своей ограниченности. И нет таких материалистических средств, которые позволили бы наблюдать происходящее в человеке, у которого полностью отсутствуют идеалы. А ведь таких людей становится все больше и больше. Только сверхчувственному наблюдению открывается та картина опустошения, та «выженная пустыня», которую несет в себе каждый, кому нет дела до того, что выходит за пределы «вещей»: человек лишает себя всякой возможности контакта с духовным миром, когда его душа во время сна покидает физическое тело. Сон вовсе не «отдых», как полагает всякий разумный материалист, но работа, деятельность души в направление тех сил, которые душа и приносит из сна при пробуждении. Если же «улов» души невелик, человек жалуется на плохой сон, не приносящий ему бодрости, и психиатр обычно спрашивает пациента о качестве сна, и если оно неудовлетворительное, больному назначаются лекарства. Что сказал бы психиатр, узнав, что пациент «не отдыхает» во сне именно потому, что из его дневного сознания, и прежде всего из языка, вытеснены идеалы? Психиатр бы в это не поверил, этому его в вузе не учили. И прописанное им снотворное окончательно преграждает человеческой душе путь к Ангелу и Архангелу.
Невыспавшийся человек, как правило, плохо работает, да он и не может работать в полную силу, поскольку силы этой у него попросту нет. Это – сила Архангела. Не принося Архангелу «в дар» свой насыщенный идеалами язык, будь то слова, музыка или иное «языковое» явление, не снабжая Архангела «воздухом» для дыхания, человек оказывается неспособным получить что-либо то Архангела, хотя тот неизменно готов «отдать», и эта его готовность оказывается односторонней, не взаимной. Это имеет свои последствия не только в жизни человека, но еще и после его смерти: «мы проносим через врата смерти и в духовный мир то, что получили во время сна от архангела, – пишет Рудольф Штейнер[166]166
R. Steiner. Engler. Antropos forlag. Oslo. s. 77.
[Закрыть]. Именно за счет того «запаса», который каждый получает от Архангела во сне, и поддерживается необходимая активность человека после смерти. В противном случае человек становится просто «обузой» для духовного мира: его попросту «сбрасывают» в тот или иной народ, «пристраивают» к тому или иному языку, – и все это по милости односторонне расположенного к человеку Архангела. Почему сегодня так много националистов, кричащих «от имени народа», но в действительности к народу не имеющих никакого отношения, если не считать формально языкового и географического? Откуда вся эта «гордость национальной историей» при полном игнорировании индивида, как собственной истории? Чем питается пафос «национального возрождения»? Все это невозможно понять, исходя из одних только внешних, «зримых» фактов. А дело заключается в том, что, как отмечает Рудольф Штейнер, человеческая душа «имеет слабую связь с ангелом и поэтому не имеет никакой связи с архангелом, попросту врастая в свой народ извне; тем самым национальное присутствует как бездушный импульс в человеке, оказавшемся в своем народе лишь благодаря внешним обстоятельствам, в частности, языковым, и в целом имеющим тенденцию к шовинизму»[167]167
R. Steiner. Engler. Antropos forlag. Oslo. s. 88.
[Закрыть]. На практике бывает порой трудно отличить шовиниста от того, кто искренне и с любовью живет в своем народе, но такое различие состоит прежде всего в том, что одухотворенный человек не боится соприкоснуться с другой нацией. К примеру, постройка бетонной стены вдоль израильской границы свидетельствует о ничтожности шовинистического мышления, перетасовывающего давно изжившие себя, мертвые категории. Тут речь вовсе не о «любви к своему народу», которому, кстати, давно уже надо было слиться с соседями, ввиду отсутствия своего народного Архангела (Яхве покинул евреев навсегда), но только о приверженности догме «чистоты крови». В качестве курьеза можно упомянуть догматическое отношение «чистокровных евреев» к музыке «нациста» Рихарда Вагнера: им не нравится его «арийский дух», но зато свой иллюзорно-иудейский дух нравится. Попытка поиска духовных корней арийской культуры воспринята «чистокровным евреем» как вызов его собственному нежеланию повнимательнее присмотреться к своей «нации»: ее, как нации, нет и в помине, есть лишь объединенная эгоистической идеологией «круговой поруки» группа (на сегодняшний день составляющая около пятнадцати миллионов человек), претендующая на мировое господство. Лишенная архангелического водительства, эта «группа» неизменно ставит себя в бездушно-бездуховное отношение к тому народу, на «теле» которого она паразитирует: ее деятельность способствует лишь технологиям потребительства. Тем не менее, возможность архангелического развития есть у каждого еврея: надо только расстаться с вековыми иллюзиями.
Сегодня лишь незначительное меньшинство людей оказывается способными любить свой народ и язык. Как правило, это люди «незаметные», чьих имен никто никогда не узнает. По крайней мере, это не «властители дум». Но они-то как раз и поддерживают над головой народа его небо: «развивают плодотворные силы в народном характере, делают их индивидуальными»[168]168
R. Steiner. Engler. Antropos forlag. Oslo. s. 88.
[Закрыть]. При этом можно ведь находиться физически и вне своего народа (Гоголь написал «Мертвые души», а Ибсен написал «Пер Гюнта», живя в Италии), но быть духовно с ним связанным. И более того, нести «краски» своего языка в мир, без какой бы то ни было враждебности по отношению к другим языкам. Но это происходит лишь в том случае, когда человек сотрудничает со своим Ангелом, и через него – с Архангелом.
Сегодняшняя политика базируется целиком на национальном, и это создает известные трудности в развитии общества: движение идет в сторону расхищения природных ресурсов и закрепощения личности. Именно из недопонятого «национального» вытекает неверно понятое «глобальное»: это всего лишь рынок, с машинообразным механизмом его действия. Люди перестают с некоторых пор замечать, что, о чем бы ни шла речь в мировой политике, все неизбежно сводится к вопросу о денежных инвестициях. При этом «значимость» той или иной нации «измеряется» природными, технологическими и банковскими ресурсами, без какой бы то ни было оглядки на моральную сторону дела. И там, где речь идет о «благоденствии», на первый план выступает физический индивид, без всяких ссылок на его духовную индивидуальность: «маленькое», земное «я» затмевает Я космическое. В этом разрезе «национальное» трактуется чисто механически, как то или иное гражданство, не требующее от человека никакой внутренней активности. Отсюда такие понятийные нелепости, как «афроамериканец», «норвежский сомалиец», «русский еврей» и т. д. И еще более нелепы такие политические программы, как, например, «защита русскоязычного населения Латвии», «обеспечение национальной безопасности» в весьма отдаленных от данной страны географических точках и т. п. Все это говорит о хроническом, безнадежном непонимании «национального вопроса».
Сверхчувственное наблюдение прослеживает путь «врастания» человека в тот или иной народ задолго до того, как человек, собственно, рождается на земле. Тот, кто не обременял себя во время прожитой жизни стремлением к идеалам, кто вступил в посмертную жизнь «нищим», тому не дотянуть до встречи с Архангелом, «возвращающим» человека обратно в земную жизнь. И единственное, что может в этом случае сделать Архангел, так это воздействовать на «растительную» составляющую будущего человека, на духовный зачаток его дыхательной системы, связанной с его языковой организацией: человек становится управляем посредством бессознательного, он просто врастает, подобно саженцу, в тот или иной народ. И тот язык, которому обучается человек с рождения, усваивается им поверхностно, затрагивая лишь механику говорения, связанную с мимическим подражанием и автоматическим копированием звуков. Можно ведь бегло говорить на чужом языке и при этом совершенно не чувствовать, не переживать внутреннюю сущность языка, отражающую духовную конфигурацию гения языка, народного Архангела (поэтому существует великое множество «литературных» переводов, нисколько не соприкасающихся с сутью подлинника).
Для того же, кто попросту «сброшен» Архангелом в тот или иной народ, любой язык будет по сути чужим, а сам человек развивает при этом подражание механическому элементу языка, привлекая для этого на помощь все свое тело: человек становится некой разновидностью «растительного языка». Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно присмотреться к мимике, жестам, телодвижениям какого-нибудь африканца: можно «понять» его речь, не понимая ни слова. Не случайно в ритуальных африканских танцах «говорит» исключительно тело: душевно-духовное здесь почти на нуле. Всякая «характерная физиогномика» той или иной национальной общности, является, как отмечает Рудольф Штейнер, результатом поверхностного отношения человека к Архангелу[169]169
R. Steiner. Engler. Antropos forlag. Oslo. s. 89.
[Закрыть]. Это и известная всему миру «отечесая улыбка» Сталина, и ленинский «прищур», и высокомерно-комическое актерство Гитлера, и «игра мысли» на омраченном безмыслием лице сегодняшнего политика (к примеру, Жириновский, это целая энциклопедия ужимок, каждая из которых претендует стать «национальной»).
Время, в «материи» которого ритмически существует язык, приливает к человеку со стороны своих «границ»: со стороны рождения и смерти. Временное, оно же материальное, всегда «зримо» подавляет вневременное, простирающееся по ту сторону «прихода» в мир и «ухода» из него, и разговор о «конце» чаще всего ведется с позиций времени, не признающего после себя никакого начала. Время кончается для человека с наступлением смерти, но в тот же миг начинается восхождение сил языка к Слову: дух человека становится той струной, на которой играет вечность. Смерть есть не только рождение в духовном мире, но еще и повод к вызреванию человеческого Я, в его теперь уже звездных странствиях. И если поэту (кем, собственно, и жив язык) нет до этого никакого дела, если к тому же у него нет времени проникнуться сверхчувственными истинами, то смерть ставит последнюю точку в самом последнем его стихотворении. Страх перед этой последней точкой делает звучание слов непереносимым, а сознание смерти тотальным. Легко при этом сослаться на «внешние обстоятельства» жизни, такие, как война, революция, политические преследования и т. п., при этом рассудительно повторяя: «Если бы не война, не революция, не политические преследования…» Работая лишь на «сегодняшний день», с его быстротечностью и похожестью на день вчерашний, рассудительный поэт хочет чего-то «для себя», такого, каким он уже состоялся, хочет еще больше того же самого. Поэт не выхватывает у себя из рук перо и не ломает его по причине негодности чернил и бумаги, но продолжает, продолжает… пока из написанного не вырастает монумент неповоротливости и бессилия: идеалам не место в «том же самом». Идеал действенен лишь в становлении, в бесконечной смене ракурсов и перспектив, в отказе от себя-самого-прежнего. Идеал уживается лишь в самопознании.
В своем перерождении в «новояз» язык не удерживает сегодня идеал жизни, не имея для этого достаточной силы. При всей «интеллектуальности» и «технологичности», свойственной значительной части сегодняшней литературы, налицо определенная языковая немощь, которую можно было бы охарактеризовать как истощенность бездуховностью. И такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока язык не вберет в себя духовно-научные понятия, выросшие из Логоса.
Направленность же понятий и категорий языка исключительно на «физическую реальность», на материальное и зримое, неизбежно приводит язык к той или иной разновидности «некролога»: речь идет только о состоявшемся, только о прошлом. Стоило бы, к примеру, перевести все предложения в каком-то романе в прошедшее время, и никто бы этого не заметил: люди как бы все время смотрят назад, вперя взор в идеалы прошлой, материалистической эпохи. От этих идеалов сегодня веет смертью и бессмысленностью: содержание их слишком ничтожно, при кажущейся «универсальности». Среди самых гротескных примеров «материалистического идеализма» можно назвать производственный идеал «дешевизны и самоокупаемости»: нет ничего дешевле атомной энергии, но это стоит человеку жизни. И было бы уместно заметить, что при нынешней своей духовной безграмотности люди не имею права раскрепощать заключенные в подосновах материи тепловые силы. И даже когда сама природа «выговаривает» человеку за его легкомыслие и безграмотность, сметая волной цунами целые города и попутно круша ядерные реакторы, все по-прежнему говорят только о «дешевизне и самоокупаемости».
Развиваясь исключительно на основе материалистического мышления, язык постепенно становится носителем идеалов смерти. И это не та смерть, которая есть начало, рождение в духе, но смерть абсолютная, после которой нет уже ничего. Такое понимание смерти неизбежно складывается у всякого, кто чужд духовно-научному взгляду на действительность, и это представление о смерти иллюзорно. Это одна из самых действенных иллюзий современности: смерть как конец всего. На основе этой иллюзии складываются целые мировоззрения, предпринимаются социальные эксперименты, ведутся войны и революции, что только расширяет «владения» Аримана: человек носит смерть в себе самом.
Идеалы смерти врываются в современное мышление под флагом «улучшения ситуации»: как то или иное «окончательное решение», «глас свободы», «торжество справедливости» и т. п. Сознательно и кропотливо разрушаются «традиционные» формы искусства, при этом взвинчивая «технологический градус» до грани с безумием, и сонмы проштемпелеванных «современенным стилем» критиков агрессивно «убеждают» все еще не понимаюших «безобразной красоты», например, кубизма в том, что тут присутствовало вдохновение или интуиция, тогда как на деле это всего лишь бессилие что-либо сказать. Почти вся современная музыка есть один сплошной вопль о конце: «кончается» сама музыкальная форма, уступая хаосу всевозможных «нео» (Стравинский с его деланой «русскостью» не исключение), ни одно из которых не проистекает непосредственно из архангелического, но складывается на обочине пройденных уже рассудком дорог. Среди вершин этого абсурда, равно как и тупиков подобного рода «поисков», стала четырнадцатая симфония Д. Шостаковича, квалифицируемая «официальным мнением» как наиболее философское и глубокомысленное произведение композитора. Силы рассудка, поднявшие язык композитора к «небесам» понимания ситуации выживания на советском кладбище, оказываются непригодными там, где возможен разговор о жизни, и композитор этот разговор и не начинает: его самопознание ограничивается знанием смерти. Отсюда тайное и явное «упоение» теми муками, которые переживает личность, не позволяющая себе свободы: это ведь большое, огромное несчастье, не найти в себе импульс Христа. Импульс восхождения к более высокому, чем Я, существу человека, к его Самодуху. Разумность, ставящая себе выше внутреннего религиозного чувства (это не «вера», но духовное знание), неизбежно приводит каждого на руины: со смертью кончается всё. Мужество Д. Шостаковича состоит в том, что он может смотреть в лицо Ариману, не отводя взгляда. Он познал дьявола. И все его творчество есть гигантский, с видом на двадцатое столетие, портрет Сатаны.
Руины напрасных поисков правды там, где ее нет, так можно было бы, без ущерба для содержания, озаглавить четырнадцатую симфонию Д.Шостаковича. На стороне композитора стоят «поэты всех времен и народов», представленные именами Ф.Г. Лорки, Г. Аполлинера, В.
Кюхельбекера и Р.М. Рильке, и ни один из них не зовет от смерти прочь, к самообновлению и рождению себя в духе. Идеал смерти висит непроницаемым туманом над изысканной порой строкой, отзываясь в музыке мрачной, затаенной интонацией безнадежности. Это как раз то, чего добивается от человека Ариман: ситуация полной затемненности духа, ограниченность всех устремлений материальным. «Сто горячо влюбленных сном вековым уснули», так при этом и не узнав, что любовь есть реальность духовная и вековой сон ей в связи с этим не свойственен. Не приняв в себя импульс Христа, невозможно вообще говорить о любви, но для поэта Ф.Г.Лорки это ничего не значит, так же как и для Г. Аполлинера, воспевшего «разовую любовь в окопах»: «В траншее он умрет до наступления ночи…» или в «Мадам, посмотрите!»: «И я хохочу, хохочу / Над любовью, что скошена смертью», или в «Лорелее»: «Жизнь мне в тягость и проклят мой взор», или в «Самоубийце»: «Три лилии, три лилии на могиле моей без креста / Они на могиле моей одиноко растут и пуста / Вокруг них земля, и, как жизнь моя, проклята их красота». О вдохновении ли тут речь? Не смахивают ли такие тексты на неудачный, хотя и рифмованный, некролог? Однако именно некролог так и привлекает Д. Шостаковича: здесь он дает волю своему… безволию к радости. Здесь плетет свою липкую паутину «тоска ни о чем», сажающее сознание на цепь той «честности рассудочности», которая попросту неготова воспринять смерть как эпизод перманентности жизни. Рассудок «впивается терновым венцом в мозг», окружая человека тюремными стенами: «Нас в камере только двое / Я и рассудок мой». От имени рассудка выносятся приговоры и сводятся счеты: «Нечистотами вскормленный с детства / Ты родился, когда твоя мать / Извивалась в корчах поноса» и т. п. Вдохновиться подобными текстами композитор мог, зайдя достаточно далеко в сторону от Христа. Можно говорить о гениальном рассудке композитора, но говорить о его «величии» означало бы самому быть на уровне «этики» данных текстов.
В таких «программных» явлениях, как четырнадцатая симфония, Ариман самым наилучшим образом утверждает свою над рассудком власть: тут-то он и может «навластвоваться всласть». Говорить «просто» о смерти, как говорят о «конце», не подразумевая при этом никакого «начала», никакого «восхождения», значит, говорить от имени Аримана и в его честь. И повседневному языку остается только тиражировать «формулы смерти», в слепой подчиненности «обстоятельствам».
Развиваясь вне импульса Христа, современный язык, будь то язык музыки или литературы, остается не более, чем «знаком обстоятельств», не выражающим ничего, кроме внешней оболочки явления. Человек сначала учится говорить, и только потом, на основе усвоенных слов, интонаций и душевных движений, учится мыслить: каков язык, таково и мышление. Здесь важен не столько «количественный эффект» (под которым И. Бродский понимает «огромность культуры» вообще, в частности, русской культуры), сколько «прорастание» языка в индивидуальные душевные глубины, где рано или поздно самопознание приводит каждого к встрече с Христом. Глубины души – единственное «место», где эта встреча может состояться, никакие «коллективные мероприятия» тут не помогают. Мировой порядок вещей устроен так, что каждому в природном порядке (в связи с развитием структур мозга) дана такая возможность: пережить в своем духе импульс Христа. К этому, согласно духопознанию, первыми придут русские души, уже сегодня наиболее расположенные к созерцанию, и будущее России как раз и состоит в развитии ангелической культуры Самодуха. «И поэтому совершенно неизбежно, – заключает И. Бродский о русском языке, – что в недрах этого языка возникнут явления, которые нас всех будут сводить с ума. Независимо от того, где будет находиться человек, говорящий или пишущий на этом языке, – в Москве, Питере, Париже или Нью-Йорке»[170]170
С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., Эксмо. 2004. с. 331.
[Закрыть].
Природный порядок, связанный с «замиранием» жизни в зимнее время, актуализирует в человеке самоуглубленность в «самые темные дни декабря», когда наступает Рождество. В природном смысле, все вокруг «спит мертвым сном», тогда как в человеческой душе разворачивается Мистерия Рождества: в самую темную полночь года самопознающей душе открывается доступ к Христу.
Это не внешнее по отношению к каждому таинство, но дело сугубо индивидуальное: это рождение себя в духе. Навстречу этому интимному процессу в человеке разворачивается работа Архангела, который приносит из вневременных далей свою весть о будущем: Жизнедух, в котором и выступает навстречу человеку Христос. Таким образом, в человеке рождается Христос, в этом смысл Рождества. За две тысячи лет, прошедшие с момента физического рождения Иисуса, сознание человека развилось настолько (в том числе благодаря материалистическому естествознанию), что сегодня совершенно не актуальна «вера», но актуально знание. И если представители определенных христианских сект все еще пристают к прохожим с вопросом, есть ли Бог, а в христианских церквях Рождество связывается со «службой», давно уже ставшей чисто внешним ритуалом, то это говорит только о слабости воображения. Каждый познает Христа в себе самом, и весть об этом приносит Архангел: Мистерия Рождества разыгрывается в самом человеке. Не случайно С.Рихтер устраивает на исходе жизни, в зените своей духовности, «Декабрьские вечера», призванные по-своему завершить путь его самопознания на земле.
Что же сближает в этой совместной работе человека с Архангелом? Сверхчувственное наблюдение показывает, что это именно язык, со всеми его звуковыми, интонационными и смысловыми нюансами. То, как человек говорит, определяет степень его подготовленности к Рождеству. Тут важны не только «слова», но сам способ их произнесения: важна та душевность, которая в них вкладывается. Эту душевность забирает во время сна душа и приносит в дар вневременному, и Архангел принимает этот дар. На картине М.К.Чюрлениса «Ангел» от человеческих жилищ поднимается к небу дым, и стоящий на вершине горы Ангел благосклонно склоняет голову к этому жертвенному дыму. «Религия в своей жизненности, – отмечает Рудольф Штейнер, – практикуемая в человеческом сообществе жизнеутверждающим способом, зажигает в душах сознание духа… настанет время, когда человек с истинно религиозным чувством, именно посредством этого религиозного чувства получит импульс к познанию… сознание духа порождает стремление к духопознанию»[171]171
R. Steiner. Engler. Antropos forlag. Oslo. s. 56.
[Закрыть].
Язык есть нечто несравненно большее, чем средство коммуникации: степень его одухотворенности определяет тот «запас», которым каждый располагает посмертно, как «источником энергии». И когда человек снова возвращается в земную жизнь, прежняя одухотворенность его языка звучит в нем как голос совести. Никакие внешние нормы и правила, никакие авторитетные мнения не могут привить человеку совесть как таковую (так, в толковом словаре совесть понимается как «чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми, обществом»). Совесть есть внутренний, моральный импульс каждого в отдельности, независимо от того, какие нормы поведения существуют в данном обществе и как окружающие смотрят на тот или иной поступок индивида. В своей совести каждый выступает сам по себе, неся ответственность не перед каким-то абстрактным «окружением», но исключительно перед своей душой, перед своим Ангелом. Как раз в отношение «совести» со стороны общества предпринимались и предпринимаются бесчисленные атаки на индивида: это своего рода «силки», куда опытные «птицеловы» – агитаторы заманивают слабоязычных. Типичный пример тому – так называемое «тунеядство» И. Бродского (и истинного художника вообще, живущего своим творчеством): когда другие «работают», этот «пишет». В сегодняшней реальности «новояза» голос совести оказывается попросту «забитым» многоголосием стереотипов: сознание человеке тонет в мутных потоках «очевидностей». Слабоязычие и вытекающая из него «бессовестность» ослабляют физическую организацию человека: наклонности становятся дурными, инстинкты – извращенными. Примечательной в этом плане становится тенденция в системе высшего образования: максимально сжать языковые дисциплины, расширяя информационные и подобные им курсы. Результат немедленно оказывается налицо: из вуза выходят сегодня безъязычные специалисты. Обходясь в жизни «без лишних слов», без идеалов, эти проштампованные «в.о.» личности не видят для себя ничего более враждебного, чем слово.
Бурный, если не сказать взрывоопасный успех российской «нелитературы» есть в целом явление совершенно не русское: это планомерно раскрученная атака «интернационального» издательского бизнеса на живые силы русской души, насильственная прививка пошлого мудрачества «интеллектуалов» типа Пелевина, сознательная перелицовка «мошенника» в «гения», откровенная теперь уже пропаганда зла. В самом своем завораживающе «интеллигентном» виде зло «ввинчивается» в рассудок читателя, становясь его «собственностью» и действуя уже изнутри, как «свое-родное». Отсюда – стереотип «никчемности» человека и жизни в целом, штамп «бессмысленности» любого душевного движения, полное стирание в человеке моральных «граней». Только рассудок, этот пелевинский «кипящий котел на семь тысяч лет», и есть то «последнее», что еще у человека осталось: между «ничто» прихода в мир и «ничто» ухода из мира. Человек «задуман» как «рассудительная машина», имеющая свою «грибную радость» от самого этого «рассудительства», кажущегося наивному читателю «талантом». Но даже и наивный читатель догадывается, что дело тут «нечисто»: уж очень этот «пелевизм» похабен и низменен. Русская душа бессознательно протестует против пелевинской «рассудительной дьявольщины», но недостаточно развитое мышление то и дело попадает в расставленные Ариманом силки: прыгай и… будь ничем! Здесь налицо открытое сотрудничество писателя и Сатаны: все без исключания пелевинские «опусы» надиктованы Ариманом и имеют единственную цель вытравить из человека его душу и дух. Писателя называют в России «культовым», и это надо понимать буквально: его литературная «неутомимость» имеет тот же темный «жреческий» источник «вдохновения», что и лживые, насквозь ариманические «откровения» Кастанеды, и в целом оба эти родственные явления восходят к деятельности отставших еще в древнеегипетскую эпоху духов личности. Культ оторвавшегося от души рассудка, помноженного на немощь самой души, неспособной видеть в человеке ничего, кроме насекомого, это человеконенавистнический культ Аримана. И тому, кто сегодня восхищается переведенными на многие языки творениями Пелевина, полезно знать: он восхищается Сатаной. Ариман намного «умнее» человека, отсюда и «восхищение», и к тому же Ариман отличный писатель, потенциально нобелевский лауреат.
В условиях расцвета «новояза» формируется с помощью коммерческо-издательской «машинерии» новых тип писателя: это учитель зла с рассудочной указкой в руке. Став «надежным деловым партнером» издателя и писателя, Ариман застает человеческое мышление в той переходной фазе, когда «старые», естественнонаучные идеалы уже исчерпаны, а новые – и на все последующие времена – духовно-научные истины еще не освоены. Это как раз тот «нужный момент», когда активное вмешательство сил смерти может повернуть человеческую эволюцию вниз, направить ее в подматерию, навсегда привязать человечество к трупу земли. Вот откуда эти «загадочные» Ничто: никакого Духа ни до, ни после. Закрытый для Духа, для взаимодействия с Ангелом, а через него с Народным Архангелом и с правящим эпохой Духом времени, одинокий в целой Вселенной, человек обрекается Ариманом на роль рассудочной машины марки «дженерейшн П».
Вот почему борьба за язык, за одухотворенность языка ангелическими идеалами, есть борьба за будущее человека. Рудольф Штейнер не раз указывал на то, что победить Аримана можно только его же оружием, вырванным у него из рук, а это значит, человеку надо научиться мыслить, причем, не только рассудочно, но и созерцательно. Тот язык, в котором есть только пелевинщина, учит «рассуждать» вне морали, тем самым формируя агрессивное человеконенавистничество. Язык же, пронизанный лучами душевности народного фольклора (язык пушкинской няни), прокаленный духом истинной религиозности, служит человеку несокрушимой опорой во всех испытаниях жизни, наполняет жизнь неистребимым смыслом.
Среди филологических и отчасти музыковедческих «загадок» по сей день остается феномен «убедительности» советской песни. Откуда, собственно, взялись такие хорошие песни в такое никудышное время? Сталинский гимн («Союз нерушимый») перешел в пользование новой, «перестроечной» эпохи, оставаясь шедевром музыки и текста, и в этом и подобном ему символах лагерного социализма (к примеру, в «Марше энтузиастов», в песнях «Не спи, вставай, кудрявая» и «Широка страна моя родная») присутствует, бесспорно, захватывающая энергичность, русская широта и распевность. Это, казалось бы, нисколько не вяжется с тем сатанинским презрением, с которым советская власть громила русскую деревню, попутно уничтожая все, что могло еще связать человека с землей (чего стоит одна только расправа «культурных комиссаров» со слепыми украинскими бандуристами, предательски собранными на съезд и расстрелянными). Но русская душа устроена так, что одухотворяться ей надо именно от земли, а не от зовущих «в небо» абстракций «научного коммунизма», и «культурные комиссары» распорядились насчет таких «песен», которые звали бы в то или иное «прекрасное далеко» и были «на уровне» всамделишного идеала, истребление которого была одной из главных задач советской власти. Для этого имелся мастерски освоенный советскими комиссарами и виртуозно применяемый ими способ: украсть то, что было уже создано, причем, ради самых возвышенных целей, украсть и переиначить. Так, слушая бетховенскую «Апассионату», Ленин распорядился считать ее «нечеловеческой музыкой», видимо, примеряя свои агитационные «громы и молнии» к недосягаемому для преступно организованного ума величию бетховенской души. Сказано-сделано: Бетховен стал считаться «своим», как бы даже «революционным», и уж точно «лояльным» по отношению к агрессивно красному цвету советского флага.
Совсем иначе обстояло дело с Рахманиновым, находившимся, кстати, в зените своей мировой славы как раз в годы сталинских новостроек и коллективизаций. Рахманинова в России как бы «не замечают», он вроде бы и не в «духе времени», с его «непонятливостью» грандиозности задач советского строительства. С другой стороны, имевшиеся о Рахманинове «мнения» исходили в основном из одного «проверенного источника»: из многочисленных и многотиражно издаваемых «научных трудов» музыковеда Асафьева, в свое время выпросившего у Рахманинова каталог всех его произведений с целью их последующего «осмысления». И это «осмысление» заключалось в том, чтобы найти те «доказательства вины», на основе которых можно гения «засудить», и они были найдены: в языке композитора была обнаружена непонятная, неизвестно откуда пришедшая грусть, глубокий, не соответствующий «текущему моменту» трагизм, «беспричинные» прорывы световой мощи на фоне полного одиночества, не говоря уже о звучащих повсюду колоколах… Язык Рахманинова был той огромной опасностью для большевизма, той не нуждающейся в «доказательствах» истиной, с которой большевизм бороться не мог: здесь человек становился духом, становится Христом. Поэтому Рахманинов оказывается в значительной мере изъятым из обращения, в связи с чем появляется возможность безнаказанного и не узнанного никем плагиата: с него просто делают, в зависимости от нужны, «копии». Так возникает явление «советской песни»: сворованные рахманиновские интонации, питающие иллюзию «задушевности». Причем, украдено у Рахманинова было только то, что годилось для «прославления» социализма, тогда как сам рахманиновский дух, с чего невозможно было снять копию, игнорировался. Игнорировалось как раз знание надвигающейся катастрофы: язык Рахманинова освящен пониманием скорой гибели России. Это – знание, принесенное Самодухом, отражающее образ Народного Архангела, внешне выступающий как пейзаж России. Рахманинов воспринимал дух от самой русской земли: исходящий от нее свет Вот почему лишь единицы могут вживаться в смысл его музыки: она познается лишь в миг восхождения, в миг наполнения души импульсом Христа. Язык Рахманинова есть плод его слияния с Ангелом: в нем просматриваются будущие контуры русской души, в которой зреет Самодух. Тот образ Христа, который изображает в своей деревянной скульптуре Рудольф Штейнер, состоит в глубоком внутреннем родстве с просветленными, трагическими, исполненными космического смысла рахманиновскими образами: образ человека, распятого на своей материальной природе и устремленного из последних сил к Духу.