Читать книгу "Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь"
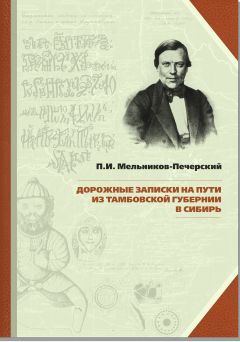
Автор книги: Павел Мельников-Печерский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Дорога от Соликамска к Усолью, как я сказал уже, идет лесом, прямо, почти без малейших изгибов. Полная луна освещала нам путь, и длинная тень от нашего экипажа бежала за нами. Легкий ветер колыхал деревья: ветви величественных кедров, переплетясь с мягкими ветвями лиственниц и со смолистыми вершинами елей, тихо качались, и так как мы ехали без докучливого колокольчика, то слышали, как единообразный шум их движения напевал свою мелодичную песнь. Двумя черными стенами тянулся лес перед нами, редко прерывались эти стены. Иногда только попадались нам то ложбина, покрытая болотами, то обгорелые деревья во время последних лесных пожаров. Проезжая болотистыми местами, мы увидели густые испарения, которые, поднимаясь кверху, то будто белым полотном покрывали землю, то, как дым поднимались в воздух и разливались перед месяцем фантастическими фигурами. Лунный свет проникал сквозь эти легкие струи, и лучи его через эту дымку тумана светили и бледнее и заунывнее.
Но вот над болотистой ложбиной, далеко-далеко от нас, засветился огонек; сперва мы принимали его за свет из хижины поздно засидевшегося лесного сторожа. Но вот он растет больше и больше; изумрудные и рубиновые его отблески увеличиваются; скоро он превращается в большой огненный клуб, искры сыплются с него, будто с раскаленного добела железа под тяжелым молотом. Каждая из этих искр дробится на тысячи светлых точек, и огненный дождь рассыпается вдали по болоту. А шар растет больше, поднимается выше. Уже можно видеть, как клубятся частицы пламенные в его внутренности, как из середины его вылетают пряди голубых, сернистых огней, быстрых и ярких, как молнии, и как эти пряди, наматываясь на ядро метеора, увеличивают объем его. Вот еще минута, две, и с быстротою мысли несется в пространстве: какой-то свист и гул сопутствуют ему. На ту пору бледный месяц спрятался в темно-лиловую тучу, будто страшась ослепительного света нового светила, а огненный шар промчался впереди нас, рассыпая за собой миллионы искр. Он мчится, и вот – на месте его целое облако звезд; они заклубились, смешались и мигом потухли, дробясь поминутно все мельче и мельче… Лошади шарахнулись, ямщик приостановил их, снял шапку, перекрестился и потом, косясь на то место, где исчез метеор, проворчал сквозь зубы: «Шайтан проклятый! Не выведешься из этого места!»
– А давно ли он завелся здесь? – спросил я, вслушиваясь в его суеверное восклицание.
– Давно, кормилец; и деды-то говорят, что все на этом месте живет он. Инну ночь раза по два летает, прости господи. Так уж нечистое место, да и все тут. Что будешь делать?
До сих пор разговорчивый, веселый песенник, он теперь приутих, приуныл, только изредка шептал молитву или набожно крестился; только изредка понукал лошадей, которые все еще пугались, все еще вздрагивали при малейшем шорохе.
На рассвете уже мы переехали Каму и возвратились в Усолье. На другой день мы были у Ф. А. Вол-ва и сказали ему, что нам бы хотелось поскорее отправиться в Пожвинский завод. Ф. А., после долгих упрашиваний остаться еще на несколько времени в Усолье, предложил нам до Пожвы ехать вместе с ним. Мы уговорились ехать водою до деревни Питера, от которой только десять верст останется до Пожвинского завода. После обеда катер наш отвалил – мы поехали вниз по Каме. Прощай, Усолье! Спасибо тебе за привет и ласки!
Прекрасно сделали мы, что поехали водою: и приятнее и покойнее, и как еще покойнее! Дорога по правой стороне Камы, из Соликамска в Глазов, уничтожена, и по ней проезд почти невозможен. Нам надобно было бы воротиться в Романово, и из этой станции ехать до питерского перевоза самой дурной дорогой. Здесь идет дорога болотом; она была когда-то выложена фашинником, но теперь совершенно запущена и требует значительных поправок. Дорога эта не почтовая, и потому заводчикам надобно было бы для своих же выгод озаботиться об устройстве ее. Поправка ее будет стоить около 50 000 рублей ассигнациями. Все знают важность этой дороги, необходимой для сообщения заводов, на правой стороне Камы лежащих, с заводами Кизеловским и Александровским; все знают, а никто ничего не делает: один управитель ссылается на другого, другой на третьего и так далее.
Едва скрылось из глаз наших Новое Усолье, как мы увидали на правом берегу деревню Гурдино, принадлежащую гр. Строганову и заключающую в себе 25 домов. Жители ее работают на новоусольских варницах. В этой деревне находится самая глубокая рассолоизвлекательная труба и устроена пильная мельница на две рамы.
Берега живописны. Что ни поворот катера, то новый пейзаж. Полдень. Солнце чуть-чуть не с самого зенита бросает раскаленные лучи свои, которые, скользя по воде, золотят ее. Поверхность Камы покрыта всеми возможными переливами света лазури и зелени, отражающейся у берегов. Тихо. Зной полудня навел на природу какую-то томную лень: разгоряченный воздух недвижим, и ветер даже не рябит воды.
Лишь изредка он шелохнет кустами ивы или черемухи, которые каскадами падают с берега в воду и своими фестонами осеняют сыпучий песок и мелкие гальки. Ветерок тронет гибкими ветвями, и они закачаются; концы их, опущенные в воду, начнут полоскаться в ней, но все тише и тише, до тех пор, пока не перестанет колебание, пока струи, описывающие широкие полукруги, совсем не сгладятся в зеркальную поверхность. Только говор людей на катере, мерное плесканье веслами и звонкая песнь жаворонка, летающего над ближними полями, нарушают тишину… Чудная картина! Да, хорош Божий мир. Посмотрите на него хорошенько, попристальнее, вы увидите, как хорош он. А есть люди, которые говорят, что им надоел свет. Что за люди они? Смотрели ли они на Господне творение так, как надобно смотреть на него? Нет, привыкнувший к красотам природы глаз их не заметил красот этих, не провел в их сердце чувства небесного удовольствия, в душу – глубокого удивления, в ум – совершенного сознания своего ничтожества перед Творцом. А как высоко это удовольствие, как приятно это удивление, и даже самое сознание своего ничтожества, столь горькое для ума горделивого, сладко для того, кто не меряет Божьей беспредельности своей ограниченностью? «Все обыкновенно, – говорит горделивый ум. – Все так известно в этой природе». Но пусть посмотрит он на этот ежедневный, и потому только для нас обыкновенный, шар света и теплоты; пусть подумает разгадать его тайну. Солнце греет, это мы чувствуем, но для чего оно греет, почему оно греет? Солнце каждый день восходит, заходит – мы это видим, но для чего оно заходит и восходит? Кто разгадает эту тайну, кто поймет высокую идею Творца, которую выразил Он в Солнце? Для чего назначил Он это светило? Согревать, освещать Землю – ничтожный ответ на высокий вопрос. Да что Земля-то наша, эта пылинка в беспредельности миров? Неужели Солнце, разливающее свою благотворную силу на семнадцать, а может быть, и больше, тел небесных, только для того явилось в мир, чтоб освещать Землю?.. О, гордость человеческая! Она хочет только-то поставить выше всего, что близко к телу человека.
Но вот гора, которая издали кажется, будто выдалась в Каму, а теперь движется постепенно назад, прижимается к берегу. Поворот катера, несколько ударов веслами – и она уже стоит вровень с остальным берегом. За нею открылась ложбина, и там небольшое село с каменной небольшой церковью.
– Вот Орёл-городок, – сказал мне Ф. А., – вот прежде бывшая столица Строгановых. Здесь жил Аника до своего пострижения, здесь жили потомки его. Сюда пришел Ермак с просьбою о помощи; отсюда отправился он на покорение царства Сибирского; около этих мест был Кергедан.
«Так вот Орёл, – думал я, – сколько исторических воспоминаний! Так вот это селение, триста лет тому назад построенное в стране лесов и болот, в стране, которую давно уже оставили люди с гражданственностью. Вот семя населения здешнего края, которое, вырастивши столько заводов, столько богатых селений, само так незначительно, так невидно!» Посмотрите: церковь очень обыкновенная; десятка три крестьянских домов самой обыкновенной физиономии – и только. Где же палаты владетеля Пермского края? Где крепость, построенная от набегов диких соседей? Где первые варницы, заведенные здесь? – Ничего нет. Где памятники старины? – Их нет: они исчезли, погребены во времени, и, если бы не история, никто бы не догадался, что это маленькое село Орёл есть тот Орёл-город, о котором столько преданий и исторических, и неисторических носится до сих пор в народе[146]146
Любопытное предание об основании Орла передано в четвертой статье «Дорожных записок».
[Закрыть]. Ни одного камешка не осталось, который бы напомнил вам об орловской былине. Ах, нет, виноват, остался же один камень. У Ф. А. я видел орловский кирпич.
Он сказывает, что нашел его на поле, и, по его предположению, это остаток или палат строгановских, или печи варничной. Кирпич этот я видел: кирпич как кирпич, только вдвое больше нынешнего и гораздо крепче…
А как хотите, как-то досадно смотреть, когда от какого-нибудь места исторического не останется ничего, кроме обыкновенной деревни! Подъезжаете к этому месту, вспоминаете его историю, мечтаете: вот здесь-то, может быть, такой-то вел полки свои, вот здесь-то он, может быть, сиживал и обдумывал то дело, которое прославило имя его, – думаете, думаете; воображение ваше разыгрывается, нетерпение увидеть поскорее это место увеличивается более и более; мысль ваша уже опередила вас, она уже там, на месте. Но вот и существенность ваша на месте, и что же? Мечты разлетелись, как дым, а сердце, радостно забившееся, когда приближались вы, бьется уже досадою. Такою досадою билось и мое сердце, когда я увидел Орёл. Да, Орёл есть семя населения Пермского края в полном смысле этого слова. Принесло оно плоды обильные, а само превратилось в пыль. Так и всегда, так и во всем; так в мире нравственном, так и в мире физическом. Явился зародыш великой мысли в душе человеческой: он, еще неясный, еще несовершенный, развивается, сознает жизнь свою, укореняется в душе, бросает ветви свои в ум и сердце – и вот родился плод: мысль совершенная, высокая, полная философии и поэзии, вылилась в формы, какие придумал для нее человек. Мир дивится ей, любуется ею. А где тот зародыш, та мысль неясная? Нет ее, она отвержена тем, в душе которого созревала она. А в природе: от смерти зародыша всегда зависит жизнь целого. В этом случае справедлив Макиавелли: Bisogna che tu muori per revivere. Да весь-то мир что? В чем состоит жизнь его? В том, что, оставаясь одинаковым в целом, он беспрестанно изменяется в частностях. Жизнь его – вечная изменяемость. Семя брошено, принесло плод, плод пошел на семена. Вечная жатва, вечный посев!..
…Жители Орла приписаны к соляным промыслам, но так как село их довольно далеко от Нового Усолья (восемь верст), то они употребляются на доставку соли в Пермь и Нижний. Летом в Орле остаются только женщины, старики и дети; все прочие уходят на ладьях. Они берут за проезд до Нижнего и обратно по 30 рублей и более…
Место, где находится Орёл, называется также орловским волоком; на этом-то волоке построен был Кергедан. Проехав четыре версты от Орла, мы увидели село Таман, принадлежащее графу Строганову. От Тамана на низ пойдут горы, каких не видели мы от самой горы Пыскорской. В этих горах находится медная руда – главная порода в них песчаный камень, проникнутый медною рудою. Этот песчаный камень гораздо плотнее и зерна его гораздо крупнее в сравнении с песчаным камнем, находящимся в рудниках Мотовилихинского, Юговского и других прикамских медеплавильных заводов. Притом самая руда более встречается так называемыми гнездами, нежели ровными пластами. Попадалась и самородная медь в так называемом тонко-налетном виде, в камнях известковой породы, которые были проникнуты частицами меди, и, наконец, в виде агрегатов, которые простой народ называет «куреть». Самородки и агрегаты составляют главное отличие руды этих гор от той, которая находится ниже по Каме.
В Тамане, в 1726 году, по открытии здесь медных руд[147]147
Впрочем, из наказной памяти гостиной сотни торговому человеку Ивану Онофреву видно, что существование медных руд здесь известно было ранее половины XVII столетия. Эта память дана 1643 года, а в ней уже говорится о медном производстве на Григорове-горе и на Кужгорте, что на реке Яйве.
[Закрыть], устроен был медеплавильный завод по указу главного правителя казанских и сибирских горных заводов, майора де Геннина. Но он в 1774 году был закрыт по недостатку руд. Строение заводское уже давно совершенно разрушилось. Жители Тамана причислены к промыслам, но исправляют только внешние работы, т. е. смотрят за уборкой полей, приплавляют из магазинов дрова и т. п.
Потом мы проехали мимо деревни Усть-Кондас; она стоит на устье речки Кондас. Может быть, на этом месте было какое-нибудь поселение древнейших поселенцев этого края. «Кон» по-пермяцки значит «ставка, шатер», «дас» – «десять», «кондас» – «десять шатров». Мы миновали деревню Быструю, с которой начинается владение Всеволожского, село Городище, и пристали у перевоза в Питере. Лошади уже дожидались нас, и мы тотчас же отправились в Пожвинский завод, до которого оставалось только десять верст. К вечеру мы доехали до этого завода.
Пожвинский, или Пожевской, завод находится на реке Пожве[148]148
«Пожева» значит «решето», «вода». В одной из следующих статей я составлю изъяснение рек и речек Пермской губернии.
[Закрыть], которая впадает в Каму. Он принадлежит г-ну Всеволожскому и замечателен по своему устройству. Везде действуют пары; машины так хороши, удобны. Сперва заведена была здесь термолампа, но после того, как от нее произошел пожар, ее оставили. При заводе есть англичанин-механик, который надсматривает над машинами.
Этот завод основан в 1756 году по указу государственной Берг-коллегии на землях, купленных у баронов Строгановых. В 1777 году в нем находилось уже две фабрики с восьмью медеплавильными печами; руды медные доставлялись с близ находящихся рудников; ежегодно добывали до 290 пудов чистой меди. Впрочем, вскоре этот медеплавильный завод был закрыт: поблизости находившиеся руды истощились, и владелец завода почел лучшим завести завод железоплавильный, потому что железную руду удобнее можно было доставлять, нежели медную, несмотря на то что она находилась в отдаленных Кизеловских дачах. Из Кизеловских дач можно приплавлять ее по реке Яйве, а медную руду надобно было бы возить сухим путем через значительное расстояние. В 1794 году построены были две доменные печи, для проплавки руды железной, а вскоре после этого пятнадцать кричных молотов и тридцать горнов для превращения руды в железо. Через шесть лет после этого, в 1800 году, здесь уже выплавлялось чугуна от 117 000 до 177 000 пудов и выковывалось железа от 83 000 до 120 000 пудов. Сверх этого тут же устроены были фабрики якорная, слесарная, кузнечная, на которых приготовлялись разного рода поделки для производства соли на новоусольских промыслах и для отправки ее водою. В то время еще была в Усолье и Всеволожского часть. Устроена была также плющильня, или катальня, для производства листового железа, которое, однако, не шло в продажу, а употреблялось только на црени в соляных промыслах. Кроме того, были разрезная фабрика, устроенная для разрезывания полосового железа на сортовое, и проволочная. При заводе тогда считалось 1646 человек мастеровых и 876 крепостных. После того Пожвинский завод пришел было в упадок, но в последние годы поднялся и теперь занимает первое место из всех камских заводов по чистоте отделки вещей, на нем делаемых, по машинам, по прекрасному разделению труда сил естественных (des agens naturels) и пр.
В настоящее время в этом заводе находится одна доменная печь и семь кричных горнов. Руда привозится из Кизеловских дач весною, в то время как Яйва разливается, а известь – с Лунежских гор, находящихся, как я уже говорил, около Полазненского завода. Расстояние до Кизеловских дач 140 верст, а до Лунежской горы 120. Известь возят летом Камою. Выпуск чугуна бывает два раза в сутки, каждый раз выпускается до 300 пудов. Для каждого выпуска потребно сорок коробов, или сто шестьдесят малёнок, угля. На Пожвинском заводе ежегодно добывается чугуна более 100 000 пудов, а железа 85 000. Для производства железоделательных работ устроена паровая машина в 36 сил, и в то время, как мы были на этом заводе, устраивали еще другую в 12 сил. К заводу этому принадлежит 114 000 десятин земли и 2000 душ крестьян. Кроме разных поделок и машин, здесь делаются прекрасные ножи, ножницы, которые, однако, далеко уступают завьяловским[149]149
Завод Завьялова находится в Нижегородской губернии, Горбатовского уезда, в селе Павлове.
[Закрыть], также различные сельские орудия: косы, топоры, серпы и прочее. Но главное производство состоит в приготовлении полосового, листового и сортового железа, которое частью продается в Пермской и Вятской губерниях, частью отправляется водою на Нижегородскую ярмарку. Устраивают также разные машины. Сказывали, что в прошедшем году устроен был здесь и отправлен в Санкт-Петербург паровоз «Пермяк».
На близлежащем от Пожвинского завода Елизаветопожвинском заводе, устроенном на той же реке Пожве в 1798 году и имеющем в себе четыре кричные горна, получается железа полосового, сортового и листового до 50 000 пудов в год. Оба эти завода имеют 104 300 десятин леса, из которого жгут уголь. Впрочем, здесь заботятся и об отыскании каменного угля. Еще в 1820 году в Кизеловских дачах Лазаревых и Всеволожского был найден каменный уголь. Тогда в одну весну на берегу Косьвы и близ Губахинской пристани было добыто его до 7000 пудов на глубине 5 саженей. Он найден хорошим и весьма удобным для производства работ, но по незнанию, как обрабатывать и как употреблять его, добывание его было остановлено. После того находили еще в разных местах около Кизеловских дач каменный уголь, испытывали его, разлагали[150]150
По разложении этого угля оказалось, что один кубический вершок весит 18 золотников, удельный вес его – 138. В одном кубическом вершке заключалось чистого угля 506 гранов; твердой гальковой земли – 307 гранов; углеродного и углекислого газов – 247 гранов; воды – 136 гранов; глины – 51, смолы – 8 гранов, аммиака – 2 грана, сернокислой извести – 2 грана, железного окисла – 1 /2 грана, марганцового окисла – 1/3 грана и признак серы. Всего – 1260 гранов.
[Закрыть], но не ввели в употребление. Желательно было бы, чтоб обратили на это больше внимания[151]151
Об этом каменном угле, о способе его добывания и пр. видел я в селе Ильинском у г. Вол-ва сочинение, из которого сделал извлечение о разложении угля. Желательно было бы, чтобы он издал свое сочинение.
[Закрыть]…
…Когда я ехал на Пожвинский завод, я уже знал о его прекрасном устройстве, о его машинах и проч., знал, что там есть опытный английский механик, знал и наперед восхищался тем, что я узнаю весь ход железного производства на этом заводе. Что же? Здесь я так же обманулся, как и в Орле. Прихожу в завод, вижу прекрасный порядок, чистоту; совершенно не похоже на завод, в котором как-то неизбежна неопрятность. Увиделся с господином Т…, но он, кажется, принял меня за какого-нибудь заводчика, и хотя объяснял устройство завода, но неохотно, и притом отделывался двусмысленными выражениями, короткими ответами и объяснениями вещей, известных всякому профану. Угрюмый британец ходил с сигарой, важно посматривал на нас и отпускал иногда ответы с клубом дыма от сигары. Я говорил что-то о разделении труда на заводах, говорил, говорил и хотел узнать его мнение. Но мой британец посмотрел на меня, помолчал и важно ответил: «Th’one without t’other can do nothing».
Я едва мог удержаться от смеха. Отвечаю ему, что я и без него это знаю очень хорошо, но он и на это с той же стоической важностью отвечал: «I tell the truth». И молча начал докуривать свою сигару.
После уже узнал я некоторые подробности о Пожвинском заводе; а из Пожвы выехал решительно с тем же запасом горных сведений, с каким и приехал. Вообще, я довольно скучно провел время в Пожвинском заводе, и если бы не Ф. А. Вол-в, который не расстался еще с нами, и не П. П. П-ов, лекарь при заводе, я бы умер со скуки. С полным удовольствием сел я вечером в долгушу, чтоб отправиться в завод Чёрмозский. С Ф. А. мы расстались, уговорившись встретиться в селе Ильинском.
Чёрмозский завод,
июль 1839 года
Статья шестая
Дорога к Чёрмозскому заводу. – Пермяки. – Объяснение названий некоторых рек
…Ночь была прелестная. Я не назову ее итальянскою, – нет, в изнеженной Италии не знают таких ночей. Это была ночь севера, ночь, прекрасная по-своему, очаровательная только для питомца снегов и морозов. Горизонт не был покрыт синевой безоблачной, – нет, светло-голубая, как очи русской девушки, пелена раскинута была по своду небесному; разноцветные облака, освещенные лучами месяца, катились по небу тихо, как безмятежная жизнь сынов Руси. Светозарный круг около месяца переливался цветами радужными. Сыро. Роса поднялась и наполнила воздух влажностью: легкий северный ветер навевал не прохладу, а холод порядочный. Мы ехали лесом: вершины елей и пихт мелькали перед месяцем и казались какими-то существами фантастическими, пляшущими поверх леса. Колокольчик тысячью перекатов звенел под дугою; эхо громко вторило ему.
Несмотря на то, что это было в конце июля месяца, холод постепенно увеличивался и заставил меня приокутаться. Я прилег: тихое качанье долгуши, монотонный звон колокольчика и холод клонили меня ко сну. Я начал засыпать, вдруг слышу: молчаливый до тех пор ямщик наш звонким голосом запел заунывно:
Аэ да мамё оз любитё,
Соэ да вонё оз радэйтё —
Боста мэ, боста ноп сё,
Боста мэ, боста бёд сё,
Муна мэ, муна кузь туй кузя,
Воа мэ, воа сёд вёршэрё,
Вашка мэ, вашка ыжить кёз сё,
Кая мэ, кая ыжить кёз вылыз,
Визета мэ, визета ыжить вонёз.
То есть:
Отец и мать не любят,
Сестра и брат не уважают (меня) —
Возьму я, возьму котомочку,
Возьму я, возьму дубиночку,
Пойду я, пойду по долгой дороге,
Буду я, буду в чёрном лесу,
Ударю я, ударю в большую ёлку,
Взлезу я, взлезу на верхушку ёлки,
Увижу я, увижу я большого брата.
– Что это за тарабарская песня? – спросил меня мой путевой товарищ. – Если я не ошибаюсь, так этот ямщик вязниковец и пел офеньскую песню.
– Не думаю, – отвечал я, – язык офеньский составлен по формам русского, а в его песне грамматика, кажется, своя… Ты не русский? – спросил я певца.
– Пермяк, батюшка.
Прекрасно! Так вот пермяцкий язык, а я слышал от многих, что пермяки забыли язык свой и говорят по-русски. Принять к сведению и на станции попросить его, чтобы он продиктовал свою песню! Теперь же не до расспросов – ветер свежел, и мне становилось очень холодно. Я окутался сколько было возможно и, дрожа всем телом, засыпал под шум леса, под звон колокольчика и под звуки пермяцкой песни:
Ульдёрас миё сёд вёрас вэтлымё,
Ту и с дырьян сёд ягёд ёктымё,
Тусэн мёдём босьталым да сёим,
Вэс боршикинёй, батюшко!
Ты вужеттан, вужеттан мёнэ
Мёдла пёлас кэдраыс сулалё —
Кэдра ултес кроватясь шогмисё,
Кроватясь ныл да зон куйлоны
Ныя гусэн мыйкё баитынё
Мёне сэтшэ жэ корэны…[152]152
Слова, напечатанные курсивом – русские: «мамё», «любитё», «ягёд», «батюш-ко», «ты», «мёнэ», «кэдра», «кровать», «баита» (от провинциального слова «баять», не употребляемого, впрочем, простолюдинами Пермской губернии). Перевод сделан слово в слово.
[Закрыть]
То есть:
Под лес мы чёрный ходили,
Туисы[153]153
Туис – пермяцкое слово, значит «бурак», употребляется в Пермской губернии и в настоящем его значении, и в переносном. В переносном оно означает ругательное слово, равносильное слову «болван».
[Закрыть] полны чёрных ягод набрали,
По ягодке одной собирали и съедали.
Добрый перевозчик, батюшка, —
Ты перевези, перевези меня:
На той стороне (реки) кедр стоит,
Под кедром кровать поставлена,
На кровати девица и молодец сидят,
Они тихонько между собою разговаривают,
Меня к себе же зовут…
Конца песни я не слыхал: сон одолел меня… Я не слыхал, как переехали мы через Иньву, которая протекает в 15 верстах от Пожвинского завода.
…Утро. Солнце только что взошло, небо чисто, туман редел и росою ложился на листья, которые бриллиантовыми огнями горели и блистали.
Перед нами в большой ложбине показался Чёрмозский завод. Какое большое селение! Направо расстилался огромный пруд, противоположные берега которого были опушены кустарником. Солнце пересыпало алмазы и рубины на поверхности пруда; из трубы завода валил дым и желтоватыми лентами клубился в воздухе; огненные столпы, которые при первых лучах солнца казались бледно-желтыми, стояли над трубами, и вокруг них рассыпались дождем искры.
Мы остановились на отводной квартире, и в то время, как начали пить чай, я послал за извозчиком-пермяком, который так заинтересовал меня своими песнями – силанами, как говорил он.
Пермяк вошел.
– Ты здешний?
– Нет, барин, я нездешний.
– Откуда же ты?
– Далека.
– Зачем же здесь?
– Пошту гоняем.
– Из Юксеевской волости, что ли?
– Нет, барин, не Юксеевская. Юксеевская – далеко еще. Здешний уезд, деревня Горт-Луд есть.
– Так ты из Горт-Луда?
– Да, барин, Горт-Луда я.
В это время мой спутник сделал мину удивления, отставил свой стакан чая и потом, приложив палец ко лбу, задумался… Я случайно встретился с этим спутником, решился вместе с ним поездить и не раскаялся: прекрасный, веселый человек, без всяких претензий, столь тягостных во время путешествий. Говоря с ним иногда об истории, я заметил, что он был величайшим врагом современного направления этой науки и ревностным защитником исторической этимологии. Для него было бы только сходство в словах, а то он, пожалуй, изобретет вам гипотезу о сношениях чукчей с готтентотами и начнет выводить такие теории, что уши завянут. Далина считал он первым историком в мире.
«Горт-Луд, – вскричал он после минутного размышления: – Горт-Луд! Послушайте, П. И., ведь это отзывается, так сказать, Скандинавией… Да… это должно быть так… Горт-Луд должно быть селение скандинавов».
Пермяк, не понимавший ни слова, смотрел с удивлением на неистового историка, которому он подал такую богатую мысль, – смотрел на него подгорюнившись и не говорил ни слова.
– Что же мудреного! – отвечал я на слова М. (так назывался спутник мой). Известно, что здешние страны были под влиянием норманнов: быть может, эти смельчаки и имели здесь какие-нибудь притоны, подобно как Ладогу в Руси; эти притоны уцелели.
– Нет, нет, не то я думаю. Знаете ли? Я почти уверен, что Горт-Луд есть поселение норманнов, или справедливее – скандинавов, которые имели сношение с Пермью. Знаете о путешествии Отера? Не об этом ли он говорит? – Да, да, здесь поселились норманны, или справедливее – скандинавы; из Горт-Луда владели они окрестными землями, отсюда собирали они дань с окрестных народов серебром закамским и золотом, мехами зверей сибирских и…
Я прервал поток исторического красноречия.
– Ну, хорошо, хорошо, m-r М. – вы, конечно, напишете об этом рассуждение, я прочитаю его в печати, а теперь надобно его отправить.
– Да, да, может быть… Нет, непременно напишу – славный предмет, любопытный факт. Этого нет даже и у Далина…
Я не прервал потока исторического красноречия М., нет, я только запрудил его: снова наполнился он водянистыми гипотезами и с шумом полился, ломая на пути своем и историю, и географию, и хронологию, и филологию – все, все, не исключая и здравого смысла. Я оставил в покое М. и обратился к пермяку.
– Спой или скажи мне твою давнишнюю песню, – сказал я ему.
Пермяк заупрямился было; какая-то застенчивость не позволяла ему запеть в комнате: но четвертак в руку – и бедный коми-утир залился песнями, которые я тут же списал. После, в Перми уже, достал я грамматику и словарь языка пермяцкого и перевел эти песни.
Между тем как пел уроженец норманнского селения, М. вслух нес свой вздор исторический.
– Нет ли у вас каких-нибудь сказок? – спросил я пермяка, когда он кончил свое пение. – Я думал, не найду ли чего-нибудь исторического в сказках пермяков. – М. поймал вопрос мой и с жаром неистового историка вскричал:
– Ах, в самом деле, в самом деле! У этого народа должны сохраняться предания. Я наперед думаю, он расскажет нам эпопею о поселении скандинавов в Биармии.
– Как не быть сказка, – есть вистасем.
– Что такое вистасем?
– Ну – русская сказка, а наш пермяцка – вистасем[154]154
«Вистасем», собственно, значит «сказочка» – форма уменьшительная.
[Закрыть].
– Говори же, говори поскорее, скажи нам самую лучшую, какую у вас рассказывают.
Пермяк начал:
«Бобёй, бобёй кытшэ вэтвин?»
– Чожэ гуё вэтви.
«Мый да мый сёин?»
– Виэн нянён сёи.
«Мэим колинья?»
– Коли тай.
«Пэшви тай, да абу?»
– Надь то сёд пон сёис.
«Кытён сёд поныс?»
– Сювьё пырэма.
«Кытён сювьёйс?»
– Биэн сотшэм.
«Кытён биис?»
– Ваён кусём.
«Кытён ваыс?»
– Сэра ёшка юём.
«Кытён ёшкаэс?»
– Вуд вывё каэм.
«Кытён вудыс?»
– Быйкёп шир пырётём.
«Кытён ширыс?»
– Налькьё шэдём.
«Кытён налькыс?»
– Лёк тшэрён кэрасём.
«Катён лёк тшэрыс?»
– Лёк зудъэн лямсен.
«Кытён лёк зудыс?»
– Брус вывё пуктёмас,
Сысянь усэм да шери тшэгём.
«Кытён торъёс?»
– Эн гёгёр тшапкы сём.
Вёлыс тшаньнас гёрёвтём,
Мёсъыс куканьнас бакёстём,
Порсис пиян иас выкёстём,
Баляыс дзельнас бакёстём. —
Ыбъвылын сэра кай,
Вадёр дорын гора кай.
То есть:
«Бабочка, бабочка,
где ты побывала?»
– Ненадолго в погребе была.
«Что да что ела?»
– С маслом хлеб ела.
«А оставила ли мне?»
– Оставила там.
«Я посмотрела там, да нет?»
– Видно, чёрная собака съела.
«Где чёрная собака?»
– В костицу ушла.
«Где костица?»
– Огнём сгорела.
«Где огонь?»
– Водой погасили.
«Где вода?»
– Пёстрый бык выпил.
«Где бык?»
– На лужайку ушёл.
«Где лужайка?»
– Всю мышь ископала.
«Где мышь?»
– В ловушку попала.
«Где ловушка?»
– Злым топором истреблена.
«Где злой топор?»
– Злым брусом иступлен.
«Где злой брус?»
– На грядку положили,
Оттуда упал и переломился.
«Где части (обломки)?»
– Кругом неба разбросаны.
Лошади с жеребятами ржали,
Коровы с телятами ревели,
Свиньи с поросятами визжали,
Овцы с ягнятами ревели,
На полях пёстрая птичка,
На краю берега
голосистая птичка.
– Ну, скажи же эту сказку по-русски, – сказал М. пермяку, когда тот кончил ее; а сам взял лист бумаги и готовился писать эпопею!
Пермяк немножко позамялся, когда должен был исправлять должность переводчика, наконец, кое-как, слово за словом, начал переводить сказку. У М. с каждым словом пермяка лицо, и без того длинное, вытягивалось. Он разорвал в клочки свою бумагу, на которой начал было писать переводы поэмы, очень похожей на русскую, которую я слыхал в детстве:
Пошел козел за лыками,
Пошла коза за орехами,
А где орехи? и проч.
– Что, какова эпопея? – спросил я его. – Я думаю, что и «Рамаяна» и «Илиада» пустое дело в сравнении с этою! Да знаете ли что, не «Эдда» ли это, занесенная в Биармию норманнами? Оно ведь вероятно: норманны здесь имели поселения…
В досаде на историю и Скандинавию, на сказку и пермяка, и больше всего на меня, схватил М. шляпу свою и ушел из квартиры. Я отпустил пермяка и записал кое-что о пермяцком народе.
Пермяки называют себя гоми-утюр, или коми-утир, то есть камскими людьми. Отчего они называются пермяками, об этом было много толков. В Пермской губернии есть предание, что это имя получили они от богатыря своего Пери, – предание, не имеющее вероятия. Говорят, будто этот Перя жил во времена Иоанна Васильевича Грозного, будто силою своею славился между единомышленниками, будто жил он на Каме, верст пятьдесят повыше нынешнего села Гайны. Прибавляют, что этот Перя показал ближайшую дорогу в Сибирь одному русскому промышленнику и снабдил его съестными припасами на дальний путь; что этот промышленник, возвратясь в Русь, стал рассказывать соотчичам о силе и добродушии богатыря пермяцкого, что весть об этом достигла до Москвы, и царь сам захотел видеть Перю-богатыря. Посланы были за ними посланцы; явился Перя ко двору царскому, удивил царя и бояр своею силою необычайною. Грозный дал ему сети шелковые для ловли соболей и грамоту несудимую за собственною подписью. Принес Перя свою грамоту на родину; но воеводы великопермские понаскучили тем, что дети и правнуки Пери ссылались часто на эту грамоту, и постарались истребить ее. Г. Лепёхин верит этому преданию и тому, что пермяки от Пери получили свое название[155]155
См. Лепёхина «Путешествие…». Ч. III. С. 196.
[Закрыть]. Вероятно, он не знал о норманнском названии этой страны – Биармия, и о новгородских грамотах, в которых гораздо ранее Иоанна Грозного встречается имя Перми; не знал и о том, что, когда пожалована была Печора фрязинам, тогда эти владельцы брали для себя подводы из Перми – со времен Иоанна Калиты, кажется, до конца царствования Дмитрия Донского[156]156
Еще у Нестора встречается имя Перми; потом это название является в древнейшей новгородской грамоте (договорной с Ярославом Ярославичем 1264 года), в которой сказано: «…а се, княже, волости новогородскые: Волок… Перемь, Печера…» (см. «И. Г. Р.». Т. IV. Пр. 107). Впоследствии Печорой владели Матвей и Андрей Фрязины, а в Перми брали подводы, кажется, еще с 1328 года и, может быть, до конца XIV столетия (см. грамоту В. К. Дмитрия Иоанновича по № 6 в I томе «Актов собр. арх. эксп.»). Потом в числе новгородских областей упоминается Пермь в договорных новгородских грамотах с Василием Васильевичем и Иоанном Васильевичем; последний раз в 1471 году, следовательно, за год до покорения ее Иоанном.
[Закрыть]. Предание, о котором сказал я, кажется, позднейшего сочинения и, вероятно, имело основанием открытие дороги Артюшкою Бабиновым, который получил за это грамоту безданную и беспошлинную[157]157
См. «Дорож. зап.», статья пятая, в «Отеч. записках». 184. Кн. 10.
[Закрыть]. Н. С. Попов, составивший в 1804 году «Хозяйственное описание Пермской губернии», думает, что названия «пермяк» и «Пермь» произошли оттого, что новгородцы, узнав прежде небольшие пермяцкия селения, называвшиеся «Перемь» или «Пармы», лежавшие ближе к Новгороду, стали и всю страну называть Пермиею[158]158
См. «Хоз. оп. Пер. губ.». Ч. III. С. 6. Это описание напечатано в первый раз в Перми в 1804 году, позже этого в Петербурге.
[Закрыть]. Может быть, это и правда: подобные случаи нередки в истории. Но надобно вспомнить, что еще прежде русских норманнам было известно название Бярмии и слово «Пермия». Пермь есть искаженное слово «Бярмия», «Беормия». Кажется, всего вероятнее следующая гипотеза: норманны делали иногда вторжения в государства финские, или чудские, основанные издревле на севере Европы и Азии особым племенем, вышедшим из Средней Азии; с этими же государствами они вели и торговлю. Государств чудских было много на всем пространстве от Лапландии до гор Алтайских, но все они имели между собою общую связь. Эти норманны проникли и в общество коми-утиров, то есть камских финнов, имели там притоны, которых имя норманнское до сих пор звучит в названиях некоторых деревень и сел пермяцких[159]159
Кудым-горд, Пешни-горд, Горд-Луд, Донкор и пр.; у всех этих деревень находятся остатки укреплений.
[Закрыть]. Норманны назвали коми-утиров горцами, а страну их Горною – Биармия, Беормия, Бярмия[160]160
У Иорнанда Brencas (в 23 главе). У скандинав. писателей Beormas.
[Закрыть] (от норманнского слова bairg, beorg – «гора»), потому что они жили у высоких гор Уральских. Впоследствии русские, слышав от дедов своих о Биармии, распространили на страну эту свое влияние и назвали ее Пермиею, исказив слово «Бярмия». Коми-утиры продолжают до сих пор называть себя коми-утирами, а название «пермян» им столько же приличествует, как чеченцам название «горец», как дейчерам название «немец» и проч. т. п. У них даже нет слов, близких к слову «Пермь», разве только «пырэма» – «уходить», и «парма» – «крест». Поэтому пермяки думают, что мы их зовем пермяками, переводя русское слово «крещеный».









































