Текст книги "Девять кругов любви"
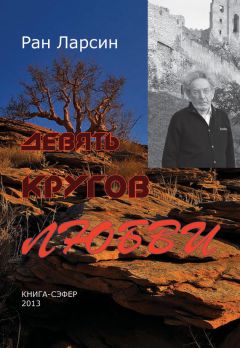
Автор книги: Рам Ларсин
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
– Жечь сердца людей!
Со временем Клара все больше прислушивалась – приглядываться было не к чему – к сенькиным неиссякаемым остротам, медленно влюбляясь в его сочный насмешливый голос своими маленькими розовыми ушами. Сенька же, почуяв свой час, заговаривал Клару на переменах стихами, скромно умалчивая об авторе, хотя после первого поцелуя признался, что это Гейне, но нехитрый обман не охладил девушку, которую поразило другое – как преображает Сеньку поэзия, стирая с несуразной физиономии то, чем в насмешку наградила ее природа…
Только сейчас Клара услышала хриплый мужской голос за перегородкой, разделявшей палату надвое.
– Кто это?
– Наверное, еще один больной, – сказал Андрей.
Она отпрянула от белой безжизненной маски на подушке:
– А может быть… Андрюша, может быть, он не здесь, а там, и это какая-то ошибка… – в ее запавших, янтарного цвета глазах бились искры безумной надежды. – Сенька не лежал бы спокойно, когда я рядом… Он всегда был в движении, вечно носился с какой-нибудь идеей, мог внезапно прийти с билетами на самолет…
Андрей с трудом усадил ее на место, и она продолжала:
– Знаешь, за границей Сенька словно сбрасывал с себя тяжелый груз, становился искренним, веселым, забавлял всех…
Клара попыталась улыбнуться.
– Позапрошлым летом мы полетели в Америку, и ему вздумалось купить настоящую ковбойскую шляпу. Это была групповая экскурсия, приходилось часто менять автобусы и самолеты – и каждый раз нужно было беспокоиться о том, как бы шляпа не помялась, не испортилась. Тут Сенька показал, на что он способен. Он, якобы забывая ее в гостинице, говорил администратору: если для меня придут письма, прошу переслать их на этот адрес. И что ты думаешь: едва мы прибывали, шляпа, аккуратно упакованная, ждала нас на новом месте. Вся наша группа участвовала в ее приключениях. По дороге составляли пари, пришлют ее или нет, и когда очередной служащий протягивал посылку ухмыляющемуся Сеньке, все умирали со смеху. Только в Лос-Анджелес, откуда мы возвращались домой, она не прибыла, и каждый из наших новых товарищей принес мужу свои соболезнования… На Новый год мы пригласили их к себе, в Иерусалим, и они пришли с подарком – точно такой же шляпой, а Сенька предъявил им ту, прежнюю, которую все-таки прислали нам честные американцы. Вот было веселье!
Слабый отблеск далекой радости как бы осветил изнутри ее усталое лицо…
Из-за перегородки вышла изможденная женщина в черном платке, наполнила под краном стакан и вздрогнула:
– Так это твой сын? Я слышала о взрыве, но не знала…
Она обняла мать Сеньки:
– Даст Бог, поправится!
Това смотрела на нее заплаканными глазами:
– А ты что здесь делаешь?
– У мужа случился инфаркт… Но ничего, ему уже лучше.
– У вас ведь сын – ровесник моего?
– Да, да, Илан. У него все хорошо, жена, дети такие чудные… Скоро должен прийти… проведать отца, – женщина отвернула в сторону темное, все в глубоких морщинах лицо. – Такой добрый, внимательный. Мы недавно справляли тридцать лет нашей свадьбы, так они приехали всей семьей, привезли цветы, подарки.
Она рассказывала это очень быстро, чуть шепелявя, как говорят выходцы из Ирана:
– А на мой день рождения Илан пригласил нас к себе, так было приятно… И знаешь, всегда звонит, спрашивает, как живем. Только был бы здоров, и твой сын тоже!
Вспухшие губы Товы вдруг произнесли горько:
– Счастливая ты!
– Я? – как-то испуганно переспросила та.
– Шальва! – раздался из глубины палаты хриплый голос, и она торопливо пошла на зов.
Там, за перегородкой, тихо беседовали, но сюда доносились только обрывки слов.
– Ты так научилась врать, Шальва, – говорил мужчина. – Илан даже не вспомнил о том, что у его родителей тридцатилетний юбилей. Так зачем обманывать всех?
– Стыдно, – прошептала жена.
– За что? Мы в нем души не чаяли, растили и лелеяли, как цветок, а Илан… Да он и сюда, в больницу, не придет. Просто не знает, что отец болен. Как ему знать, когда у него нет желания хотя бы по телефону справиться о нашем здоровье? Даже с праздником никогда не поздравит! Каждая семья собирается, чтобы быть вместе, порадоваться на внуков, – шеиhью бриим, и только мы с тобой часто сидим одни… – Муж застонал. – А знаешь, почему у меня сердце не выдержало? Я все эти годы сдерживался, чтобы… не проклясть его!
– Тогда прокляни и меня! – заплакала она. – Я его родила, моя вина!
Оба как бы захлебнулись в своем отчаянии.
– А может, – пробормотала Шальва, – мы сами не понимаем собственного счастья.
– Ты о чем?
– О том, что случилось с сыном Товы.
– Это ты у нас счастливая. А я… Прокляну! – закричал муж.
Андрей спросил громко, чтобы те услышали:
– Вам нужна помощь?
За перегородкой стало тихо.
В дверях показался санитар. Поманив Андрея, протянул ему толстую синюю книгу:
– Раненный все время прижимал ее к себе и отпустил только после наркоза.
Андрей осторожно положил Марка Твена на тумбочку. Великий юморист, заявивший когда-то, что слухи о его смерти сильно преувеличены, – сейчас, обожженный, в кровавых подтеках, был, наконец, мертв.
– Книги… – горько пробормотала Клара. – Среди них Сенька отдыхал душой. Закончив очередной сомнительный «гешефт», он бежал домой и очищался чтением. Часами читал мне Гейне, Байрона, Блока. А с рождением Ханалэ у него появилась новая жертва, которую он заморачивал всевозможными сказками, смешно представляя их в разных лицах. Я слышала как он в роли Маугли кричал волку: мы с тобой одной группы крови! – Клара наклонилась к лежащему. – Помнишь, Сенька? Ты не хочешь говорить? Тебе нужно, чтобы я почитала тебе Твена и не сказала о том, что знаю правду! Ведь ты видел этого араба, но решил не бежать и так покончить со всем – со своими мелкими делишками, с тоской по твоей России и главное – с обидой на меня. Молчишь?
В гневе она протянула руку к белой марле, закрывавшей голову мужа.
– Клара! – остановил ее Андрей.
Она произнесла опустошенно:
– Я так устала… Андрюша, почитай ему! Уж если это не приведет его в себя…
Андрей перелистал страницы – здесь, где они сильно скомканы, прервался рассказ о бандите, который просил священника помолиться о его убитом товарище:
«Вдруг лицо Скотти оживилось.
– Сейчас вы все смекнете, – сказал он. – Нам нужен человек, который на Библии собаку съел.
– Что такое?
– Мастак по Библии – ну, поп.
– А, вот оно что! Так бы и сказал сразу. Я и есть священник. Поп.
– Ну, это другой разговор! Вы меня поняли с полуслова, как настоящий мужчина. Вот и ладно, приятель! Начнем сначала. У нас, понимаете, передряга. Один из наших полетел с лотка.
– Откуда?
– Да с лотка же, дал дуба, понятно?
– Дуба?
– Ну да, загнулся.
– А! Отправился в ту таинственную сень, откуда нет возврата?
– Возврата? Хорошенькое дело! Я же говорю, приятель: он умер.
– Да– да, я понял.
– Ладно, коли понял. А на нем пора крест поставить, тут уж ничего не попишешь. Если вы поможете нам пристукнуть крышку…
– Произнести надгробную проповедь? Совершить погребальный обряд?
– Эх, хорошо словечко – обряд! В самую точку попали!.
– А скажите, – спросил священник, – усопший исповедовал какую-нибудь религиозную доктрину? Признавал ли он, так сказать, зависимость от высшей силы, чувствовал ли он духовную связь с нею?
Его собеседнику снова пришлось задуматься.
– Ну вот, опять вы меня в тупик загнали, приятель! Попробуйте-ка повторить то, что вы сказали, да пореже.
– Попытаюсь выразить свою мысль в более доступной форме. Был ли покойный связан с какой-нибудь общиной, которая, отрешившись от мирских дел, посвятила себя бескорыстному служению нравственному началу?
– Аут, приятель! Попробуй бить по другой!
– Как вы сказали?
– Да нет уж, где мне с вами тягаться! Когда вы даете с левой, я носом землю рою. У вас что ни ход, то взятка… А мне не идет карта, и все тут…»
Това вдруг подняла голову. Клара и Андрей тоже тревожно вслушивались в какие-то странные звуки – непонятные и пугающе легкие, которые, казалось, шли не из истерзанного сенькиного тела, а были голосом его души, уже далекой от земных волнений:
– Это очень смешной рассказ, – одобрил Сенька, но уже не на языке людей. – Почему же вы не смеетесь? Чувства юмора не хватает? Жаль, что я не прихватил О' Генри. Он, пожалуй, еще забавнее. У него есть такой эпизод – шериф говорит вору: только пошевели пальцем, и сразу получишь пулю в лоб. А тот отвечает: зачем мне шевелить пальцами, разве я глухонемой? Неплохо, правда? Да улыбнитесь вы, мама и Клара! И ты, Андрей! Мне так хорошо. Боль совсем прошла. Я словно парю в воздухе… А что со мной было? И где Ханалэ? Погодите, куда вы все исчезли? Вокруг темно и ни звука. Вы не слышите меня? Но я ведь не глухонемой… ха… ха… ха…
Глава девятая
Очень скоро он пожалел, что не взял такси и поехал сам по дороге, существующей, казалось, только на карте. Она то бодро бежала по песчанной равнине, то пропадала между холмами, и когда отчаявшийся Моше решил, наконец, повернуть назад, внезапно привела его прямо к цели.
Это забытое Богом место было рощицей облезлых эвкалиптов, среди которых стояли деревянные караваны, унылые и пустые. Все, кто мог двигаться, толпились поодаль, на старом кладбище, где из каменистой земли подымались пожелтевшие надгробья и одинокий кактус с загнутыми вверх колючими отростками, до странности похожий на семисвечник. А дальше, у края свежевырытой могилы, лежал Сенька, завернутый в белую простыню, словно сонно кутался от яркого солнца, как делал утром перед пробуждением…
И только теперь Моше понял, что предчувствие не обмануло его. Когда Юдит позвонила, чтобы сообщить о несчастии, он помолчал, опечаленный, потом спросил:
– Кто-нибудь там способен отпеть покойного?
Дочь не могла ответить ничего вразумительного, и у него вырвалось:
– Я приеду к вам!
Он сразу разволновался, еще не зная почему. Что-то в его мозгу, темное и насильственно задавленное, сопротивлялось этому решению. Однако, отступать было поздно.
– Еврей должен предстать перед Создателем ка-hалаха! – проговорил он, боязливо поглядывая вверх…
Раньше его отношения с Богом радовали Моше своей простотой и, как ему думалось, взаимной искренностью. Он делился с Ним ежедневными заботами, жаловался на ревматизм, на долгое отсутствие дождей, отчего осенняя одежда залеживалась в магазине, просил извинить небольшие грешки – завышение сорта кое-каких товаров, а также неспособность остановить свою руку, которая исподволь касалась груди молоденькой продавщицы.
Тот снисходительно слушал, обещал скорое похолодание, грозил в следующий раз строго наказать за обман и блуд, и в конце концов отпускал с миром, хотя оба помнили сказанное Коhелетом: «То, что было, то и будет».
Но однажды Моше с ужасом понял, что заблуждался – в ту ночь, когда «это случилось» и Орли, его девочка, погибла под обломками рухнувшей стены. Страшная беда постигла весь город, и все же Моше, привыкший к точному балансу, воспринял собственную долю в общем несчастии как несправедливо тяжелую.
– Почему? – ломал голову он, ища в прошлом малейшее прегрешение, скрытое им. Нет, ничего не утаено, ничего не забыто. Он советовался с мекубалем, и дряхлый беззубый горбун прошамкал в белую бороду:
– Может быть, твой грех – в излишней уверенности, с какой ты ожидаешь прощения, будто перед тобой налоговый чиновник, который за каждое признание обещает скидку. Вместо бессмысленных попыток постичь непостижимое, тебе следует благословить Имя уже за то, что твоя вторая дочь цела и невредима!..
Совершенно надломленный, вернулся Моше домой, и с этого времени Юдит стала заложницей его веры. Он, просто и естественно выражавший раньше свое религиозное чувство, начал лукавить, фанатично молиться, каясь в чем был и не был виноват, а небрежное перелистывание Танаха сменилось кропотливо-ученическим чтением каждой строчки. Однако чем больше проявлялось его рвение, тем острее ощущал Моше свое одиночество, потому что Тот, Кто неизменно приходил к нему на помощь, напоминал о себе лишь холодным и недобрым отсутствием.
Так шло время. День уступал место ночи, ночь – дню, отупляя однообразием и цинично уча примирению со всем, что приносил случай.
Но сейчас, на похоронах Сеньки, он узнал, что три тягучих, как сон, года не усыпили прежней боли. Память, запорошенная серой пылью повседневности, вдруг разверзлась, подобно этой зловещей, вырытой в земле яме, и там был не Сенька, а она, та, что когда-то умещалась вместе с сестренкой в его счастливых руках, два совершенных, сделанных из теплого золота существа, отличавшиеся только родинкой под левым соском Орли, но девочки быстро, слишком быстро подросли и, шурша одинаковыми платьицами, старались разыграть отца, который и без того путал их – и тогда, и потом, в страшную минуту он не знал, кто из них лежит, распростершись под грудой камней… Почему Ты это сделал? – внезапно закричал Моше, и хотя крик его не вырвался за пределы воспаленного мозга, сознание того, что он решился потребовать ответа, потрясло его, и он продолжал, освободившись, наконец, от постоянного страха. – Посмотри, молодые и невинные гибнут раньше старых и грешных, почему? – повторял он, задыхаясь, и все, что окружало его – звуки, запахи и сам воздух панически отступали прочь от этого кощунственного вопроса, пока всюду не установилась мертвая пустота, которую ничто не могло объяснить, кроме смутного, угрюмого подозрения. Еще секунда, и ему, может быть, открылась бы страшная догадка: ответа не будет, но не потому, что Тот, ожесточившись, отвернулся от него. Просто… нигде… ни на земле, ни в небе… ничего… ничего…
– Нет! – неимоверным усилием остановил себя Моше, как прерывают ночной кошмар, и прошептал, изнемогая:
– Я верю!
Потом оглянулся. Слава… Богу, никто не заметил его слабости. Рядом скорбно застыли мать Сеньки, Клара и Юдит с Андреем. Слабыми пальцами Моше поправил талит, открыл молитвенник.
– Эль, мале рахамим! – в тоске возвал к Нему Моше. – Шохен ба меромим…
– Что он сказал? – по-русски спросил какой-то мальчик, и мужчина, очевидно, отец, объяснил тихо:
– Бог, полный милосердия, обитающий в небесах…
– Нимца менуха нехона тахат кнафей ашехина ба маалей кдошим ве теорим, – просил Моше, и тот же мужской голос вторил ему шепотом:
– Дай отдохновение под сенью святого духа…
– Бэ ган эден тие менухато…
– В раю будет его покой…
– Вэ ицрор бэ црор ахаим эт нешимато…
– И свяжет жизнь с его душой…
– Амен! – бессильно закончил Моше и, почувствовав на себе любопытный взгляд мальчика, пробормотал:
– Теперь его душа там!
Он поднял руку и замер: вдали, среди голубого неба, в блеске солнечных лучей возникало и приближалось невероятное – сияющий город, который был центром этой земли тысячи лет назад и, должно быть, отраженный воздушными сферами, парил с тех пор в каком-то ином измерении, а сейчас проносился над головами людей, и все кричали, плакали, били себя в грудь, стараясь удержать в памяти этот белоснежный храм, вычурные золотые башни и надменные стены – Иерушалаим, их былую гордость и славу, растоптанную тогда и каждое столетие, и каждый год заново, и потрясенный Андрей тоже не мог удержать слез. Они не стали ему ближе, эти странные, непонятные люди, непостижимым образом втянувшие его в гибельный водоворот своей судьбы, но в их общем, внезапно вырвавшемся отчаянии была и его собственная боль от безвозвратной потери чего-то прекрасного, неповторимого – и вот он стоит среди них и плачет вместе с ними…
Потом это прошло – и минута единения, и острая печаль по умершему, чья короткая жизнь казалась теперь такой же призрачной, как древний город, уже исчезнувший в далеких облаках. Окончилось все яркое, высокое, что бывает сначала в трагедии, и начались ее будни, когда нужно пожимать вялые руки вдовы, безутешно утешать, говорить о том, что она должна теперь думать о дочке, и суеверно отводить взгляд, чтобы не замечать внезапную седину в ее еще недавно рыжих волосах и почерневшее лицо, которое было как у человека, ударенного молнией…
Но Клара не участвовала в этой суете, не замечая ничего вокруг.
Только наедине с Юдит, глянув в ее, полные безмерного сострадания глаза, заговорила сбивчиво:
– Мне нужно сказать тебе… только тебе. Я должна была повиниться перед Сенькой, думаю, он чувствовал что-то… ждал, что я откроюсь ему… но мне было страшно, потому что я знала: он не простит. А когда понял, что я затаилась, ему стало все равно. Он и от араба не побежал поэтому… И вдруг – взрыв…
Клара все время вытирала глаза, хотя они были совершенно сухие.
– Но я все-таки рассказала… кинулась к нему, распластанному на земле… стала шептать об Авихае… как он гарцевал на лошади… и бил собаку… о моей поездке к нему в Беер-Шеву…
Юдит внезапно стало ясно, что будет дальше, она попятилась назад, но та, сжав ее руки, продолжала:
– Не знаю, понял ли он меня, когда лежал там, в крови… Но ты, Юдит, ты должна понять и… простить… Ведь у вас, верующих, снимают грех даже с… самоубийцы, потому что перед самой смертью он обязательно покается. Я тоже в какое-то мгновение испугалась того, что делаю, но было уже поздно… А теперь его нет… Но есть Ханалэ и сенькины книги… Он зачитывал меня стихами почти до обморока, а потом я приходила в себя от его горячих губ, и на мне не оставалось ни одного не целованного места. Он говорил: женщина – самое красивое существо на свете. Евреи знают это лучше всех. Даже когда Моисей пошел к Богу, они поклонялись ее золотому тЕльцу, а в Библии сделали ошибку в ударении.
– Дай мне уйти! – попросила Юдит.
– Уходи… уходи… Только не делай из себя святой. Я видела, как ты стояла возле этого парня из буфета, как он гладил бутыль с соком, словно твое тело. Должно быть, тут дело семейное. Думаешь, мне не известно, чем он занимался с Орли? Тебе, своей строгой сестре, она ни в чем не могла признаться, а от меня не скрывала ничего…
– Я не знаю, как тебе помочь… – сказала Юдит и увидела отца, стоявшего у машины. Подошла к нему, помолчала.
– Передай маме, что я ее люблю… – Юдит чуть не сказала это по-русски. – И тебя! – Она коснулась его лица, серого, увядшего, в котором только она еще могла различить прежние черты, выражавшие доброту и тревогу.
Моше открыл дверцу.
– Мы могли бы жить вместе, если вы обвенчаетесь по закону Авраама. В доме для всех хватит места.
– А где оно, мое место, папа? – потерянно спросила она. – В прошлом, когда меня окружала сладкая ложь, или здесь, в этой новой жизни, с ее отвратительной правдой?
Юдит долго смотрела на опустевшую дорогу, пока не услышала голос Андрея:
– Хочешь, уедем отсюда на время? Подышим другим воздухом. Может быть, в Эйн Карем. Нисим будет рад. Он звонил несколько раз, звал в гости.
– Да, – встрепенулась Юдит. – Нужно глянуть, как там Гекко, полить вазоны. Наверное, все завяло без меня.
Но она ошибалась.
Каждый листик блестел свежестью в широких горшках, а земля вволю полита щедрой рукой хозяина. Он не любил ярких цветов, говоря, что их красота обманчива и нескромна, и учил девушку находить неброские, затаившиеся растения, чей запах выражает простую и чистую душу.
Покоренная его бесхитростной мудростью, она стала приносить с поля пахучие травы – те, что разделяли ее чувства: волнующе-мечтательный розмарин, задумчивую нану, тревожно зовущий куда-то рейхан…
– Не понимаю, почему мы ушли отсюда? – печально проговорила Юдит.
– Не хотелось быть причиной раздоров между братьями. Хаим требовал от Нисима этот домик. И как раз тогда Сенька позвал к себе, в «Новую Иудею».
– А где… – удивилась она, но Гекко уже был здесь, радостно сновал между ними, предпочитая, как всегда, Юдит, которая осторожно увертывалась от него, чтобы не задеть, а тот все быстрее скользил вокруг ее ног, словно кружась вместе с ней в каком-то невероятном танце. – Странно, мы всего раз танцевали с тобой – на нашей свадьбе… свадьбе?.. – слова Юдит, казалось, обращены не к Андрею, а к маленькой ящерке, сочувственно окрашенной в розовый цвет. – Так трудно избавиться от маминых наставлений… что только хупа соединяет любящих. А без этого нет никакой уверенности, что они останутся неразлучны потом… или потом вообще ничего не будет, как в этих стихах Гейне?
Гекко, бледно мерцая, напрасно пытался разрешить ее сомнения.
– Мы хотели навестить Нисима, – напомнил Андрей.
Она склонилась над своим маленьким партнером.
– Пойдешь с нами?
Тот вдруг потемнел и, испугавшись чего-то, юркнул за половицу.
– Видно, это только наш с тобой путь, – сказал Андрей.
Старого тайманца нигде не было, они прошли к винограднику, надеясь, что он возится там с какой-нибудь привитой лозой.
– Нисим! – закричали оба в один голос, но им ответил колокол с русской часовни, чей медный звон гулко поплыл над монастырскими стенами и кипарисами, обступавшими ломаные улочки, по которым ходил когда-то Иоанн Креститель.
Андрей потому и поселился среди этой пасторали, что она напоминала ему детство, серебристые клены вокруг их старого дома, тесного от множества юридических книг и незаконченных пейзажей. Рядом стояла Никитская церковь, выкрашенная, казалось, той же голубой краской, что и высокое небо, а вдали лениво текла Мойка. Мама рисовала реку и пушкинскую Лизу, бросившуюся в ее мутные воды, часами засиживалась на лугу или в студии, забыв обо всем на свете.
Так случилось и в тот день, когда у них собрались гости отпраздновать его семилетие, но хозяйку не застали. Дмитрий Павлович, который никогда не сердился на жену, немедленно отправился ее искать, и Андрей с ним. Хитрая тропинка, заставив их пробираться между жалящими кустами крапивы, привела, наконец, к ветхому строению с широкими, кое-где побитыми стеклами, похожему на заброшенную оранжерею. Внутри было густо накурено, несколько человек колдовало над мольбертами, а из дальнего угла звал Рюминых бородатый, очень довольный чем-то толстяк. Держась за большую отцовскую руку, Андрей прошел вперед и потерял дар речи: на еще не высохшем холсте он увидел маму, совсем… голую… и сбоку – настоящую, тоже без клочка одежды, скрытую раньше спинкой кресла. В ужасе глянул он на отца, как всегда невозмутимого и благодушно улыбавшегося, и бросился прочь из этого гадкого места…
После того дня Андрей перестал ее замечать, проходил мимо, не сказав ни слова, словно ее не было вообще, а она, страшно страдая, не смела признаться сыну, что его отчужденность – слишком тяжкое испытание для ее больного сердца.
И правда: вскоре она перестала существовать на самом деле…
Когда они вернулись с похорон, отец сразу ушел к себе, затаился, на зов не отвечал. Маясь смутным, необъяснимым чувством вины, Андрей решил, наконец, открыть дверь. Дмитрий Павлович неподвижно сидел на полу, у большой картины, не отрывая запавших глаз от жены, вырванной из небытия талантом художника.
Андрей затаил дыхание. Должно быть, детство оставило его в тот час, потому что он мог, не смущаясь, смотреть на эту прекрасную нагую женщину, которая была его матерью.
Об этом Андрей и отец вспомнили на аэродроме Бен Гурион перед возвращением Дмитрия Павловича и Дарьи в Питер…
– Вот где, наверное, Нисим! – показала Юдит на открытую дверь погреба.
Они спустились по крутым ступеням, слыша возбужденные голоса и смех. Внизу, за овальным проемом, был свет, а дальше, у стола сидели трое – хозяин с уже знакомым им мальчиком Туви и женщина, такая же черноволосая и белокожая, очевидно, его мать.
– А это что, Двора? – Нисим налил в рюмку светлое, чуть зеленоватое вино.
Та пробовала, причмокивая и колеблясь:
– Может быть, рислинг?
– Рислинг Эмеральд! – захохотал старик, как бы невзначай касаясь дориной ладони, которую она осторожно отвела в сторону.
Туви, конечно, видел все. Истосковавшись по семейному теплу и уюту, он сладко выругался по-молдавски:
– Мама дракулуй! – и его ангельские губы скривились от назидательного шлепка матери.
Тут Нисим заметил Андрея и Юдит:
– Брухим а-баим! Я вас заждался!
Обняв гостей, он подвел их к Дворе:
– Хочу познакомить вас с матерью… Да где же он? Убежал. Не иначе, обиделся… – его голос выдавал неподдельную тревогу. – А ведь здесь много запутанных ходов! – и вместе с Дворой исчез за пирамидой пузатых бочонков.
Через несколько минут невероятный шум возвестил об их счастливом возвращении.
– Где ты был? – спрашивала еще не успокоившаяся женщина.
– Где я был? – по-еврейски ответил Туви.
– Да, где ты был? – вторил Нисим.
Мальчик недоумевал:
– А где я был?
– Вот я и спрашиваю, – допытывалась Двора. – Где ты был?
– Где я был? – сын в отчаянии выпучил глаза, а Нисим настаивал:
– Так где же ты был?
– Где я был! – заревел басом оскорбленный ребенок.
Юдит и Андрей заворожено следили за развитием этой сцены – трепетное начало, потом закатывание глаз горе, ужас от взаимного непонимания и вдруг – раздирающая сердце кульминация на фоне страстных завываний в стиле театра идиш, чего не избежал даже старый тайманец.
Наконец, все успокоились. Но невсамделишная атмосфера водевиля осталась – она была во вкрадчивом голосе Нисима и смущении Дворы, гротескной разнице их лет, в том, как он ловил взгляд молодой женщины – и тогда, казалось, темные бугры на его страшноватой физиономии разглаживались под волной вырвавшегося наружу чувства.
– Что ж, давайте отметим. Нашу встречу как следует! – пошарив среди бутылок в нише толстой стены, хозяин раскупорил одну, странной формы и покрытую благородной сединой пыли.
– Заветная!
Рубиновое вино, как застоявшаяся кровь, хлынуло из узкого горла.
– А мне, а мне? – заявил о своих правах самый младший из присутствующих.
Юдит встревожилась:
– Алкоголь?
– Посла ты… – огрызнулся тот, но, увидев реакцию матери, сам закрыл ладонью собственный рот.
Двора грозно глянула на сына и вдруг засмеялась. Очень молодая, подвижная, она скорее походила на его старшую сестру, чем на мать.
– И тебе, капара, а как же! – подмигнув гостям, Нисим незаметно налил мальчику виноградного сока.
– Теперь можно пить. Только пусть Двора скажет. Что это такое?
Смутившись, та вспоминала его уроки: стакан с мрачно мерцающим зельем был поднесен к свету, терпкий аромат осенних ягод втянут в ноздри, густая дурманящая влага пригублена – впрочем, без какого– либо результата.
– Си… – шепотом подсказал взволнованный учитель, и оба крикнули вместе:
– Сира!
Нисим был счастлив.
– Сира – вино особое, с хитринкой. Открывает себя не всем. Не знаю. Чего французы назвали его так. А по нашему это – лодка, – незалеченная астма заставляла его делать частые паузы. – Ну, доброго плавания!
Все выпили, Туви тоже, и даже Юдит под настойчиво ласковым взглядом хозяина хлебнула разок-другой и ощутила, что и впрямь медленно плывет куда-то, оставляя позади невзгоды этого дня.
– Настоящее вино! – доносился к ней взволнованный голос старика. – Последнее, однако. Мне уже не под силу… вести хозяйство. А если виноградник…перейдет к брату… он выкорчует благородную лозу… потому как за ней нужен уход… посадит дешевые сорта… да на рынок, пьяницам… Смотрите, – он собрал в углу ворох увядших листьев и принес к столу. – Лежали на земле оборванные. Уверен, дело рук Хаима. А ведь им больно! Ну просто вижу, как брат. Ходит по ночам между рядами. И рвет, рвет… Разве человек в своем уме способен на такое? – Нисим махнул рукой. – А сам говорит, что это я ненормальный. Помнишь, он хотел. Отвезти меня в психушку?
Андрей, кивнув, глянул на Юдит, которая тоже никогда не забудет тот день, когда они впервые были вместе, как она очнулась оттого, что его мягкие пальцы трогали ее лоб, щеки, губы, это ты, спросил он, да, улыбалась она в темноте, как ты узнал меня, я почувствовал, что касаюсь чего-то очень родного, и понял, что это ты, по-моему, лучшего способа нет, хочешь попробовать, она провела ладонью по его лицу, это ты, ты…
Старик пристально смотрел на них:
– Хорошо, что вы здесь. У меня на днях сердце зашлось. Думал – каюк. Значит, пора действовать. Хочу завещать виноградник. Человечку дорогому – Туви. А вы будете свидетели.
В бесцветных глазах старика билась какая-то мысль, которая, должно быть, созрела давно и уже не казалась ему безумной, как тем, кто слушал его сейчас.
– Хочешь виноградник, капара?
– Ладно, – снисходительно кивнул малыш, возясь с какой-то игрушкой. – Только сначала мне нужен новый пауэр ренджер, этот совсем сломался.
– Договорились! – погладил его кудрявую голову старик. – Двора, конечно, будет хозяйкой при сыне. Она из Молдовы, там знают толк в вине. Да и я помогу, пока жив. Согласны?
Ответом ему было недоуменное молчание, что Нисим растолковал по-своему.
– Тогда пошли к нотариусу!
Он засуетился, повел их наверх, весь во власти объявшего его нетерпения.
– Вон дом из красного кирпича! Встретимся у входа. Я только возьму. Пару документов…
По дороге Двора говорила быстро, признавая в иврите одни только инфинитивы:
– Вы не думать обо мне нуй бунэ… плохая. Я пробовать ему объяснить… Зачем иметь виноградник? – она смешливо прыснула. – Но Нисим быть добрый… даже не хочет брать деньги за жилье.
Юдит и Андрей сочувственно кивали.
– Я и вина не любить. Мой муж, молдаванин, терять из-за него совесть. Когда я оставлять ему ребенка, чтобы идти на работу, дома собираться бродяги, пьянствовать и учить Туви ругаться. Я просто украсть его у отца и бежать сюда. Бун?.
– Бун, мама, – пропел Туви, – бун, бун!
Вскоре к ним присоединился Нисим, выглядевший очень торжественно, так как надел пиджак, белую, хотя и не глаженную рубаху и упорядочил свои длинные вьющиеся косички, что говорило об особой важности момента.
– Я сперва объясню, что к чему, – сказал он взволнованно, – а потом – вы..
Старик прошел в приемную, треть которой занимала тучная жена нотариуса, немолодая, но молодящаяся особа с розовой ленточкой в волосах. Впрочем, шелковые цветные ленточки были повсюду – они стягивали занавески на окнах и многочисленные папки, внося, по мнению хозяйки, интимную струю в деловую обстановку. Оторвавшись от беседы с высоким щеголеватым мужчиной, она улыбнулась:
– Давненько не были!
Тут ее внимание привлекли другие посетители – малыш, бесцеремонно протиснувший в неприкрытую дверь, и женщина, тянувшая его назад.
– Мы к господину Соцкому, – пояснил Нисим. – Как его здоровье?
Вопрос был не из простых. Нотариус находился в столь хрупком состоянии, что оно не всегда поддавалось определению. Поэтому и ответ не отличался ясностью:
– Могло быть лучше. Несколько дней ему придется отдохнуть дома. А это Томер, его заместитель, – кивнула она на своего молодого собеседника, – и, может быть, будущий компаньон.
Тот, действительно, казался компанейским парнем, судя по его игривому взгляду, который сразу оценил великолепный контраст белого лица Дворы и ее смоляных кудрей.
Нисим нахмурился.
– Тогда в другой раз… У меня серьезное дело. Завещание. Нужен большой опыт…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































