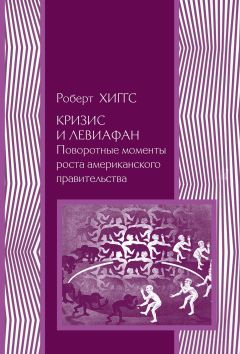
Автор книги: Роберт Хиггс
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
При анализе политико-экономической истории идеологию можно рассматривать как экзогенный фактор, т. е. признавать, что она оказывает существенное влияние на политическое поведение и, следовательно, на экономические институты, но при этом оценивать преобладающие в некий конкретный период идеологии как параметрические, т. е. находящиеся вне эксплицитных границ аналитической рамки. Недостатки такого подхода очевидны, но он явно лучше, чем игнорирование идеологии. Традиционно экономисты трактуют начальное распределение прав собственности, вкусы потребителей и производственные технологии как параметры неоклассической модели. Если считать это обоснованным, то столь же оправданно будет сделать идеологию параметром модели политической экономии. При таком подходе исследователь не пытается объяснить причины идеологических изменений, ограничиваясь признанием того, что такие причины существуют, и попыткой разобраться в их последствиях.
Заведомо понятно превосходство подхода, рассматривающего идеологии как эндогенный фактор. Как писали Петер Бергер и Томас Лакманн, «взаимосвязь между „идеями“ и поддерживающими их социальными процессами всегда диалектична». Они утверждают: «Теории придумывают, чтобы легитимировать существующие социальные институты. Но бывает и так, что социальные институты изменяют, чтобы привести их в соответствие с существующими теориями, т. е. чтобы сделать их более „легитимными“. Специалисты по легитимизации могут действовать в режиме теоретического обоснования статус-кво, а могут предстать в роли идеологов революции. Определения действительности обладают потенциальной возможностью самореализации. История знает случаи реализации теорий, в том числе теорий, вначале казавшихся крайне невразумительными… Следовательно, социальные перемены всегда следует понимать в диалектической связи с „историей идей“. Как „идеалистическое“, так и „материалистическое“ понимание этой взаимосвязи проходит мимо этой диалектики и, как следствие, искажает историю»[132]132
Berger and Luckmann, Social Construction of Reality, p. 128.
[Закрыть]. Если признать обоснованность соображения о диалектичности, перед нами встает задача выявить то, каким образом реализуется связь между идеологией и обществом.
Попытка разрешить эту великую проблему уведет нас далеко за рамки этой книги. Можно, однако, отметить ряд факторов, которые ученые определяют как социально-экономические причины идеологических изменений.
Маркс связывал «сознание» с классовой принадлежностью, хотя при этом допускал и существование таких несообразностей, как «ложное сознание» (на самом деле термин Энгельса) капиталистов и не пробудившееся сознание пролетариев. Не принимая Марксову модель целиком, можно извлечь из нее пользу. Классовая принадлежность – по Марксу или по другим критериям – связана с идеологической приверженностью, хотя форма, сила и устойчивость этой связи подлежат эмпирическому изучению. Как утверждает Зелигер, «классовая принадлежность и конкретные экономические условия являются важными, но не единственными факторами формирования идеологических позиций»[133]133
Seliger, Ideology and Politics, p. 168.
[Закрыть].
Другие авторы ассоциируют идеологию с различными внеклассовыми социальными характеристиками: профессией, религией, семейным, этническим и географическим положением[134]134
North, Structure and Change, p. 51; Kraditor, Radical Persuasion, passim.
[Закрыть]. Плюралистический подход предвосхитил марксист-ревизионист конца XIX – начала XX столетий Эдуард Бернштейн[135]135
Seliger, Marxist Conception, pp. 99—104.
[Закрыть]. В результате индустриализации, урбанизации и международной миграции меняется распределение профессиональных, этнических и других характеристик населения и соответственно меняется также идеологическая структура общества, хотя причинно-следственные связи пока никто не объяснил. От простого предположения, что здесь действует «гибкая, конкурентная и множественная конфигурация причинных факторов», пользы не много[136]136
Seliger, Ideology and Politics, p. 168.
[Закрыть]. Этот пробел в объяснении необходимо заполнить.
Следует также принимать в расчет «веру и неверие сами по себе»[137]137
Ibid.
[Закрыть]. Тот, кому случалось пожить среди социальных философов, знает, что идеи живут собственной жизнью или по крайней мере никак не связаны с социальным положением тех, кто их выдвигает, принимает и отвергает. Интеллектуалы, специалисты по производству и распространению внятных социальных идей, подвержены причудам моды; время от времени без всяких видимых причин их вдруг увлекает то одна идея, то другая[138]138
Tom Wolfe, „Idea Fashions of the Eighties: After Marx, What?“ Imprimis 13 (Jan. 1984): 1–6. Вулф рассматривает подверженность интеллектуалов модам как «ключ к интеллектуальной истории США ХХ столетия» (p. 1).
[Закрыть]. При этом многие идеи выдержали испытание временем, доказав, что, независимо от породивших их условий, их жизнеспособность не зависит от их давно забытого социального происхождения. Многие черты современных идеологий были знакомы уже Платону и его современникам[139]139
K. R. Popper, The Open Society and Its Enemies. Vol. I. The Spell of Plato (New York: Harper Torchbooks, 1963). [Поппер К. Открытое общество и его враги. М.: Культурная инициатива, 1992. Т. 1: Чары Платона.]
[Закрыть]. Если идеи развиваются автономно, вне связи с окружающими их социальными структурами, то диалектика, описанная Бергером и Лакманном, не образует закрытой системы, так что появляется место для элемента экзогенности, если не чистой случайности.
Каким же фактором политической экономии следует считать идеологию, эндогенным или экзогенным? Предположение о ее эндогенности выглядело бы основательнее, если бы удалось точно установить связи между идеологическими и социально-экономическими изменениями – иными словами, имей мы полезную теорию о причинах и следствиях идеологии. К сожалению, специалисты в области социологии знания не разработали полезной теории, достаточно определенной, чтобы применять ее на практике. Высказывания вроде «все общественные идеи социально обусловлены» не лишены смысла, но слишком расплывчаты, абстрактны и не помогают ответить на конкретные вопросы, поднимаемые в данной книге. Если же идеологическая мысль живет собственной жизнью – априори такую возможность нельзя исключить, – то заведомо неполной окажется любая теория, соотносящая идеологию со структурой общества. В следующей главе я представлю частичную теорию идеологического сдвига, разработанную, в частности, для углубления нашего понимания того, как в ХХ в. происходил, неуклонный, хоть и прерывистый, рост правительства в Америке. Что же касается общей теории идеологических сдвигов, сформулированной на достаточно низком уровне обобщения, чтобы быть пригодной для эмпирических исследований, я могу только ждать и надеяться, не слишком рассчитывая на то, что надежды сбудутся скоро. В этой книге идеологический сдвиг будет рассматриваться как фактор экзогенный по отношению к политическим и социально-экономическим переменам, за исключением случаев, о которых пойдет речь в следующей главе. Даже если о причинах идеологических сдвигов нам известно очень мало, мы все же попытаемся учитывать их последствия.
ВыводыУбеждения имеют значение, а идеологии – это системы убеждений, оказывающие сильнейшее влияние на политическую экономию. При всем правдоподобии утверждения, что участие в массовой политической деятельности иррационально, Железный Закон Коллективного Недеяния парализовал не всех. Многие люди постоянно участвуют в таких массовых политических мероприятиях, как выборы, или расходуют личные деньги и время на участие в разных политических движениях, а время от времени объединяются, чтобы попытаться радикально изменить общество и даже насильственно свергнуть правительство. Я придерживаюсь мнения, что люди делают все это не вследствие иррациональности, а потому что речь идет об их собственной идентичности. Действуя совместно с теми, кто разделяет их идеологию, люди ощущают сплоченность, имеющую важное значение для сохранения их идентичности. Они не могут получить эту форму полезности иначе как действием – в изоляции сплоченности не бывает. Чтобы вести себя иначе, человек должен стать другим. Но, чтобы стать другим, нужно усвоить другую идеологию. Идеологии порождают личностно-политический комплекс идентичности, сплоченности и политической деятельности главным образом в силу присущего им нравственного содержания. В конечном итоге многие, если не большинство, считают выбор между правым и неправым более фундаментальным, чем выбор, который приносит им всего лишь пользу.
Наиболее рельефно идеологии предстают в высказываниях лидеров общественного мнения в период кризиса. Чтобы понять идеологию, следует изучать символы, особое внимание уделяя риторике. То, какими выразительными средствами пользуется идеолог, столь же важно, как и то, что он говорит. Система образов – ключ к пониманию идеологической мотивации и программы. Язык – важнейший политический ресурс, более тонкий и более могущественный, чем обычно представляют себе такие упрямые реалисты, как, скажем, экономисты-математики. Серьезное внимание к языковым символам открывает окно, через которое видна идеология в действии.
Но окно это не слишком прозрачно. Идеологический анализ является необходимой частью исследования политической экономии, но это чрезвычайно трудная часть. Ситуацию затрудняет и отсутствие полноценной теории идеологии: набора связей, на эмпирически полезном уровне обобщения характеризующих взаимодействия идеологии с политической и социально-экономической структурой. Понимание идеологического сдвига как явления экзогенного по отношению к политико-экономическому изменению создает риск спутать причины со следствиями. Ко всему прочему тому же предположение о том, что причины идеологических сдвигов заключены в самой идеологии, еще больше усложняет анализ. Если проблемы определения параметров, наблюдения и качественной оценки вполне преодолимы, то анализ идеологического изменения остается сложным и тонким искусством.
К сожалению, мастерство аналитика повышает вероятность превращения идеологии в deus ex machina[140]140
Бог из машины (лат.), неожиданная (искусственная) развязка ситуации с привлечением внешнего фактора. – Прим. ред.
[Закрыть], который является при всяком анализе изменения в политической экономии, если не установлены иные причины, правдоподобные либо убедительные. Избежать этой опасности нелегко. Главной защитой от нее должна стать компетентность и честность аналитика (и критика) в ходе исследования, а особенно при работе с символическими артефактами. Исследователям, изучающим идеологию, придется решать непростые проблемы оценки репрезентативности фактов и разрешения неоднозначностей в их истолковании.
Наконец, нужно четко представлять себе самую большую опасность: исследователь может превратиться в идеолога. В области общественной мысли идеологию от науки отделяет лишь тонкая грань, «поскольку и корни, и плоды последней очень часто бывают пронизаны идеологией»[141]141
Seliger, Ideology and Politics, p. 156. См. также: Gouldner, Dialectic of Ideology and Technology, pp. 17, 19, 34–36, 112, 115.
[Закрыть]. Но при всей своей близости идеология и общественная наука не одно и то же, и существование идеологии не исключает возможность общественной науки. Как подчеркивает Гирц, они используют разные символические стратегии:
«Наука описывает структуру ситуаций таким образом, чтобы отношение к ним не выходило из границ беспристрастности. Она использует стиль сдержанный, сухой, предельно аналитический; избегая семантических средств, которые гарантированно возбуждают нравственные чувства, она стремится к предельной интеллектуальной ясности. Идеология же описывает структуру ситуаций так, чтобы отношение к ним отражало приверженность. Она использует стиль витиеватый, живой, гипнотический. Описывая нравственные чувства теми средствами, которых избегает наука, она стремится побудить к действию.
Общественная наука диагностирует и критикует; идеология оправдывает и извиняет»[142]142
Geertz, „Ideology as a Cultural System,“ pp. 71–72. См. также: Seliger, Ideology and Politics, pp. 154–159; North, Structure and Change, p. 55.
[Закрыть].
Дэвид Джоравски пишет, что «анализ идеологических убеждений не устраняет высказываний, тревожно сходных с обвинениями»[143]143
Joravsky, Lysenko Affair, p. 195 (см. также p. 3, 358, n. 7).
[Закрыть]. Изучение социальных ценностей и мнений исподволь подталкивает к аргументам ad hominem[144]144
Ответ на аргумент, основанный не на его сути и объективных рассуждениях, а на личности того, кто выдвинул этот аргумент (лат.). – Прим. перев.
[Закрыть]. Но все же практику общественной науки и профессию идеолога разделяет резкая граница. Нормы общественной науки – подчеркнуто нейтральная терминология, открытость для критики, эмпирическая проверка и положительное отношение к новым (и потенциально разрушительным) фактам. Идеологию отличает уход в оценочную защиту, эмоциональность выражений и постоянная ориентация на действие. Наука в своей чистой форме стремится просто понять. Идеология стремится прежде всего создать политическую вовлеченность и толкнуть на политическое действие. Поэтому наука и идеология выполняют разные функции. Бдительное отношение к фундаментальным различиям их символического слога защищает потенциального потребителя общественной науки от подмены ее идеологией.
Глава 4
Кризис, разрастание государства и идеологический сдвиг: к пониманию эффекта «храповика»
Не бойся звать врага врагом,
Ведь Рим падет бесславно
Коль зверя агнцем мы сочтем;
Простыми, грубыми словами
Скажи: Дракон стоит у стен.
А если спросят о цене,
В ответ пожми плечами:
Не меряй, Папа иль король,
Деньгами честь и веру.
Чтобы понять рост Большого Правительства, нужно изучить последовательность ключевых событий, приведших к расширению масштаба полномочий государства. Суть вопроса заключается во времени событий, а его сущность – право на принуждение. Рост государственных доходов, расходов и занятости – всего лишь производные явления, происходившие с той или иной задержкой по времени, а порой знавшие и краткосрочные попятные движения. Глубинный же процесс заключается в нарастании власти государства в сфере принятия экономических решений.
Смешанная экономика возникла в результате политического процесса. Поэтому ее возникновение следует анализировать конкретно. По словам Джозефа Рейда, «нельзя пренебрегать сроками и мотивацией… Объяснение исторических событий следует строить в динамике, а не выводить из одних только последствий». Джеральд Уолтмэн соглашается, что «ни одна модель, пытающаяся „объяснить“ государственную политику, не должна игнорировать процесс выработки решений»[146]146
Joseph D. Reid, Jr., „Understanding Political Events in the New Economic History,“ Journal of Economic History 37 (June 1977): 303, 328; Jerold Waltman, „Origins of the Federal Income Tax,“ Mid-America 62 (Oct. 1980): 158. См. также: James E. Alt and K. Alec Chrystal, Political Economics (Berkeley: University of California Press, 1983), p. 126.
[Закрыть]. Чтобы понять, как политическая экономия перешла из начального состояния (скажем, в 1900 г.) к конечному (скажем, в 1985 г.), следует рассмотреть, как она менялась в этом промежутке. Если изображать эти изменения как единый большой скачок или поступательное движение по фиксированной линии тренда, мы получим искаженную картину. Напротив, если понять смысл изменений в каждом большом временнóм отрезке этого периода (1900–1915, 1916–1918, 1919–1931 и т. д.), а отрезки разметить по аналитически релевантным ключевым событиями, то интересующие нас изменения станут понятны ipso facto[147]147
В силу самого факта (лат.). – Прим. перев.
[Закрыть] без дальнейшей суеты. Попытка понять почти вековой процесс без рассмотрения составляющих его ключевых отрезков времени не просто неуместна, но и вводит в заблуждение.
Если расширение полномочий государства вызвано кризисом, новые в фундаментальном смысле полномочия от этого не становятся преходящими. Поскольку посткризисное общество неизбежно сильно отличается от докризисного, кризисы вполне заслуженно признаны ключевыми историческими событиями; они заметно меняют ход исторического развития. Как заметил Уильям Грэм Самнер, «невозможно ставить на обществе эксперимент и прекращать его по желанию. Эксперимент проникает в жизнь общества, и извлечь его уже невозможно»[148]148
Essays of William Graham Sumner, ed. Albert G. Keller and Maurice R. Davie (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1934), II, p. 473.
[Закрыть]. Чтобы понять последовательность событий, сыгравших решающую роль в становлении в США современной смешанной экономики, следует поместить в фокус нашего исследования ряд ключевых кризисных эпизодов, три из которых были исключительно важными – две мировые войны и пропасть Великой депрессии.
Эта методологическая перспектива принципиально отличается от квазистатистического подхода многих экономистов (и немногих политологов), занимавшихся изучением роста правительства. Обычно они трактуют все происходившее как проявление монотонного тренда, включая временны́е ряды индекса размеров правительства, как если бы это был результат единой базовой инвариантной структуры поведенческих отношений. Любое сколь угодно значительное кратковременное отклонение от тренда они рассматривают как временное или даже случайное, т. е. как преходящее нарушение естественного хода вещей, не затрагивающее базовой структуры. Иногда они просто исключают из анализа всю информацию о кризисных периодах[149]149
Например, Алан Г. Мельтцер и Скот Ричард, исследовавшие рост правительственных расходов в 1937–1977 гг., полностью выбросили данные за 1941–1945 гг. См.: Allan H. Meltzer and Scott F. Richard, „Tests of a Rational Theory of the Size of the Government,“ Public Choice 41 (1983): 403–418. Дамодар Гуджарати представил перечень шестидесяти принятых конгрессом законов, чтобы продемонстрировать «усиление регулирования в США», но за период 1939–1953 гг., на который пришлись Вторая мировая война и Корейская война, в этом перечне представлен лишь один закон (закон Тафта – Хартли 1947 г.). См.: Damodar Gujarati, Government and Business (New York: McGraw – Hill, 1984), pp. 7–9.
[Закрыть]. Такой подход, возможно, уместен при изучении совокупных инвестиционных расходов, совокупных семейных сбережений или других показателей экономического поведения за длительные периоды, но в исследовании роста Большого Правительства он недопустим и обманчив.
Расширение масштаба полномочий государства зависело от предшествующего пути, где каждый шаг политической экономии определялся тем, где она находилась в данный момент. Политические сторонники роста правительства на каждом этапе черпали мотивы и ограничения в своих собственных представлениях о потенциальных возможностях и опасностях, о выгодах и издержках альтернативных решений в сложившихся обстоятельствах. В свою очередь, их представления определялись их пониманием прошлых событий. После того как кризис заставил расширить масштабы полномочий государства, подлинный «возврат к нормальности» стал невозможен.
Необратимость обеспечивается не только «сухим остатком» институтов, вызванных к жизни кризисом (скажем, административных органов и правовых прецедентов): лишь немногие из них учитываются в традиционных измерениях размера правительства. Куда важнее то, что нельзя вернуть назад базовую структуру поведения, потому что кризисные события создали новое понимание правительственной деятельности и новое отношение к ней. Иными словами, каждый кризис изменял идеологический климат[150]150
Рассел Хардин в другом контексте отмечает, что «во многих ситуациях выбора то, что случилось в прошлом, имеет фундаментальное значение… потому что прошлая жизнь… могла изменить вкусы» (Russell Hardin, Collective Action (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982), pp. 82–83).
[Закрыть]. Может показаться, что посткризисные экономика и общество возвращались в докризисное состояние, но это лишь видимость. Менялась основа умов и сердец тех, кто прошел через кризис и обрел опыт расширенных полномочий государства (т. е. источник поведенческой реакции на будущие чрезвычайные ситуации). Эксперимент, как признавал Самнер, всегда проникает в жизнь общества, и удалить его уже невозможно.
Несколько ученых рассматривали идею исторической зависимости от предшествующего пути в другом контексте. Например, Пол Дейвид высказывается в ее поддержку в своем исследовании технологических изменений. Дейвид критикует «механистический подход, в соответствии с которым прошлое играет в формировании будущего в лучшем случае преходящую роль». Он подчеркивает историческую необратимость: «…прежние экономические формы необратимо утрачиваются». Уже в 1942 г. Йозеф Шумпетер предостерегал от совершения «статистического преступления», т. е. механистической экстраполяции сложившихся трендов: «Это в принципе относится к любой исторической статистике, поскольку само понятие исторического процесса предполагает необратимые изменения в структуре экономики, которые неизбежно затрагивают любые существующие в ней количественные закономерности»[151]151
Paul A. David, Technical Choice, Innovation, and Economic Growth: Essays on American and British Experience in the Nineteenth Century (New York: Cambridge University Press, 1975), pp. 11, 15; Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия // Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. С. 450 сн. См. также: Paul A. David, „Clio and the Economics of QWERTY,“ American Economic Review 75 (May 1985): 332.
[Закрыть]. Мало кто из экономистов открыто принял этот подход в своих исследованиях расширения роста влияния государства в экономике, но среди историков политики эта идея прижилась[152]152
Идею зависимости от предшествующего пути приняли в том числе: Alt and Chrystal, Political Economics, p. 248; G. Warren Nutter, Political Economy and Freedom: A Collection of Essays (Indianapolis: Liberty Press, 1983), pp. 44, 97; а также Jonathan R. T. Hughes, The Governmental Habit: Economic Controls from Colonial Times to the Present (New York: Basic Books, 1977), passim. Гэри Беккер в другом, хотя и родственном контексте и совсем с другой целью очень близко подошел к этой идее, когда сказал, что в политическом секторе необратимые издержки вполне обратимы. См.: Gary Becker, „A Theory of Competition among Pressure Groups for Political Infulence,“ Quarterly Journal of Economics 98 (Aug. 1983): 383.
[Закрыть].
Как мы уже видели, несколько традиционно используемых индексов размера правительства показывают в ХХ в. эффект храповика: с началом каждого кризиса правительство вдруг резко расширялось, а после кризиса не сжималось до докризисного уровня или даже до уровня, который был бы достигнут при сохранении докризисных темпов роста. Согласно по меньшей мере одному стандартному показателю, большой кризис ведет не к временному, а к устойчивому росту размера правительства.
Далее, у нас достаточно оснований полагать, что более информативный показатель размера правительства, идеально оценивающий масштаб полномочий государства по влиянию на принятие экономических решений, тоже покажет наличие эффекта храповика. В дальнейшем я буду просто исходить из того, что именно таков был паттерн роста правительства в США в ХХ в.
На рис. 4.1 схематически представлен эффект храповика на протяжении одного полного эпизода. Разумеется, в американской истории ХХ столетия таких эпизодов было несколько.

Рис. 4.1 Схематическое изображение эффекта храповика
Однако их можно изучать изолированно. Эмпирические детали всех этих эпизодов резко различаются, и существенные черты развития внутри каждого из них зависели от предыдущих, но в каждом эпизоде процесс, о котором идет речь, совпадает, поэтому для объяснения модели достаточно рассмотреть один эпизод. Каждый случай состоит из пяти стадий: I – докризисное нормальное состояние (на рис. 4.1 отрезок AB); II – расширение (отрезок BC); III – зрелость (отрезок CD); IV – сжатие (отрезок DE); и V – послекризисное нормальное состояние (отрезок EF). На вертикальной оси координат графика отложен логарифм идеального индекса размера правительства, на горизонтальной – время. Таким образом, наклон прямой показывает темпы роста государства.
При построении этого графика предполагалось, что на этапах I и V, в нормальные периоды до начала кризиса и после его окончания, темпы роста правительства одинаковы; на стадии IV оно сжимается почти с такой же скоростью, с какой расширяется на стадии II, и почти не изменяется на стадии III, в период зрелости. Все эти предположения не очень важны и эмпирически сомнительны. На мое доказательство они не влияют. Я принял их лишь для простоты изложения и их в принципе можно изменить, что никак не повлияет на суть доказательства.
Все, что я хочу сказать в своем аналитическом представлении эффекта храповика заключается в следующем: 1) точка С лежит выше точки В, т. е. происходит внезапный рост истинного размера правительства; 2) точка Е лежит ниже точки D, т. е. произошло настоящее сокращение; 3) точка Е лежит выше гипотетической точки Е', которой она достигла бы в момент t4, если бы сохранился докризисный темп роста правительства (что означает, что сокращение было неполным); 4) после окончания кризиса и восстановления нормального состояния темпы роста остаются достаточно высокими, так что любая точка F будет неопределенно долгое время (предположительно, до наступления следующего кризиса) выше гипотетически соответствующей ей точки F'. Последнее предположение существенно, потому что иначе точки F и F' могли бы совместиться и тогда профиль, намеченный точками BCDEF (кризис плюс посткризисное состояние), описывался бы как временное отклонение от тренда, а истинный размер правительства в конечном итоге оказался бы точно таким же, как если бы никакого кризиса и не было.
Идея эффекта храповика не подразумевает, что весь рост правительства проистекает из кризиса. Напротив, предполагается, что правительство росло и до кризиса. В отсутствие кризиса оно предположительно продолжило бы расти по гипотетической траектории BE'F' (рис. 4.1). Как писал Эдвард Херман, разрастание правительства, «которое было очевидным на протяжении многих десятилетий и во многих странах, явно представляет собой результат работы неких истинно фундаментальных общественных сил и давления со стороны важнейших групп интересов»[153]153
Edward S. Herman, Corporate Control, Corporate Power (New York: Cambridge University Press, 1981), pp. 299–300. Сравнительные международные данные о росте правительства см.: Simon Kuznets, Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1966), pp. 236–239; Leila Pathirane and Derek W. Blades, „Defining and Measuring the Public Sector: Some International Comparisons,“ Review of Income and Wealth 28 (Sept. 1982): 261–289; Alt and Chrystal, Political Economics, pp. 199–219.
[Закрыть]. Гипотеза кризиса вовсе не исключает идею, что за ростом правительства стоят долговременные силы. Намного плодотворнее считать, что эти два подхода к объяснению возникновения смешанной экономики взаимно дополняют друг друга.
Кризис, возможно, не только приводит к устойчивому увеличению истинных размеров правительства по сравнению с теми, которые были бы достигнуты в результате действия вековых сил, но и влияет на действие самих этих вековых сил. В конце концов, различение между преходящими и вековыми силами скорее аналитическое, нежели содержательное; оно характеризует устойчивость действия причинных факторов, а вовсе не то, чтó они собой представляют или как работают. Если бы кризис не сокрушил некие препятствия на пути постоянного роста правительства, вековые силы могли бы ослабеть, и тогда истинный рост правительства в конце концов замедлился бы или прекратился. Несколько ученых утверждают, например, что высокие ставки налогообложения, действовавшие в период мировых войн, подготовили граждан к безропотному принятию чудовищных налогов, которые потребовались после войны для финансирования роста государства благосостояния[154]154
James T. Bennett and Manuel H. Johnson, The Political Economy of Federal Government Growth: 1959–1978 (College Station, Tex.: Center for Education and Research in Free Enterprise, 1980), pp. 70–72, citing Moses Abramovitz and Vera F. Eliasberg, The Growth of Public Employment in Great Britain (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1957) and Alan T. Peacock and Jack Wiseman, The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1961). В своем объяснении эффекта храповика, воздействующего на государственные расходы в британской истории, Пикок и Уайзман учитывают и другие элементы; см. особ. с. 27–28, 66–67. См. также: Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, 2nd ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1975), pp. 197–199; Frances Fox Piven and Richard A. Cloward, The New Class War (New York: Pantheon Books, 1982), p. 133.
[Закрыть]. Возможно, в отсутствие кризиса траектория роста была бы не BE'F', а BF' (рис. 4.1). Возможно, именно кризисы обеспечивают живучесть того феномена, который многие аналитики неявно воспринимают как процесс непрерывной вековой экспансии государства.
Гипотеза кризиса, независимо от того, считать ли кризис событием экстраординарной важности, должна ответить на два вопроса. Первый: почему полномочия государства внезапно быстро растут на стадии II, особенно если кризис принимает форму военной мобилизации? Мало кто из исследователей относится к этому вопросу серьезно; большинство просто предполагает, что в этих условиях государство обязано быстро нарастить полномочия. Они предполагают не только то, что государство должно выполнять традиционную функцию (обеспечение национальной обороны) на более высоком уровне, но и, что существеннее, что оно должно расширить масштаб своих полномочий (заменив, например, до известной степени рыночную экономику командной). Можно доказать, что это предположение ошибочно. Анализ этого вопроса проясняет гипотезу кризиса и вместе с тем проливает свет на природу государства в условиях современной представительной демократии. Второе: почему неполно посткризисное сжатие? Ответив на этот вопрос, мы проясним характер современной политической экономии, а также связь между изменением идеологии и ростом правительства.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































