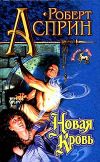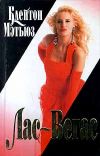Текст книги "Все нормальные люди"

Автор книги: Роман Романов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
Живой Ленин
Зачастую всяческие чудеса, которым нормальный человек в здравом уме не поверит ни на грамм, имеют в своей основе самые банальные, нисколько ни потусторонние причины. Вот скажи, что человек живого Ленина встретил – засмеют же, а несознательные экзальтированные личности начнут распространять страшилки о призраке коммунизма и знамениях Апокалипсиса.
Между тем однажды я и сам стал свидетелем того, как рождаются подобные истории. Приехал я как-то в Первопрестольную по обычным командировочным делам всего-то на два дня. Свободного времени, можно сказать, кот наплакал: все встречи в дальних районах, а по окончании дел надо умудриться успеть на вокзал до отправления поезда. Вот и решил я, заселившись в гостиницу, несмотря на поздний час, поехать в исторический центр и погулять по иллюминированной, богатой Москве.
Стою, курю между Историческим музеем и Мавзолеем, любуюсь на Спасскую башню Кремля, философствую, так сказать, о судьбах родины и пытаюсь представить, как здесь Парад Победы проходил, в сорок пятом. Холодно, продрог, туристы и командировочные уже почти разбежались, сам собираюсь уходить, как вдруг сбоку басистый уверенный голос:
– Браток, дай-ка прикурить!
Передо мной стоял мужчина, лет тридцати пяти – сорока на вид, в лёгком облаке алкогольных паров. Высокая меховая ондатровая шапка-формовка, кожаная длинная куртка с меховым воротником и расстёгнутой до середины груди молнией, под которой напоказ был выпячен белоснежный мохеровый шарф. Идеально отглаженные брюки в полоску прикрывали массивные то ли полуспортивные, то ли военные ботинки. По одежде с первого взгляда можно было признать в мужчине не то что провинциала, а, наверное, даже сельского провинциала из Тьмутаракани, где мода одеваться сохранялась, наверное, с девяностых. Еще больше выдавало провинциала лицо: рыжие волосы и брови, тяжелые скулы, глаза без ресниц, нос картошкой и красная, как светофор, обветренная кожа в веснушках. Несмотря на средний рост, мужчина вызывал уважение своей основательной квадратностью и, судя по всему, огромной силой, что считывалось по внешнему виду с первого взгляда, каким-то неведомым образом. Да и слово «мужчина» к таким экземплярам не подходит – мужик, то ли тракторист, то ли фермер.
– Пожалуйста. – Я протянул зажигалку и увидел грубую обветренную ладонь-лопату, в которую поместились бы обе моих.
Хотел было уже аккуратно уйти, забрав зажигалку и положив её в карман, как мужик, простодушно выпустив дым в сторону Мавзолея, снова протянул мне свою лапищу и сказал:
– Саня меня зовут, будем знакомы! Ты москвич, браток?
Я из вежливости, естественно, представился тоже и пояснил, что проездом. А мужик с детской непосредственностью, как будто мы с ним из одной деревни, начал мне рассказывать о том, что впервые в жизни, первый со всего своего рода на четыре колена, попал в столицу.
– Я в метро обалдел! В третьем классе в учебнике видел картинку, а на самом деле ажно страшно поначалу было! И огоньков, и фонарей здесь столько, сколько у нас во всём районе, да чё в районе, во всей области стока не соберешь. Сестра зво́нит плачет, сними, говорит, фотокарточку на память на Красной площади, чтоб на полке стояла и соседи видели, как мой Санечка в люди выбился! Дура-баба. Маманя так совсем с ума сбрендила, давай мне в трусы карман пришивать, чтобы не обокрали в большом городе, ну, темнота чалдонская, понять можно… Водка только здесь плохая, я вот самогон гоню на кедровых орешках – вот это да, а тута один самопал какой-то…
Я вынужден был из приличия слушать, но постепенно сам увлёкся далёкой жизнью и даже задал вопрос:
– Саша, а вы откуда приехали-то?
– Как откудова? С Парабельского району, сибиряки мы, деды с Алтая, раскулаченные, – он произнёс это с таким удивлением, будто каждому прохожему с первого взгляда должно быть очевидно и понятно, что, конечно же, он именно «с Парабельского району».
– Тяжело там, наверное? – спросил я для поддержания беседы, порядочно уже замерзнув, – денег нету, жизнь нелёгкая?
– Да по-разному, кто как топает, тот так и лопает. Вот бабка мне рассказывала, как они траву варили в землянках, пока избу не поставили на ссылке, да детишек хоронили в овраге, с голодухи откидывались. Ну как, сейчас, конечно, тоже народ вопросы начальникам задаёт, но мне бабка сказала: «Грех жалобиться», а я так и вовсе, видишь, в Москву вот приехал, завтра гостинцы всем пойду закупать.
Я уже совсем расслабился и начал было думать о таком настоящем русском человеке, добродушном, семейном, сильном, не испорченным ни завистью, ни заумным образованием. Передо мной предстала картина обычной семьи, где предки раскулачены и сосланы в Сибирь, отец уже был коммунистом-передовиком, а сын на своём хозяйстве вкалывает и на земле, и рыбой, и плотничеством, и ещё один Бог знает, чем промышляет. Но вдруг Саня замолчал, глазки превратились в щёлочки, желваки заходили так, что от одного выражения его лица захотелось сделать два шага в сторону. Посмотрел на меня и выдохнул так, что меня снова обдало перегаром:
– Оба-на! Не ссы, браток! Щас я с ним сам разберусь! – Он встал ко мне спиной, словно загораживая меня от чего-то опасного, и вдруг запел частушку: «Разинь Ленин глазки, дай дитям колбаски – жрать приходится давать, чё и свиньи не едять!»
Я выглянул из-за широкой спины нового знакомого и вдруг увидел, как через пустую Красную площадь от ГУМа к Мавзолею идёт Ленин собственной персоной. Полы пальто развеваются, на груди красный бант, кепка сдвинута набекрень, походка неровная, чуть запинающаяся, и такое же красное, как у моего собеседника, лицо с рыжей бородкой. Саня еще раз выдохнул и вразвалочку, слегка набычившись, как перед дракой, двинулся наперерез вождю мирового пролетариата. Я остался на месте и даже замотал головой, чтобы стряхнуть с себя сюрреализм происходящего, огляделся и только на другом конце площади увидел одинокую полицейскую машину. Сибиряк, не так чтобы сильно громко, но в полный голос и весьма угрожающе обратился к Ленину:
– Ты чё, сука, вылез! Чё ты вылез, я тебя спрашиваю говорю? Стоя-а-а-ать! Стопэ, говорю!
Ленин остановился, удивлённо посмотрел на подходящего к нему мужика в ондатровой шапке, кажется, даже слегка икнул от испуга. – Батенька! Революционный долг требует от нас революционной бдительности, бдительности, и ещё раз бдительности! – несколько театрально, будто на митинге, произнес Ильич, активно жестикулируя правой рукой. – И не надо ругаться, товарищ, не надо ругаться, Чека не дремлет!

Сибиряк, не так чтобы сильно громко, но в полный голос и весьма угрожающе обратился к Ленину:
– Ты чё, сука, вылез! Чё ты вылез, я тебя спрашиваю говорю? Стоя-а-а-ать! Стопэ, говорю!
«Да Ленин-то тоже пьяный! – вдруг понял я, наблюдая за сценой. – Пьяный куражится!».
– Ну-ка пошёл на место в свой кильдым, пошё-о-ол, сказал! – громко и грубо, без тени шуток, рявкнул Саня, показывая рукой в сторону Мавзолея и приближаясь к Вождю.
Вождь, похоже, не осознавая опасности, продолжал куражиться и картавить абсолютно ленинским, словно со старой записи, голосом:
– Товарищ! В государстве рабочих и крестьян все должны совершать вечерний моцион на свежем воздухе! Опять же, недорезанные буржуи поднимают голову! Революция в опасности, батенька! В опасности!
– Я тебе щас, бляха-муха, башку откручу, отвечаю! Ну-ка, испарился отседова! – Саня поднёс сжатую в кулак руку-лопату к лицу Вождя, и тот наконец-то ощутил реальную, без всяких шуток опасность для жизни и здоровья. – Ишь, вылез, гад! Ты кого тут своей Чекой пугаешь?!
Ильич подпрыгнул на месте и отбежал на насколько шагов, полез в карман, вытащил сначала почти пустую коньячную бутылку, запихал обратно, полез во второй карман, достал мобильный телефон, уронил его впопыхах на брусчатку, поднял, увидел опять подходящего к нему мужика и затараторил:
– Прекратите хулиганить! Я сейчас закричу! В полицию захотели? Прекратите немедленно, я вам говорю! – Всё еще с ленинскими интонациями, но с ужасом в голосе взвизгнул исторический персонаж.
– Я тебе щас покажу полицию! Ты мне ещё за бабкиного брата ответишь, которого раздетым с детьми на мороз и в прорубь! Думаешь, деревня необразованная? Думаешь, забыли всё? – Саня снова потянулся своей ручищей к груди Ильича.
Глядя со стороны, было понятно, что Ильич испугался по-настоящему. Он судорожно оглянулся и вдруг, смешно поднимая и придерживая полы пальто, по-страусиному бросился бежать в сторону Александровского сада, между Историческим музеем и Кремлёвской стеной, громко выкрикивая на бегу: «Это не я! Это Сталин виноватый! Это Сталин! Полиция-а-а!».
Сибиряк погрозил ему вслед кулачищем, приосанился, став похожим на индюка, и медленно, вразвалочку вернулся ко мне с видом победителя:
– Поня́л, браток? Совсем страх потеряли! Шастают, как в революцию! Пойдем, обмоем это дело? По соточке на душу?
– Не, Александр, вы не обидитесь, если я всё-таки домой поеду? Поздно уже!
– Какой разговор, браток! Ежели кто обидит – зови! А ещё лучше – приезжай в гости, на рыбалку сходим!
– Слушай, Ленин-то – это же не тот Ленин, он же не настоящий, он артист, понимаете? Он тут с народом фотографируется просто, за деньги!
– Да? Бабка тоже говорила, что артист, что эта, баба какая-то стреляла не в Ленина, а в двойника, а настоящий прятался! Теперь вот по Москве болтается, гад! А тятя родимый всё его защища-а-ет, потому как партейным бригадиром при Брежневе был! Ладно, бывай, браток, хороший ты мужик, уважительный!
Я осторожно пожал ручищу сибиряка и тихонько пошёл в сторону метро.
Сзади послышалась знакомая громкая речь, и я невольно замедлил шаг:
– Алё! Алё! Спишь, что ли, Машка? Скажи бабке, что я самого Ленина в Москве встретил и гонял его по всей Красной площади, о как! Предъявил ему за всех по полной, прибил бы, если б не утёк, гад! Да не пил я! Да побожусь, што не вру, глупая! Расскажи завтра бабке, пусть хоть перед смертью порадуется! Щас вот еще посторожу тут, может, Сталина встречу, или еще кого… Москва же!
Беды поэта
Василий Кочерга с юности обнаружил в себе призвание Поэта. Он никак не мог понять, откуда в голове берутся рифмы и складываются в стишки. Но они откуда-то брались и складывались. Писал он везде и при каждой возможности: в тетрадках, в смартфоне, на официальных бумагах и даже, по старинке, – на парте и на стенах мужского туалете Правда, было это давно, в школе и в институте, где он учился, естественно, на филологическом факультете.
После окончания вуза Василий Кочерга столкнулся с суровой реальностью и, конечно же, приучил себя заниматься повседневным, совсем не творческим делом – ходить на работу. Трудился он в пресс-службе администрации области, куда устроили его по великой протекции двоюродного дяди. Но недолго. Впрочем, всё по порядку.
Самое главное, что понял на своем жизненном пути Кочерга после института, – что есть три вещи, которые буквально отравляют ему жизнь. Первая – его любимое стихосложение абсолютно не поддавалось цензуре. То есть когда он новости пишет одну за другой на работе – всё понятно, как велели – так и напишет. Этот хороший, этот плохой, про это молчим, а об этом кричим, в крайнем случае выпускающий поправит, всё же понятно – редакционная политика. А со стишками так не получалось. Что напишется – то напишется, и никакой редактор не в силах в его рифмы вложить другой смысл. Да и как это может быть? Ильфа и Петрова, или братьев Гримм, или Вайнер легко представить вместе за писательским трудом, Кукрыниксы вполне себе даже втроём рисовали, но вот стихи писать вместе – дело неслыханное. А вот эти самые неподконтрольные смыслы в навеянных непонятно откуда рифмах играли с Кочергой самые чёрные и злые шутки.
Второе, что открыл для себя Василий буквально с самого первого стихотворения, – невозможность «писать в стол». Если стих какой родился, то умолчать о нём и не показать никому – невозможно. Ещё в институте в какой-то умной книжке он прочитал, что творчество по самому своему смыслу – транс-цен-дент-но, оно изначально творится для окружающих и не может по определению быть направлено на потребление самим автором. Это ровно противоположное, например, еде. Готовишь себе пищу – и сам её ешь, иначе помрёшь с голодухи. А в поэзии, сделал вывод Кочерга, – создаешь для других, и можно умереть, если не отдать свое творчество другим, даже всем-всем на свете.
Наконец, самое обидное – молодой поэт точно знал, что родился в неудачную для поэтов эпоху, когда кто угодно, но только не поэты являются властителями дум. Он даже ни разу не встречал ни одного живого поэта в своём провинциальном городе. И более того, после величайших гениев, после Пушкина, Лермонтова, Есенина, Маяковского и даже после поэтов-шестидесятников его стихи всегда будут пародией, повторюшками, наглой амбицией. Это означало, что стихи Кочерги никому не нужны по большому счёту, а содержание и качество самих рифм всегда подвергалось справедливым сомнениям до такой степени, что вся жизнь Василия превращалась в какой-то дурдом: не писать ничего он не мог, то, что он писал, было никому не нужно и никем не признавалось как поэзия, но спрятать от всех и не показывать свои стихи он не мог совершенно, как ни пытался.
И как, спрашивается, жить человеку? Возможно, кто-то скажет – мол, пустяки всё это, с жиру бесится поэтик, от графомании ещё никто не умирал. Но вот посмотрите, что у Василия Кочерги из-за этой поэзии произошло в жизни.
Сначала он потерял работу. Да-да, то драгоценное и непыльное место, куда устроил его двоюродный дядя, было потеряно исключительно из-за поэтического зуда. Как-то шло высокое совещание, посвящённое здравоохранению и Дню медицинского работника. Кочерга сидел со своим ноутбуком на галёрке, аккурат рядом с аппаратным пультом, откуда, согласно повестке мероприятия, выводились презентации к докладам. Все доклады были не совсем понятны молодому журналисту по сути, что, тем не менее, никогда не мешало ему делать новости, но общий смыл Кочерга уловил: оказывать медицинские услуги населению так, чтобы клиенты были довольны – главный смысл всей их работы. Всё просто: клиент всегда прав. И надо было в этот момент Василию вспомнить свою бабушку-хирурга – как она днём и ночью выходила на работу спасать людей, обидеться за неё и одновременно ощутить поэтический зуд. Кроме того, из-за августовской духоты в помещении одному из солидных докладчиков вдруг стало плохо и его, державшегося ладонью за грудь, под руки вывели из зала заседаний. Василий не удержался и, пока место техника оказалось свободным, сел за пульт и напечатал:
В День медика официально выступал:
«Больной – клиент! Вы – сервис, други!
Поймите!» – Вдруг ладонь к груди прижал:
«Спа-си-те…» – «Нет! По расписанию услуги!»
Естественно, подобное творчество на большом экране вызвало громкий ропот у всего собрания. Поэтический зуд у Кочерги тут же сменился раскаяньем и тревогой за свое будущее. Вечером того же дня он вышел из администрации, огляделся напоследок и грустно пошёл на остановку с трудовой книжкой в нагрудном кармане.
Буквально через неделю, всё ещё находясь в поиске трудоустройства, Василий отдыхал в компании одноклассников, многих из которых он не видел со школы. Поводом стал приезд одноклассницы Ани Легман из Германии, где она жила с родителями уже лет восемь после окончания школы. Вечеринка была совершенно безмятежной, доброй и весёлой, пока выпивший уже четыре банки пива молодой поэт под восторженные разговоры о европах не ощутил в себе поэтический зуд. Из расслабленного подсознания всплыли сюжеты из Интернета, студенческие лекции по культурологии о «Закате Европы» Освальда Шпенглера, телевизионные картинки – и Василий, схватив со стола салфетку, начал писать:
Прощай, спесивая Европа!
Былых восторгов не вернешь,
Ты долго…
Дальше никакой другой рифмы, кроме всем известной, вульгарной и нецензурной, в голову не приходило. Помучившись минут десять в творческом порыве, Василий понял, что этот порыв вот-вот пропадёт, и решил не искать альтернативу пошлой рифме, а писать сразу следующую строфу. Через десять минут стихотворение было готово.
По старой памяти кичишься,
Высокомерно всем грозишь,
А все черней твои глазищи,
Всё голубеет твой Париж!
Все больше полумесяц реет,
Замест крестов твоих святых,
Прощай! Твоя душа хиреет,
В объятьях мавров молодых!

Вечеринка была совершенно безмятежной, доброй и весёлой, пока выпивший уже четыре банки пива молодой поэт под восторженные разговоры о европах не ощутил в себе поэтический зуд.
Что тут началось, когда Кочерга громко, с выражением, держа перед глазами исписанную салфетку, прочёл свое творение. Его обвинили в плагиате и подражании великому поэту, заявили, что лучше бы он съездил в Европу сам, прежде чем писать, что тема смешная, поскольку и мавры в Испании, и турки под Веной – вечная история, и Шпенглер тоже наврал на шестьсот страниц. Наконец, душа и причина вечеринки Анна Легман сказала: «Отвратительный великорусский шовинизм, Вася! Уверена, что это у тебя от зависти!».
Так, на ровном месте, поэзия забрала у Кочерги лучших друзей. Ему теперь было обидно за одноклассников, жутко стыдно перед своей молодой женой, которая сидела с их первенцем, и перед её родителями, которые сами покупали детское питание для внучки. Все силы он бросил на поиски работы, и, наконец, смог устроится пресс-секретарём в областное общество анонимных алкоголиков. В конце концов, разобраться в теме было гораздо проще, чем в чиновничьих целевых программах развития здравоохранения. Зарплата меньше, но и работы тоже. Всё было неплохо, но продолжалось недолго. К Новому году анонимные алкоголики завалили молодого пресс-секретаря работой по продвижению социально значимой акции «Трезвый Новый год», под которую они получили грант от областной администрации.
Руководитель общественной организации весь декабрь бегал как ошпаренный и каждый день вызывал Кочергу к себе с отчётом. Акция «Трезвый Новый год» стала преследовать Василия во сне, в общественном транспорте, в пивном баре, куда он теперь чаще обычного заходил, измотанный начальством, после работы. Наконец на него напал поэтический зуд, и он написал очередное стихотворение, а написав, не мог не вывесить на двери своего кабинета в тесном офисе анонимных алкоголиков:
Надо, чтобы в Новый год
Пил народ один компот.
Под кремлевские куранты —
Оливье с компотом в рот.
Сразу после поздравленья —
По второй, для настроенья.
И, не тратя время даром,
Третью сразу по бокалам.
И гордись пред всем народом:
Новый Год справлял с компотом!
Как настроиться на это?
Тут не надо быть поэтом,
Очень умным человеком:
Пить коньяк давно пора
Тридцать первого, с утра.
И тогда наверняка
К ночи всё – без коньяка,
Без шампанского и пива,
Без вина и так красиво:
Здравствуй трезвый Новый год!
В хрустале у всех – компот.
Вот и трезвая статистика
Без чудес и всякой мистики!
Естественно, под Новый Год наш герой опять остался без работы, и даже без выходного пособия. Кочерга никак не мог объяснить себе, почему начальник так болезненно воспринял его шутливый стишок и даже назвал его «страшным идеологическим диверсантом».
О, как он искал работу! Как просил прощения у любимой жены, как обещал забросить поэзию! Наконец, в феврале, он нашёл работу совершенно не по профилю и стал менеджером в фирме по какому-то там стратегическому консалтингу. Хозяином фирмы был старый друг его двоюродного дяди, которому Кочерга клятвенно пообещал работать старательно и, главное, молча. В офисе фирмы все разговаривали модными словами, свысока посматривали на клиентов и высокомерно высказывались о простонародье. Кочерга искренне пытался запомнить слова типа «фидбэк», «ассасмент», «коучинг» и еще целую кучу специальных слов языка, на котором разговаривали коллеги.
Однажды, на майские праздники, его отдел начал собираться «на природу», на корпоративную рыбалку. Василий отказался, сославшись на семейные обстоятельства, за что коллеги начали специально при нём подолгу, громко, на своем умном языке планировать свой рыболовный выезд. После майских каникул вернулись они молчаливые. Из редких обрывков разговоров Кочерга понял, что умные слова не помогли коллегам в столкновении с природной стихией. И на него напал злорадный поэтический зуд. Да, он уже не вешал на дверь распечатку, не декламировал вслух, а просто поделился с коллегой, который тоже не смог поехать на рыбалку. Через день в корпоративном чате висело:
Трое в лодке,
С закуской и водкой,
Ружьем, удилищем,
Острогой, топорищем,
С весёлым настроем
По водоёмам
Благородной породы
По Русской природе
Плыли с проектом,
Планом эффектным
Охоты, рыбалки,
С ухой и стоянкой.
С кипиаем солидным,
Мотивацией видной,
С учётом всех рисков
И давления низкого.
Но среднерусская природа
Технократического кода
Не вняла: без лишних слов:
Водка, воздух – и готов.
И трое без лодки,
С остатками водки
Без ружья, удилища,
Остроги, топорища,
На тракторе сельском
По перелескам,
По чистым покосам
С мечтою про офис
Едут на станцию,
И новую акцию
Обсуждают: давайте нахрапом
Ответим природе новым стартапом!
В общем, ржач стоял на всю фирму, а у Кочерги начались чёрные дни. Товарищи с упоением и упорством мстили ему каждый день как в мелочах, так и перед начальником отдела. Да так изощрённо, что буквально за месяц молодой поэт стал средоточием всех корпоративных грехов. Естественно, работать дальше было просто невозможно.
Пришло лето. Кочерга уже два месяца как завязал с поэзией, за что двоюродный дядя подкинул молодой семье денег на поездку на море. Безусловно, со слов любимой жены, их ребёнку нужен был морской воздух, и Василий купил билеты на Черноморское побере-жье. Через неделю отдыха он смог выпросить у жены разрешение смотаться хоть на денёк в Одессу, которая была его мечтой со времен филологического факультета. Чёрт его дёрнул. Потому что именно в Одессе, после впитывания в себя всей одесской атмосферы, на Кочергу непреодолимо напал уже подзабытый, казалось бы, поэтический зуд… Как он бежал! Как бежал! От толпы утырков, которые накинулись на него после того, как на Потёмкинской лестнице он решил вслух почитать новые стихи:
Не заметили фрегата
Из морского флота НАТО,
Потому что у причала
По стаканам разливала
Баба Соня деду Косте,
В порт заехав к внуку в гости.
Водка русская плескалась,
И рассолом запивалась,
Хлеб с кефалью на газетке,
Помидорки, три конфетки.
А в газетке «Путь Одессы»,
В экземпляре местной прессы,
Чуть правее от конфет
Видит дед такой потрет:
То ли боцман, то ли нет,
То ли мичман, то ли шкипер,
Прям не нашенский калибр.
То ли негр, то ль араб,
В окруженье наших баб!
Бабка Соня поглядела
И на лавке обомлела:
«Тю-у-у, внучок, ты погляди,
Это ж, мать его ети,
То ли горе, то ли смех —
Целый натовский морпех!
Рожа – тёмна, форма – мята,
И в Одессе!». «Непонятно.
Подозрительный сигнал! —
Деда Костя проворчал. —
Вот в Гражданскую войну,
В англицком я был плену,
Помню, в сорок первом годе
Немца бил, лопаткой вроде,
А сейчас в родной газете
На обложке рожи эти!
Что ли, мать его ети,
На войну опять идти?».
Внук вмешался: «Что вы, предки!
Закуси, дедуль, конфеткой,
Политический момент:
Нам союзник шлёт привет!
Понимать же это надо —
Защитит Одессу НАТО!».
Бабка с дедом помолчали,
Про шаланду вспоминали,
Про биндюжников, Пересу,
Про кефаль и ту Одессу:
«От кого ж, едрёна мать,
Им Одессу защищать?!»
В общем вот так не везло человеку из-за поэзии. Где он ещё только не работал! Но даже среди коллег – филологов и журналистов в редакции газеты «Телеграмма» у него ничего не вышло. Редактор обвинил его в дискредитации журналистского цеха и узколобом непрофессиональном мышлении после того, как он, уставший после ночного дежурства на новостном сайте, забыл на столе листок со стихотворением:
Если кто-то, где-то, как-то
Изобьёт кого нещадно,
Или ест младенцев ночью,
Иль икру на нарах сочно,
Или бурей напугать,
Или депутата снять
В момент взятки или пьянки,
Как в ООН валяют Ваньку,
Как корейцы жгут напалмом,
Как блудят при свете лампы
Не стесняясь ничего,
И про это… Ну, того,
Что нельзя всем бабам делать,
Как худеть, притом не бегать,
Как толстеть, но было б модно,
Про лечение народное,
Про танцульки в алтарях
Про финансов скорый крах,
Или заговор масонов
Против всех честных народов,
Как спиритов, колдунов
Отличать от мудаков,
Про трансгенную отраву,
Что астрологи не правы,
А политики все сплошь
Души продали за грош…
Если что в таком вот роде
Где услышите в народе —
Сразу же зелёный свет,
В телевизор, в Интернет!
Помни, человек – простак:
Доброй новостью – никак
Знаменитостью не станешь,
Хоть вспотеешь и устанешь…
Казалось, что жизнь подошла к концу. Кочерга не знал, как ему жить без стихов, без читателя, без хотя бы какого-нибудь маломальского одобрения. Несмотря на любимую жену, маленькую дочку и двоюродного дядю, он, страшно сказать, как чувствительная натура, на полном серьёзе задумался о том, чтобы свести счёты с жизнью.
Но однажды он проснулся от нежных поцелуев жены и капающих на него горячих слёз. Жена улыбалась, смотрела на него, гладила по волосам и повторяла: «Спасибо, родной!». Василий понял, что все его вопросы с поэзией разрешились в одно мгновение. Жена держала в руке мятый листок, который он написал ночью на кухне, после приступа ночного поэтического вдохновения:
Нежность, нега, молоко,
Аромат белья и тела,
Спит дите, а высоко
Тучка месяц тихо съела.
Темнота. Лишь тенью нежной
Мать с дитём перед окном
Нежным звуком колыбельным
Убаюкивает дом.
Расплывются в улыбке
Дети, муж, пригретый кот,
Даже в будке у калитки,
Пёс, прислушавшись, замрёт.
Погоди, про пса придумал!
Нету пса, калитки нет!
А в подъезде многолюдном —
Запах с вечера котлет,
Хаос звуков, шорох, скрип…
Это я пропал, забылся
Я ослеп, оглох, охрип,
От всего подъезда скрылся…
Моя женщина с дитём,
Силуэт в окне мерцает,
Та, что пахнет молоком
Та, что молится, иль плачет,
Долю женскую коря,
С неба счастье зазывает,
Себе – каплю, нам – моря…
Тучек нет! Тепло, светает…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.