Текст книги "Новая венгерская драматургия"
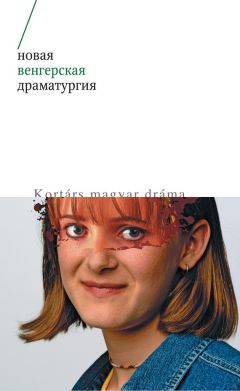
Автор книги: Сборник
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Главы 5 и 6. Домашнее настроение
В первый день Рождества мы с Жужи собираемся ехать на обед к моей маме. Иштван всю дорогу кричит на меня. Я веду, а он придирается к каждому моему движению – естественно, водитель из меня тоже никудышный. Орет, что я жалкая гнида. Не реагирую, но чувствую, что я на пределе. Приехали. По пути наверх в лифте он меня толкает, мол, какая я неуклюжая, даже ребенка держать нормально не умею. Убила бы, думаю я. И даже воображаю себе это. Раньше я старалась сначала убрать эмоции с лица и только потом звонить в дверь. А сегодня мне не хочется, меня уже не волнует, увидит ли мама что-то на моем лице. До этого я никогда не говорила о том, что происходит с нашим браком, она знала только, что отношения у нас не лучшие. Но в этот раз я выкладываю ей, что Иштван толкнул меня, да и вообще, бывает, поколачивает. Говоря это, я инстинктивно прячусь за маму. Я стою за ней, в безопасности. В один момент, уж не знаю, из каких низких побуждений, я выставляюсь из-за маминой спины и влепляю ему огромную пощечину. Как же мне хорошо! До сладострастия. Иштван ошарашен. Говорит, что мы сейчас же едем домой, никакого обеда не будет. В машине он кричит, напоминает мне, какая же я неблагодарная. И это действительно так, думаю я, ведь я наконец-то дала ему причину для ругани, ударила его. Но про себя я улыбаюсь.
Мне хочется только, чтобы кто-нибудь обнял меня, чтобы можно было смеяться и муж не обзывал бы меня…
Больше всего я мечтаю о свободе. Я знаю, что будет сложно, но я больше не боюсь, нечего.
Глава 7. Квартирная атмосфера
А потом… я познакомилась с одним мужчиной, которого не волновало то, что моя дочь не похожа на других. Я окончательно переезжаю. То есть… Иштван ведь не очень-то хочет меня отпускать, и поэтому я сбегаю. Одежду взять с собой я не могу, а замок мой муж сразу же меняет. Мой новый любимый в свою очередь прикладывает все силы, чтобы я не возвращалась никогда больше.
Развод проходит относительно спокойно, мы не спорим почти ни о чем. Иштван больше не бьет меня, теперь он только умоляет. В материальных вопросах ведет себя порядочно. Через два месяца я наконец могу войти в квартиру, чтобы забрать личные вещи. Мони, моя младшая сестра, идет со мной, она, естественно, ругается с Иштваном, но и над этим я теперь только смеюсь. Мной уже овладел ветер свободы.
Я хочу быть свободной и хочу жить. Я клянусь, что всегда буду собой, всегда. Я не позволю себя унижать, но и себе не позволю стать мелочным, мстительным монстром из-за своих злосчастий. Не позволю! Если отношения испортятся, лучше уж уйду. Никогда больше не позволю, чтоб меня унижали. Ни одной минуты своей жизни больше не растрачу понапрасну.
Как только оглашают развод, ком у меня в горле тает. И я улыбаюсь во весь рот, не перестаю улыбаться. Ничто не имеет сейчас значения, только то, что я свободна! Мы приезжаем домой, и в календаре на стене я удивленно замечаю, что сегодня девятое мая. День победы. И от этого я тоже улыбаюсь.
Я снимаю квартиру в Диошдьёре и, когда позволяет работа, езжу к дочери в Эгер. Жужи оказывается рядом с окном в углу, это лучшее место в каждой комнате. К тому же номер комнаты – три, счастливое число! Руди стойко ухаживает за Жужи, но, признаться честно, она нравится всем. Без преувеличения, она самая красивая девочка во всем отделении.
Персонал здесь будто не замечает, что ухаживает за тяжелобольными. С пациентами они обращаются как с равными, со всеми до одного. Убеждают решиться на еще одного ребенка или просто без слов дарят любовь.
В начале февраля я выхожу замуж. Я влюблена и меня любят так, как я всегда себе воображала. Я почти никогда не думаю о том, что замужество может быть адом или тюрьмой, но свою свободу я оберегаю ревностно.
В октябре у меня рождается сын.
Я немного переживаю, все ли с ним в порядке.
Смотрю на него, даже звук этого слова такой чужой: сын. Странный маленький человечек появляется на свет, с силой закусив нижнюю губу, и на мгновение он кажется мне страшно некрасивым. Ну и ладно! Доктор Холлоши, счастливый, показывает, вот, мол, смотрите, какой славный паренек. А я говорю ему, что наверняка потому он так счастлив, что я точно уложилась в часы дежурства.
Жомбор. Он появился ночью, спустя две-три минуты после двенадцати. Как только мы заканчиваем с послеродовой волокитой и мне наконец можно встать, я тут же иду и проверяю, в порядке ли он. Я прошусь в отделение для новорожденных, распеленываю Жомбора и проверяю некоторые рефлексы. Нянечки смотрят на меня как на полоумную. Я убеждаюсь, что все в порядке, возвращаюсь в комнату и забываюсь счастливым десятичасовым сном.
Жду не дождусь, когда же малыш подрастет и я смогу отвезти его к Жужи. И вот приходит этот момент.
Глава 8. Детский дом
Когда мы там, я много раз кладу его рядом с сестрой в ее кроватку, хочу, чтобы они подружились. Жомбор очень мило прижимается к Жужи, по-своему, немного по-мужски, ласкается к ней. Жужочка сначала с испугом осознает то, что какое-то живое существо копошится на ее маленькой территории, но потом, как старшая, снисходительно терпит его рядом с собой. Брат и сестра. Такие хорошие слова. Я еще никогда не была так счастлива.
Так и ездим мы по выходным в Эгер: мой сын и я.
Где-то в конце лета мы вдвоем с Жомбором едем в Эгер. После Эмёда я чувствую сквозняк и поднимаю окно. Ужасный крик: я прищемила Жомбору пальцы. Меня поражает, как выглядит его рука. Кажется, есть перелом. Пальцы, пальцы, перелом, пальцы. Ужасное зрелище. Всхлипывая, я выпрямляю его ручку и не перестаю казнить себя, зачем я вообще тащу куда-то здорового ребенка, он ведь повсюду лезет! Со временем я привыкаю, что есть и такие дети. Да, такие дети тоже есть.
Поет.
Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовет, и ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.
Мы все добудем, поймем и откроем,
Холодный полюс и свод голубой,
Когда страна быть прикажет героем,
У нас героем становится любой.
Глава 9. Больница
В конце октября звонят из детдома, говорят, что Жужочка попала в больницу. Она еще на прошлой неделе чувствовала себя неважно, сильно кашляла. Я отправляюсь к ней посмотреть, как она, но машина ломается на полпути. Механик, нервы, наконец с большим трудом приезжаю. По пути откуда только звоню ее отцу, но не могу дозвониться и оставляю сообщение.
Жужи в отделении интенсивной терапии, ее несколько раз приходилось реанимировать. Ночью у нее была очень высокая температура и не раз останавливалось дыхание. Тут же звоню маме, с которой оставила сына, потому что знаю, что у Жомбора температура под сорок. Весь день он плакал, мама просит, чтоб я, если могу, побыстрее ехала домой. Конечно. Могу я. Я сажусь в коридоре, готовая разреветься. Снова захожу к Жужи, смотрю на нее, глажу. Кажется, температура спала, я говорю ей, что мне нужно бежать домой, но я вернусь. Мне кажется, она разрешает, я сажусь в машину и мчусь в Мишкольц, потому что мой сынок болен. Дома несколько лечебных поцелуев, сбивание температуры, и теперь уже у Жомбора, который больше не температурит, я отпрашиваюсь в Эгер, потому что его сестра больна.
Я приезжаю в потемках. Всю дорогу я ехала в непроглядном тумане. В коридоре больницы ни души, я стучусь в ординаторскую. Молодой незнакомый врач открывает дверь, в глаза мне он не смотрит.
– Вашу дочь снова пришлось реанимировать.
Я залетаю в интенсивное, сажусь рядом с Жужи. Она, конечно, хочет, чтобы все мое внимание было приковано только к ней, а я не могу не думать об оставленном дома плачущем сыне. И от этого чувствую себя паршиво.
Хорошо еще, что у тебя не братики-двойняшки, обязательно бы оба теперь заболели, чтоб с ума меня свести.
Чувствую, что от шуток мне немного полегчало, поэтому я поглаживаю ее по плечу и шепчу на ушко, как я ее люблю, что она самое важное на свете, только брату пусть не говорит. Она не реагирует. Потом вдруг открывает глаза и смотрит на меня. Мне в лицо, своими огромными голубыми глазами. Я вспоминаю ее рождение, когда мы несколько минут смотрели друг другу в глаза. Это мгновение в точности повторяет то, и я чувствую, что она прощается. Я ужасно пугаюсь, но не показываю этого, а только поглаживаю ее, вдруг уснет и сможет отдохнуть. Я не решаюсь остаться, я боюсь смерти. В моем воображении только серый холод. Серый, страшный, отвратительный холод. Себе я объясняю это тем, что я нужна дома. Хотя я просто трушу, у меня нет смелости остаться. Я не хочу, не перенесу этого момента. Жужочка тяжело засыпает, и я, хоть и со сжимающимся сердцем, отправляюсь домой. Оставляю ее одну.
На рассвете я просыпаюсь в пять часов двадцать три минуты, смотрю на горящее на видеомагнитофоне время. Болит желудок и грызет совесть, какая же я трусливая скотина, что не осталась там. Я знаю, что это конец, я знаю, что она ушла. Я знаю. Я знала. И все равно поехала домой.
Утром звоню в больницу, говорю, мол, я такая-то, а в ответ только тишина. И, немного погодя, тонкий, тихий, смущенный голосок спрашивает, не получила ли я телеграмму. Какую телеграмму, когда у них есть мой номер? Да, говорит тихий голосок. Ваша дочь сегодня в половине шестого скончалась. Мне становится противно, я чувствую себя вонючей.
Пауза.
Как проходили похороны, я почти не помню, больше помню то, что им предшествовало. Взявшись за руки с Иштваном, мы механически ходим по инстанциям. Он меня утешает, не обижает, в ту неделю он мой лучший друг, моя опора. Никогда больше мы не были так близки друг другу, никогда мы не понимали друг друга настолько. Как жаль.
Мы выбрали детскую могилку на областном кладбище, пусть лежит вместе с детьми. Одинаковые красивые белые детские могилки кажутся мне игровой площадкой.
Мы идем в ближайшее похоронное бюро, по пути я спрашиваю Иштвана: что будем делать, если у них не будет детского гробика? Но гроб, конечно, есть. Как и одежда, размер по росту. Сто сорок подойдет, только пусть не будет слишком нарядный. Мы выбираем простенький белый красивый с простым белым красивым покровом.
А ночью мне снится, что Жужи холодно и она боится быть одна. Я вижу во сне папу. Он просит, чтобы внучка была с ним. Утром звоню бывшему мужу, готовая, что он, конечно, даже слышать не захочет о том, чтобы положить нашу дочку рядом с моим папой. Я ошиблась. Тихо, с любовью он говорит: пусть будет так, как тебе хочется. Мчимся в Диошдьёр на кладбище, оттуда в местный приход. Милый пожилой священник принимает нас. Мы говорим ему, что не нашли документов на семейную могилу, но хотели бы похоронить дочь рядом с моим папой. Может быть, в приходе есть копия бумаг. Священник показывает на огромную гору документов. Если найдете, то никаких препятствий нет. Иштван поднимает среднюю стопку, и первая бумага, которую он берет в руки, это сертификат на могилу отца. Спасибо, папа!
Снова Эгер. Иштван просит, чтобы мы пошли в прозектуру, потому что он хочет еще раз видеть Жужи. Я с трудом даю уговорить себя, но в конце концов мы все-таки спускаемся на минус первый этаж. Серый, странный, широкий коридор. Горький запах дезинфекции. Стеклянная стена. Жужи вывозят за стекло, чтоб мы могли ее видеть. И оставляют там одну. Бледную и застывшую. Прекрасную, бледную и застывшую. Ужасное чувство, она наверняка мерзнет, нужно ее накрыть. Вижу, как ее отца трясет, он в ужасном состоянии. Но я думаю только о том, какой же здесь холод. Я говорю, что наша девочка мерзнет, пусть ее накроют. Иштван обнимает меня за плечи, и мы выходим. Я в первый раз утешаю его. Он плачет. Опустошенно, не стесняясь, сокрушается, почему не был там, почему не смог попрощаться.
Мы идем дальше, нужно купить ей платье, красивое белое платье. Продавщица вежливо спрашивает, сколько лет нашей дочке. Семь, говорю я, но она у нас худенькая, не любит есть. Красивое белое платье, как у невесты, такое нужно. Продавщица шутит, что она будет самой красивой на празднике. Конечно, говорю я, праздничек будет зашибись. Спрашивает, нужны ли туфельки. Мы тревожно смотрим друг на друга. Нужны? Я киваю. Какой у нее размер? Не знаю. Жужи никогда не носила обуви. Я не знаю, какой размер носят семилетние. Господи, что подумает эта женщина, что же я за мать такая, что не знаю, какой размер у моего ребенка?
Я понятия не имею, но выдавливаю из себя, что двадцать седьмой. Покупаем красивые белые туфли двадцать седьмого размера, к ним колготки и белье. Все красивое, в большое путешествие нельзя отправляться в чем попало.
Мы возвращаемся с одеждой в больницу, снова спускаемся на минус первый, снова горький запах. Отдаем вещи патологоанатому. Я показываю ему, какие красивые туфельки мы принесли, патологоанатом меня гладит – все будет в порядке, – а потом исчезает за огромной двустворчатой белой дверью. Там моя девочка. Самое большое сокровище на этом свете. Вдруг вокруг меня сгущается серость, на секунду мне не хватает воздуха, но я беру себя в руки. Мы поднимаемся и оставляем ее одну. Оставляем ее в холоде одну.
В следующий раз я вижу ее одетую, накрытую. Я хочу наклониться к ней поближе, но не могу. У нее на лице пленка. Я хочу снять пленку, но не решаюсь. Не решаюсь, потому что нельзя. Мысль, что она может задохнуться, пробегает у меня в голове. Потом я понимаю, что уже нет. И я шепчу ей, что она навсегда останется моим главным сокровищем.
Мы с сыном часто ходим на кладбище, я всегда показываю ему, что вот здесь могилка дедушки и старшей сестры, и мы их очень-очень любим. Он повторяет это за мной каждый раз, когда мы приходим, и гладит могилку. Иногда он тайком целует холодный камень, а после, когда уже научился говорить, всегда прощается словами: «Береги себя, родная». И мое сердце сжимается, сжимается и бьется сильнее от счастья, ведь мои дети любят друг друга. Любят, потому что они брат и сестра. И таков порядок вещей.
Конец
Не мой день
Саболч Хайду
Hajdú Szabolcs. Ernelláék Farkaséknál
© О. Якименко, перевод
© Hajdú Szabolcs, 2017
«Эрнелла с семейством у Фаркаша и его семьи» – так называется пьеса Саболча Хайду (Hajdú Szabolcs, р. 1972) в оригинале, однако специфическая венгерская конструкция не очень удачно «пересаживается» на чужую языковую почву. Чего не скажешь об истории, рассказанной в пьесе.
По признанию автора камерной, по вуди-алленовски многословной и связанной с самыми «актуальными» семейными страхами и проблемами драмы, идея написать ее пришла при трагических обстоятельствах: сразу несколько человек из его окружения добровольно ушли из жизни, причем в относительно молодом возрасте, в расцвете сил. Общаясь с семьями умерших, актер, режиссер и драматург не мог отделаться от мысли о дисфункциональности современной семьи, неспособности людей сохранять любовь, которая одна только и может удержать нас на краю экзистенциальной бездны.
Герои и ситуации, в которые они попадают, абсолютно узнаваемы. Практически любой современный зритель так или иначе может себя с ними отождествить. В то же время в пьесе присутствует и некое параллельное, абсурдистское измерение, связывающее ее с традициями европейской гротескной и абсурдной драмы. В авторской постановке этот эффект достигается тем, что детей играют взрослые актеры, говорящие нормальными, взрослыми голосами, а так называемые «балетные», или «хореографические», эпизоды разыгрываются действительно как балет.
Спектакль по пьесе обрел большую популярность; актеры уже не первый год играют его в квартирах – жилых или переделанных из жилых. Когда Саболч Хайду перенес его на экран, декорациями послужила собственная квартира семьи Хайду. По мнению драматурга, камерность (ограниченность и обусловленность пространства и небольшое, «семейное» количество зрителей) – одно из главных условий адекватного восприятия пьесы.
Таким же камерным, но менее абсурдистским и, в силу использования другого типа медиа, более реалистичным и объемным стал одноименный фильм – в русской фильмографии Хайду он фигурирует под названием «Семейное счастье» (2016). На 51‐м Международном кинофестивале в Карловых Варах фильм получил Хрустальный глобус, а сам Хайду – приз за лучшую мужскую роль.
1. Укладывают ребенка спать
Место действия – гостиная в доме Фаркаша. Поздний вечер. Эстер рассказывает Бруно сказку. Фаркаш неподвижно сидит в кресле в глубине комнаты.
ЭСТЕР. Жил-был человек – деревянная башка, и была у него собака-деревяка, а у гуттаперчевого человека была собака-ластик. Привязал деревянная башка собаку-деревяку к деревянному дереву, а гуттаперчевый человек привязал собаку-ластик к каучуковому дереву. Увидел деревянная башка собаку-ластик, а гуттаперчевый увидел собаку-деревяку. «Псу под хвост твою деревяшку», – сказал гуттаперчевый человек собаке-деревяке. «К чертям собачьим!» – ответил деревянная башка гуттаперчевому человеку. «Деревянная твоя башка!» – рассердился гуттаперчевый человек. «Дерьмо собачье!» – воскликнул деревянная башка. «Постучи по дереву!» – сказал гуттаперчевый человек деревянной башке. «Дерьмо собачье!» – тявкнула собака-деревяка. «Тупая деревяшка», – обиделась собака-ластик. «Не твое собачье дело!»
БРУНО. Еще раз!
Эстер рассказывает сказку еще раз. Бруно засыпает. Эстер подходит к столу и наливает Фаркашу вина. Фаркаш поднимается с кресла. Бруно вскакивает.
БРУНО. Что сказал резиновый человечек деревянной собаке?
ФАРКАШ. Засыпай давай, мне тоже хочется с мамой поговорить.
БРУНО. Еще раз!
ФАРКАШ. Я сказал, никаких больше «еще раз!». Мама уже двадцать раз рассказала.
БРУНО. Мама, еще раз!
ФАРКАШ. Не смей ему больше рассказывать! Так не пойдет.
БРУНО. Ты не главный!
ФАРКАШ. Я как раз и есть главный!
БРУНО. Нет!
ФАРКАШ. А вот и да!
БРУНО. Нет!
ФАРКАШ. А вот и да!
БРУНО. Нет!
ФАРКАШ. Да! Посмотрим, кто тут главный, если завтра никто кино смотреть не будет. А завтра никакого кино не будет, это точно, за такое поведение.
БРУНО. Тогда я тебя взорву!
ФАРКАШ. Теперь уже точно никакого кино завтра не будет.
ЭСТЕР. Будет, я разрешила.
ФАРКАШ. Если ты начинаешь его защищать, он никогда не научится. Он же ищет слабое место, ты что, не замечаешь?
ЭСТЕР. А ты не замечаешь, что делаешь ровно то же, что и он?
ФАРКАШ. Но когда ты его защищаешь, он начинает думать, будто он прав!
ЭСТЕР. Я б ему еще раз прочла, и он бы уснул. Ты его совершенно выматываешь тем, что начинаешь…
ФАРКАШ. Ну не может же быть, чтобы все происходило так, как ему вздумается!
ЭСТЕР. А что? Все должно быть, как ты хочешь?
ФАРКАШ. Через десять лет он нас с потрохами сожрет. И косточки обглодает. Сведет под корень. Его ничто не интересует – только чтобы его развлекали. Пять лет сплошной крик. Дня не было, чтобы не орал. Только глаза протрет – сразу кино ему подавай, домой пришел – сразу давай кино смотреть или чтобы ему рассказывали постоянно.
ЭСТЕР. Потому что он такой – ты это хочешь сказать? Плохой, ни на что не годный…
ФАРКАШ. Он не меня сожрет, а тебя. Увидишь – будет приходить домой пьяный, включать телевизор… раз уже в пятилетнем возрасте так себя ведет…
ЭСТЕР. Потише…
ФАРКАШ. Привыкнет… Заснул?
ЭСТЕР. С трудом.
ФАРКАШ. С чего ему меняться, если ты даешь ему понять, что это абсолютно нормально? Каждый день ложится после одиннадцати! По-твоему, это нормально? У нас в детстве в семь уже в постели надо было быть! Посмотрели «Спокойной ночи, малыши», и баиньки. Я не в том смысле, что надо все, как у меня в детстве, делать, но пусть уже знает, где граница, или хотя бы… бог с ним, делай, как знаешь… сама потом поймешь… мне все равно… и вообще, ты права, он просто действует мне на нервы, вот и все. Что делать – не знаю, он будто у меня в мозгу все нервы… по ниточке… по ниточке… на нервах…
ЭСТЕР. Почему мы не разойдемся?
ФАРКАШ. Не знаю. Стоит мне слово сказать – ты сразу с комментариями. Слова доброго от тебя сегодня не услышал.
ЭСТЕР. Потому что ты всегда с крика начинаешь на пустом месте… Можно было просто сказать: все, спи давай, правда, мама с папой хотят поговорить?
ФАРКАШ. Я ровно это и сказал.
ЭСТЕР. Нет, ты сразу начал на него наезжать, мол, никаких больше сказок! А потом – не смей ему читать, почему всегда должно быть, как он хочет.
ФАРКАШ. Не передергивай! Я его сначала как следует попросил, сказал, будь добр, засыпай, мы хотим…
ЭСТЕР. Нет, ты сразу принялся орать!
ФАРКАШ. Охренеть! Жалко, на камеру не сняли. В следующий раз сниму – умереть не встать.
ЭСТЕР. Снимай!
ФАРКАШ. Ты нарочно? Нарочно все наоборот рассказываешь, не так, как было на самом деле. А ребенок так и запомнит, что я плохой, что я всегда на него сразу начинал орать.
ЭСТЕР. Ничего он не запомнит – заснул уже.
ФАРКАШ. Я вообще…
ЭСТЕР. А вот что терпения у тебя по отношению к нему нет ни капельки, это он точно запомнит.
ФАРКАШ. Если я, например, говорю, что эта стена белая, ты потом будешь рассказывать, будто я сказал, что она черная, – ровно наоборот. Я теперь понимаю, почему мне всегда казалось, что во всем был виноват папа – наверняка мама точно так же все переворачивала с ног на голову.
ЭСТЕР. И поэтому он вас каждый день бил.
ФАРКАШ. Потому что чувствовал свое бессилие. Мама явно будила в нем зверя своими выдумками.
ЭСТЕР. И поэтому надо было всех бить смертным боем.
ФАРКАШ. От бессилия. Не мог справиться. Когда тебе человек говорит все наоборот, а не так, как было на самом деле, что ты с ним сделаешь.
ЭСТЕР. Поэтому надо было бить. Интересно, до сих пор ты всегда маму свою защищал.
ФАРКАШ. Это я только теперь понял, как оно работает. Всегда виноваты оба. Папа, бедный, так и умер, ничего не смог изменить, все его винили… но он смирился, что он мог сделать…
Раздается звонок в дверь.
ФАРКАШ. Кто это? Ты ждешь кого-то?
ЭСТЕР. Нет.
Звонят.
ФАРКАШ. Сколько времени?
ЭСТЕР. Почти полночь.
ФАРКАШ. Откроешь?
Снова раздается звонок. Эстер выходит в прихожую. Слышно, как она открывает входную дверь. Музыка. Gaslini Play Monk. Фаркаш выглядывает в коридор. Слышно, как пришедшие здороваются, незнакомый женский голос. Фаркаш быстро уносит спящего Бруно в детскую.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































