Текст книги "Женские праздники (сборник)"
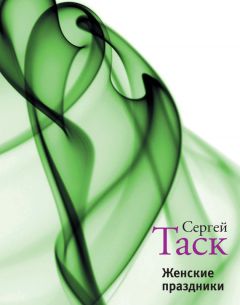
Автор книги: Сергей Таск
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
– Не думаю, – рассеянно ответил он.
– А помнишь китайца… как же его звали?., он еще на КВЖД работал… на «линии», как они говорили… помнишь, какие он делал пельмени? Ты как начал наворачивать, действительно вкусно, что же, спрашиваю, вы в них кладете? Он говорит: «Свинину кладу, капусту кладу, сылое яйцо кладу, водку кладу…» Как – водку? А ты за обе щеки уплетаешь! А потом мы его к нам пригласили, и я селедку на закуску подала. Ой, что с ним было. «Не кусай, отлависься! Она совсем-совсем ссылая!» Ну? Селедку нельзя, а питона можно? Как тебе это нравится? Все-таки удивительно: такой культурный народ и такие варварские обычаи. Заказываем в ресторане утку по-пекински, приходит официант с двумя живыми утками под мышками: «Вам какую?» Я, конечно, отказалась, но твой отец, ты же его знаешь, он не мог виду подать, будто его что-то может шокировать. Приносят. Я на эту жареную утку смотреть не могу. А этот варвар, официант, состругивает мясо в тарелку! Как ни в чем не бывало. Точно полено. Представляешь? Мне дурно стало. А этому извергу в переднике все мало. «Сейсяс из костей бульон валить». Из него бы самого бульон сварили, я бы на него посмотрела. Ужасная жестокость, да?
Он машинально кивнул.
– Я уже написала про русский квартал Дао-ли. Про цирк, про оперу. Ты знаешь, что перед войной в Харбине пел Шаляпин? Да! И Вертинский! Написала про еврейскую столовую. Или про это не нужно? Такая тема… Это может осложнить международную обстановку, тебе не кажется? Лучше я подробнее напишу про «сад Яшкина»… тоже, правда, Яшкин… Помнишь зоосад? Так трогательно. Ты был совсем маленький, я привела тебя к клетке с бурыми медведями и начала что-то про них рассказывать. Они как услыхали русскую речь, как стали ко мне рваться, как стали рыдать. Бедняжки. Не смейся, они все понимали.
Он и не думал смеяться, он ее давно уже не слушал.
– Да что медведи, если Любовь Матвеевна поливает свою фуксию, а та вянет и вянет, а я поливаю – нет! А почему? Потому что я с ней секретничаю. Про свою жизнь рассказываю… про тебя. Да-да. Какой ты маленький смешной был, как ты «р» не выговаривал, совсем как китайчонок. Помнишь, мы с тобой в русской церкви были. А там венчание. Поп-китаец выводит молодых к аналою и начинает: «Венчаются лаба божья Татьяна и лаб божий Михаил…» Все головы попускали, неудобно, смеяться в такой момент, а он серьезно так: «Согласна ли ты, лаба божья Татьяна…»
Взгляд Огородникова застилал туман. И этот поток сознания без начала и конца он слышал как в тумане. Не разливая слов, не понимая смысла. Он, что называется, отбывал номер. Отдавал сыновний долг. И всё здесь было бессмыслица: эта чужая нелепая коммуналка и его мать в ней, эта полутемная клетушка с фотоштативом, использованным под вешалку, эта общая тетрадь с никому не нужными мемориями, бред, бред…
– А что я мог сделать? – пожал плечами Огородников. Он уже снова сидел за столом. – Что вообще можно сделать в такой ситуации?
– Верхи не могут, а низы не хотят, – подытожил Раскин.
– Вот именно. Они меня достали. За моей спиной договорились с домом для ветеранов. Я когда узнал… Тут хоть, все же, не богадельня, дети вот даже, жизнь бьет ключом…
– По голове.
Огородников дернулся, как от удара.
– А я-то думал, у вас, у гуманистов, не принято бить лежачего.
– Ну, во-первых, вы уже не лежите. А во-вторых… психотерапия, понятно, не кэтч, но… не все же вас за ухом чесать. Поймите, чем скорее вы избавитесь от иллюзий и тихо займете приставное место в этом битком набитом зале, тем вероятнее, что вы получите удовольствие от спектакля. Хуже видно? Спина устает? Не брюзжите. Другие, не хуже вас, стоят вон на одной ноге, так что, считайте, вам еще повезло. Главное, что это – ваше законное место, вы за него заплатили свои кровные, и никто вас отсюда не попросит. Душевное спокойствие – оно, знаете, стоит любых неудобств. Вы понимаете, о чем я? А то пролезаем всеми правдами и неправдами в директорскую ложу, а нас потом оттуда… за шиворот.
– Всяк сверчок знай свой шесток?
– Я не уверен, что мы в это вкладываем одинаковый смысл. Да, шесток, если так определила тебе природа. У шестка, между прочим, свои преимущества – отличный вид сверху, если иметь в виду козявок-букашек, и ничуть не хуже снизу, если кто-то покрупнее имеет в виду тебя.
– А если не тебя?
– Не понял?
– Если твою жену?..
Он не любил, когда жена напивалась, а в этот раз Вера явно перебрала. Пластинка давно кончилась, а она продолжала висеть на своем партнере, что не могло не бросаться всем в глаза, поскольку больше никто не танцевал.
– Не отвлекайтесь, дружище. – Швед со значением встряхивал игральные кости, словно говоря тем самым, что для мужчины нет ничего важнее.
Огородников рассеянно бросил кости и записал выпавшие очки.
– Вы не перевернете, Олег, пластинку? – В просьбе этой матрешки как будто не таилась ирония, да и простовата была для иронии эта рязанская девка, сумевшая, правда, подцепить мужа-шведа, московского корреспондента, неплохо говорившего по-русски.
Он выполнил ее просьбу. Стоило зазвучать музыке, как мохнатый шар, подключенный к стереосистеме, зашевелил иглами и стал на глазах переливаться из одной цветовой гаммы в другую, точно хамелеон, демонстрирующий свои возможности.
Танцующие, а вернее сказать флиртующие, вяло сымитировали какое-то движение.
– Человек не может кому-то принадлежать, хотя бы даже в браке, – заметила как бы вообще хозяйка дома, умело подававшая красивую грудь и столь же умело скрывавшая некрасивые ноги. – Типичный предрассудок, освященный буржуазной традицией. Согласитесь, это пошло, – улыбнулась она Огородникову.
– С вами, Леночка, да не согласиться, – натужно улыбнулся он в ответ.
– Буржуазные традиции не так незыблемы, как многим здесь у вас кажется, – произнес породистый швед, окуривавший компанию сладковатым табачным дымом. – У нас в Швеции считают, что, как всякое движимое имущество, жена может переходить из рук в руки.
– Ловлю на слове! – оживилась матрешка.
– Во время танцев, дорогая. – Швед был доволен тем, как ловко он поймал в капкан свою простушку из Рязани. – Только во время танцев.
Огородников помрачнел – камень-то, не иначе, в его огород. Нет, он не ревновал, прошло то время, тут, скорее, было задето его мужское самолюбие.
– А по-моему, жену нельзя держать на привязи. Или привязь должна быть ну о-о-о-чень длинной… Ого, две «шестерки»! И бросок в запасе! – Рязань выкинула еще одну «шестерку» и даже взвизгнула от избытка чувств.
– Так что там насчет привязи? – поинтересовалась хозяйка дома.
– Привязь должна быть такая… – мечтательно завела глазки матрешка, —.. такая… чтобы жена, как козочка, могла запросто переходить с одного пастбище на другое.
– А пастух? – спросила Елена, почему-то глядя на Огородникова.
– Пастух? – удивилась вопросу простодушная Рязань. – Да что ему, козочек мало? Только поспевай.
Огородников заерзал. Все эти двусмысленности, он чувствовал, направлены в его сторону. Но возмутиться значило бы поставить себя в глупейшее положение. Положение его представлялось, в самом деле, незавидным. Лена была не только хозяйкой дома, но и полновластной хозяйкой Института красоты, где Вера заведовала отделением. Он строил выразительные мины, пытаясь донести до Вериной патронессы всю гамму чувств, которые он испытывал по поводу постыдного поведения жены, но его мимические способности не находили отклика.
Чувства, выраженные во взглядах Лены, были, возможно, более прямолинейны, зато яснее прочитывались. Впрочем, Огородников из опасения прочесть в них лишнее старательно опускал глаза.
– Олег Борисович, вы позволите отвезти домой вашу супругу?
Этот тип с бородкой, бесцеремонно обнимавший одной рукой совсем обмякшую Веру, покрутил ключом перед самым его носом, как бы давая понять, что на его, бородатого, четыре колеса он вполне может рассчитывать. И не только сегодня.
– Я… – привстал Огородников.
– Нет-нет, – осадила его хозяйка, – я вас не отпускаю.
– Мы, знаете, рассчитываем на ваш проигрыш, – процедил, попыхивая трубкой, швед.
Вера, встрепенувшись, послала мужу воздушный поцелуй и позволила себя увести… или увезти… и то и другое.
Игра продолжалась.
Ноги у нее действительно подкачали, и он отвернулся, чтобы не видеть, как она раздевается.
– Вера будет волноваться, – произнес Огородников, уже лежавший под невесомым, как пух, японским покрывалом.
– Не будет, – отозвалась Лена.
– Когда протрезвеет, – уточнил он.
– Под моим началом около ста душ и, поверьте, ваша Верочка из них всех – самая трезвая.
– В каком смысле?
Лена скользнула к нему под покрывало, обвилась плющом.
– Нет, ты правда ничего не понял?
– А что я должен был понять?
– Что я тебя давно хочу, например?
– Ну это я, положим, понял.
– Понял, ага. Когда все разбежались и оставили нас вдвоем.
– Все? Ты хочешь сказать…
– Да, и твой Верунчик – первая. Завотделением в Институте красоты – да об этом любая баба может только мечтать. Я ж говорю, в чем в чем, а в трезвости твоей женушке не откажешь.
– Так что вас, собственно, больше заело – что жена наставила вам сослагательные рога (неопровержимых доказательств у вас, как я понял, нет) или что она одолжила вас на вечер своей патронессе?
– По-вашему, не мерзость?
– А вы утешайтесь тем, что одна мерзость уравновешивает другую. Она – вам рога, вы – ей… хотя, наверно, трудно наставить женщине рога, судя даже по медицинской литературе. Возможно, вы были первый, кому это удалось.
– Эти лавры я бы с удовольствием уступил вам.
– Вот оно что. Двойная, значит, обида. Без меня меня «женили», да еще так неудачно. Ну что вам сказать? Ну… считайте, что у вашей жены плохой вкус по этой части. Остается надежда, что в следующий раз вы будете вместе выбирать для вас любовницу, и с большей ответственностью. Надежда-то, Олег Борисович, остается?
– У меня есть неопровержимые доказательства, – угрюмо варил какую-то свою мысль Огородников.
– Что? Какие доказательства? – не врубился Раскин.
– Что она мне тогда наставила… изменила, в общем.
– Но ведь этот… бородатый… вы сами говорили, привез ее домой. Сдал, так сказать, с рук на руки вашей дочери.
– И за то, что он ее подбросил до дому, она, по-вашему, пригласила его на мои именины?
– На ваши именины? – Раскин не сумел скрыть своего изумления. – Бородатого?
– То есть я не знаю, был ли он, но она его пригласила.
– Постойте. Как «не знаете»? А где же были вы?
– Я? – невесело усмехнулся Огородников. – Известно где…
Дом без хозяина выглядел, в общем-то, так же, как и при нем, – звон гитарного «металла», препирательства, бестолковщина.
– Тина!
– Чего тебе?
– А повежливее нельзя? Позвони отцу!
– Че-во?
– Отцу, говорю, позвони!
– Ладно.
– Скажи, к шести все соберутся. К шес-ти, слышишь? – кричала Вера из кухни, занятая в основном тем, что мешала своим подружкам, сестричкам-косметичкам, готовить.
– Не глухая.
– Что? – не расслышала Вера.
– Да пошла ты, – пробурчала дочь.
– Да не в полпятого, а в шесть!
– По буквам, – включилась боевая Верина подружка: – Шашлычок с витамином Е, Солянка с Трюфелями, ну и смягчить это дело чем-нибудь покрепче… Ш-Е-С-Т-Ь.
– А я бы – нет, я бы… – Вера задумалась. – Шубу Енотовую, Сапоги…
Тина, набравшая номер телефона, закричала:
– Не отвечает!
– Выключил. Ну, паразит! Интересно, почему я за всех должна отдуваться?
– Потому что везде хочешь поспеть одной, – Тина выразительно шлепнула себя по заднице, – на три ярмарки. Вот теперь и отдувайся.
Дверь за дочерью закрылась.
Огородников откинулся на спинку кресла, глаза его были закрыты. Он сидел один в большой, со вкусом обставленной квартире. Из стереоколонок мягко звучал уже знакомый нам хрипловатый голос, и ему эхом вторил другой:
В тот день, как облак, Лебедь появился,
в тот день открылась Роза, словно нож…
Ты нежилась под солнцем и скучала,
меня, солдата, колотила дрожь.
Я с матерью простился накануне.
«Не плачь. Считай, что комната за мной.
И не суди, пожалуй, слишком строго,
узнав, что плохо кончил твой меньшой».
Я был в жару – и Роза стала вянуть,
я жалок был – и Лебедь чахнуть стал,
зато ты предпочла меня всем прочим,
и я себя рабом твоим признал.
Он был словно в трансе. Иногда он продолжал шевелить беззвучно губами, хотя ему, вероятно, казалось, что он поет. А то вдруг снова «просыпался», обретая голос.
«Вставай! – раздался голос трибунала. —
Вставай, пока не дрогнул твой отряд!
У них уже кончаются патроны,
уже твоих товарищей теснят».
Но медлил я, изнеженный, в объятьях,
я льнул, давно пресыщенный, к губам,
и сладкий яд, по жилам растекаясь,
убил во мне всю ненависть к врагам.
Так и не смог своих предупредить я,
что неприятель в тыл зайти сумел.
И вот меня считают дезертиром
все те, кто в том сраженье уцелел.
Если бы его сейчас увидел доктор Раскин, то вряд ли усомнился бы в том, что это его клиент.
О, ты дала душе моей свободу,
лишь тело – твой бессменный часовой.
Я обзавелся розою бумажной
и лебедем – игрушкой заводной.
С тех пор, как я принес тебе присягу,
никак домой не слажу письмецо.
Я выказал любовную отвагу,
меня зовут предателем в лицо.
Был период разброда и шатаний, обычно предшествующий застолью. Вера задержалась на кухне, где ее по-хозяйски приобнял красавчик, в последнее время гостеприимно распахивавший по утрам перед Верой (ее муж тому свидетель) дверцу своей модной машины. Некстати вошла Тина и со свойственной молодости бестактностью ляпнула:
– Торопитесь урвать свою часть? Правильно. А то сегодня много желающих.
Вера выскользнула из объятий, а заодно и из кухни, с фельдфебельским окриком:
– Или вы все сейчас же сядете за стол, или…
– …или живым отсюда никто не выйдет, – пошутила боевая подруга.
– Это точно, – поддержал бородатый, тот самый, что увез подвыпившую Веру домой. Чей это был дом, так и осталось невыясненным. – Железные у нашей Верочки объятья.
Шутка, с учетом кухонного инцидента, вышла вдвойне неудачной. Настроение у хозяйки вконец испортилось, а тут еще…
– Господа, что же это за именины без именинника?
– Да! Неплохо бы и Олегу Борисовичу поучаствовать.
– А по-моему, это предрассудок. Ну не смог товарищ. Обстоятельства. Но ведь у нас незаменимых нет? Предлагаю открытым голосованием выбрать исполняющего обязанности именинника.
– Тина… – многозначительно шепнула Вера дочери.
– Нет, – так же тихо отрезала та.
– А что, прекрасная мысль!
– Есть контрпредложение. Считать нашего незабвенного друга временно от нас ушедшим, в ознаменование чего…
Взрыв смеха и аплодисменты заглушили речь. Кто-то потянулся к рюмке во главе стола, налил в нее водку и прикрыл корочкой хлеба. Кто-то так же оперативно наполнил остальные рюмки.
– …в ознаменовании чего, – повысил голос оратор, – почтить Огородникова Олега Борисовича вставанием.
Со смехом полезли чокаться.
– Стоп! Не чокаться! Не положено.
– Правильно. Медленно и печально.
Вера растерянно улыбалась.
Застолье между тем быстро набирало обороты.
– Друзья, в этот печальный день мне, не знавшему Олега Борисовича лично, хочется с особой теплотой вспомнить такие его качества, как хорошую начитанность и плохую наслышанность. Да, друзья, только когда эти качества идут рука об руку, мы можем говорить о настоящей интеллигентности. Человек как бы все знает и при этом ничего не понимает. Замечательная способность, облегчающая жизнь как ему самому, так и тем, кто его окружает. За интеллигентность!
– Золотые слова!
Тина в упор смотрела на мать, словно ожидая от нее какого-то поступка, но Вера гоняла по тарелке холодец с глуповатой улыбочкой.
– Позвольте мне. Я тоже не имел чести знать Олега, но как старый друг дома я убежден – рядом с такой женщиной может жить…
– Мог, – поправили его.
– Рядом с такой женщиной мог жить лишь человек в высшей степени достойный. Жаль, что его нет с нами. Но ведь мы не оставим Веру в трудную минуту?
Одобрительно зашумели.
– Я надеюсь, здесь собрались только самые близкие… те, на кого всегда можно положиться. За тебя, Вера!
Все полезли чокаться с хозяйкой, как вдруг Тина вскочила со своего места.
– Ты куда? – испугалась Вера.
– Под настроение… сейчас…
Настойчиво затренькал дверной звонок.
– Открой! – крикнула дочери вдогонку Вера, подождала и сама направилась в прихожую.
– Огородников здесь живет?
– Здесь.
– Поздравительная. Распишитесь вот тут вот.
Вера развернула телеграмму, машинально прочла вслух:
Отключился от мира. Слушаю Коэна.
Соскучился по себе.
И подпись: Именинник.
Это стало последней каплей. Вера выскочила на лестничную площадку и забарабанила в соседнюю дверь.
– Идиот! Псих! Дурочку из меня делаешь? Открой сейчас же! Я там как белка в колесе, гостей его развлекаю, а он… Открой, говорю! Скучает он, слыхали? Под музыку!
Гости подтягивались к месту вероятных военных действий. Повысовывались соседи. Боевая подруга начала было оттаскивать Веру, но потом из солидарности обрушилась на дверь с еще большей ненавистью.
– Тина! – отчаявшись, Вера позвала дочь на подмогу.
Из комнаты дочери грянул траурный марш Шопена в какой-то немыслимой джазовой обработке.
Огородников будто и не слышал криков жены.
Но медлил я, изнеженный, в объятьях,
я льнул, давно пресыщенный, к губам…
– Тина! – прорывалось издалека. – Если ты сию секунду… мерзавка!..
Так и не смог своих предупредить я, —
звучало в ушах Огородникова.
– Просачивается, говорите? – переспросил доктор Раскин.
– Отовсюду. Снизу, из щелей… из стен… Я это отчетливо вижу: выступают капли, растут, растут, и… знаете, как в парной. Паркет жалко. И мебель у нас югославская, я ее… ладно, не в этом дело. Вода прибывает, понимаете. Очень быстро. Слышу, прорвало где-то трубу, и оттуда хлещет. Надо перекрыть. Или заткнуть. Тряпками, чем-нибудь. А я не могу. Меня нет… то есть я в квартире, а где – непонятно. Дикость какая-то. Надо срочно что-то делать, а я спрятался. И вот я… я-второй, которому это снится… ищу себя, первого, чтобы сказать, что нас сейчас затопит. А уже все плавает – подушки, деньги… Смешно, если вдуматься: как будто мы деньги под подушкой держим. И вот тут, только тут до меня вдруг доходит: это она!
– Вера?
– Не аварию устроила, нет, а сама… вот это всё…
– Вода?
– Наводнение, да. Это она собой заливает комнаты, кухню, холл. Ко мне подбирается. Она знает, где я прячусь! Я не знаю, а она знает. И сантиметр за сантиметром, понимаете, с холодной, дьявольской расчетливостью… А я даже не могу… предупредить себя. Полная беспомощность. И… ужас.
– И часто вам такое снится?
– Сейчас вы мне скажете, что это подсознательный страх перед близостью. Я прячусь, чтобы… А что, не так? У вас же что ни сон, то сексуальная подоплека. У вас…
– Есть хорошая присказка. У кого что болит, тот о том и… помните?
– Болит? Да чему тут болеть? Двадцать лет назад окольцевали друг друга, чтобы было удобнее прослеживать миграции.
– Прослеживаете в основном вы?
– С чего вы взяли?
– Ну, если бы она задалась такой целью, у вас на пальце было бы обручальное кольцо.
– Игрушка для восемнадцатилетних.
– А как же прятки в платяном шкафу? Подглядывание в замочную скважину?
– А хоть бы и так! Я был бы рад ее выследить, только совсем с другой целью. Чтобы с ней развязаться. Раз и навсегда. Бернард Шоу, знаете, пишет где-то про своего друга, перебиравшего разные способы самоубийства… пока не остановился на самом мучительном – женился!
– Бедный вы, бедный. Не с той связались?
– А где она та? Можете показать? Я даже не удивился, когда Тина мне потом рассказала… про эти мои именины. А что? Вера не лучше и не хуже остальных.
– Могу вам дать совет. Если не умеете выбирать женщину, подождите, пока это сделает специалист, и заберите его избранницу себе. Кстати, а что она? Тоже не носит кольца?
– А чем ей еще брать? Слоем парижской штукатурки? Чужая жена – тут и соблазн, и острые ощущения, и никакой ответственности. Разврат 583-й пробы. Кольцо… она его зубным порошком чистит, перед стиркой снимает, на ночь его…
– Симптом Дузе.
– Что?
– Элеонора Дузе. Известная драматическая актриса. Ей надо было передать разочарование, которое ее героиня испытывает, думая о своем замужестве, и тогда актриса как бы в рассеянности сняла обручальное кольцо и стала им поигрывать.
– Вера никогда в этом не признается. Ее очень даже устраивает такое положение.
– А вас? Согласитесь, что и вас оно устраивает. В глазах окружающих вы не какой-нибудь там смешной ревнивец или деспот – современный мужчина, живет сам и дает жить другим. В глазах жены вы само благородство… всецело доверяетесь ее благоразумию. Ну а сами вы как минимум избавили себя от утомительных супружеских обязанностей. Или я неправильно расставил акценты?.. Значит, правильно? Тогда что отсюда следует? Либо продолжайте и дальше закрывать глаза, радуясь тому, как все само собой устроилось, либо… если это вас тяготит, разорвите узел.
– Легко сказать.
– Ну да, вам попалось червивое яблоко – и грызть неохота, и выбросить жалко. Понимаю. И даже сочувствую. За все ведь, как говорится, уплочено… и, наверно, немало. Я вот тоже на днях принес домой два десятка яиц, и все – тухлятина. Представляете? И, самое обидное, как раз в тот вечер у нас сорвался поход в Вахтанговский театр. Вообще, нет ничего опаснее для организма, чем накопление нереализованной жажды мщения. А может, вам ее побить?
– Кого?
– Жену. Успокоитесь. Да и она, знаете… пострадать за дело – для души это огромное облегчение.
– Смеетесь.
– А вы, Олег Борисович? Забыли, как это делается?
– Не помню.
– Ну-уу. Смех – здоровая реакция на гримасы действительности. Что же мне с вами делать? Послушайте, но ведь так было не всегда. Вы что-то недоговариваете. Что-то вас тряхануло и выбило из колеи. А? Случайно не помните?..
Визг тормозов вернул его к реальности. Он успел заметить, что выехал на встречку, и резко вывернул руль. Из зеркальца заднего вида шофер автобуса проводил его выразительным жестом.
– Помню! – выкрикнул он с каким-то ожесточением. – Случайно помню!
В сердцах он ударил по звуковому сигналу. На выгоне корова перестала жевать и проводила его долгим кисломолочным взглядом.
Международная конференция «Ученые – за безъядерный мир» проходила в Доме союзов. При входе, как водится, следовало предъявить аккредитацию.
– Что вы даете? – возмутился юноша с красной повязкой дружинника.
Второй преградил Огородникову дорогу.
– А что? – Он торопился и не счел нужным скрыть свое раздражение.
– То есть как? – изумился первый. – Это, по-вашему, пропуск?
Огородников повертел в руке карманный календарь.
– Действительно… сейчас… – Он порылся в кармане пиджака и нашел, что было нужно.
– Проходите, – неохотно разрешил юноша.
– Совсем заморочили голову, – непонятно кого имея в виду, пояснил Огородников.
За его спиной дружинники со значением перемигнулись.
Огородников вошел в кабинку, надел наушники, проверил связь на пульте.
К трибуне вышел делегат из Африки, разложил тезисы и начал доклад.
Огородников переводил:
– Если за точку отсчета взять Рейкьявик, то мы увидим, что за каких-нибудь два года человечеством уже отвоевано несколько делений на шкале здравого смысла. Обескураженный предложением Москвы уничтожить все ракеты средней дальности, Запад заявляет: Я был в жару – и роза стала вянуть, я жалок был – и лебедь чахнуть стал…
По залу прокатился сдержанный ропот недоумения.
– Американский проект допускает возможность обхода базового соглашения и переоборудования ракет «Першинг-2» в ракеты меньшей дальностью. И, забыв про все на свете, ты готов идти за ним, и ты рад ему поверить: он ведь мысленно назвал тебя своим.
В зале здесь и там раздались смешки. По проходу короткими перебежками, как солдат в траншее на передовой, двигался дублер Огородникова.
– Двойной «нулевой вариант» – вот, таким образом, единственный разумный выход. Но игривый твой взгляд и твой смех говорят: не на шутку бои нам с тобой предстоят…
Докладчик споткнулся и замолчал, откровенно недоумевая, что в его докладе могло так развеселить серьезных ученых.
В кабинку почти одновременно ввалились двое, один выволок упирающегося Огородникова в коридор, другой занял его место за пультом.
– Ты что, спятил? – шипел в коридоре Корнеев, этакий представитель отряда пресмыкающихся. – Решил себя угробить и меня заодно? Жить надоело? – он встряхивал друга, как мешок картошки.
– Ты чего? Совсем, что ли, Корнеев, озверел? – слабо сопротивлялся Огородников.
– Я – «чего»? Я?! Может, это мне через неделю везти группу в Париж? А в июле работать на кинофестивале? Так что ты тут талмудишь про каких-то лебедей!
Огородников вдруг как бы очнулся и тут же начал обмякать в грубоватых объятиях своего друга и шефа.
– Эй, ты чего? – испугался Корнеев. – Всё! Завтра же пойдешь к Раскину. Пойдешь, пойдешь. Нервишки у тебя… Да ты что! Олег! Вырубился, что ли?
– Если я скажу, вы… Зверски, знаете, курить хочется.
– Вот, возьмите, – Раскин вытряхнул на ладонь таблетку и протянул Огородникову. – Вы что-то начали говорить.
– Да. Все это глупо, я знаю, но… я никому еще не говорил, вы первый. Это началось года полтора назад… нет, меньше, год. Читаю политическую колонку… ракеты, ядерные боеголовки… сколько раз всего этого хватит, чтобы стереть нас с лица земли… и тут меня что-то… не знаю, как объяснить. Я раньше не задумывался. Зачем, когда от тебя ничего не зависит? Накрыло – и всё. А тут вдруг стал прислушиваться. Не летят? Или где-то уже взрываются? Испариной покрылся. Потом это стало повторяться. Стратегия первого удара, тактика выживания. И мысль – скорей бы уж. Нельзя же ждать и ждать. Все, понимаете, теряет смысл. В ней, в нашей жизни, и так не много смысла. Еда, работа, треп, женщина… и все с начала. Как Париж по пятому разу: Елисейские поля, Лувр, Пантеон, Сакре-Кёр. А зачем? Если завтра тебя… Вы скажете: малодушие, детские страхи. Или сразу в параноики запишете. И правильно. Что? Соображаете, в какую психушку меня отправить?
– Кажется, Брэдбери сказал: «Если ежедневно читать газеты, можно наложить на себя руки». Нет, записывать вас в параноики я пока повременю. Обыкновенная депрессия. Устали вы, Олег Борисович. От жизни устали. От слов. Шутка ли, двадцать лет по долгу службы повторять чужие слова, хотя бы даже за большие деньги. – Раскин взял со стола свою визитную карточку, нацарапал на ней что-то, ниже начертил простейшую схему, подал Огородникову. – Здесь вам ничто не будет угрожать. Нет-нет, это не психушка, это… да вы сами увидите. Поезжайте. На два, на три дня. Вы ведь на машине? Вот и отлично. Там мой приятель… такое там устроил – обхохочетесь. Я сам не видел, но это такие артисты… Другим человеком вернетесь. Я не пытаюсь вам внушить, что жизнь прекрасна и удивительна. Вы бы мне все равно не поверили. Что говорить. Карусель запущена. Мелькают деревья, скамейки, лица… на самом деле мелькают годы, но об этом как-то не хочется думать, иначе можно сойти с ума. В этой мельтешне, если разобраться, действительно, не много смысла. Круг за кругом – трудовой процесс, пищеварительный, спермаотделительный. Конечно, надоедает. А тут еще требуют, чтобы ты со всеми вместе визжал от восторга. Потому что карусель – удовольствие коллективное. А тебе не хочется. Визжать, размахивать руками, сжимать в объятиях кудахчущую от притворного ужаса партнершу. Ничего не хочется. Дурацкий аттракцион, и ты, принявший в нем участие, кажешься себя законченным идиотом. – Раскин помолчал. – Но мой вам совет: если уж сели, пристегнитесь покрепче.
Огородников вздохнул.
– Спасибо, утешили.
– Бутерброд частенько падает маслом вниз. Не лучше ли раз и навсегда примириться с этим печальным фактом.
– Иными словами, время от времени тебе плюют в лицо, а твоя жена прыгает в постель к первому встречному.
– Примерно.
Огородников поднялся. Молча отсчитал несколько купюр, положил на стол. Так же молча направился к выходу.
– До встречи, – улыбнулся Раскин.
Огородников остановился.
– Следующей встречи не будет.
– Зачем же вы оставили в углу свой зонт?
– Что?.. В самом деле. Забыл.
Он вернулся за зонтом.
– Нередко мы забываем то, что хотим забыть. Что нам уже приелось, чем не дорожим. А то еще бывает… нам нужен предлог, чтобы вернуться.
– Ваше открытие?
– Дедушки Фрейда. Вот, взгляните.
Раскин сдвинул занавеску, за которой обнаружился целый склад забытых вещей.
– Как видите, большинство моих пациентов не прочь еще раз заглянуть сюда на огонек. Но если у вас не возникнет такого желания, тем лучше. Значит, появились другие, более естественные. Я не имею в виду чтение политической колонки. Почаще улыбайтесь, Олег Борисович. Как сказал один остроумный человек, красиво жить – значит пройтись по земле этаким принцем, раздавая наливные яблочки направо и налево. А красиво умереть – значит доесть свое последнее яблоко и громогласно объявить: «Больше не лезет, остальные съедите на моих поминках».
– Всего доброго, доктор.
– Всего доброго… А то слетайте на Гавайи.
– Куда? – Огородников решил, что он ослышался.
– На Гавайи. Возьмите за дочь хороший выкуп, продайте душу дьяволу или сэкономьте на спичках. В общем, раздобудьте денег и – на Гавайи. Не знаю, как там было у Лазаря, а у вас определенно есть шансы воскреснуть.
И вот он мчал по загородному шоссе, то и дело сверяясь с чертежом, набросанным на обороте визитки. В голове звучало:
Если ты велишь,
чтобы я умолк,
пусть наступит тишь,
я исполню долг,
дам обет молчать,
затаюсь, как мышь,
и спою опять,
если ты велишь.
Если ты велишь
мне отставить лесть,
нынче же услышь
все как есть,
нынче же услышь —
с нами благодать,
если ты велишь
тебе не лгать.
Следуя указателю, он свернул на узкую асфальтовую дорожку и сразу очутился в зеленом тоннеле из кустов боярышника и жимолости.
Если ты велишь,
если снизойдешь,
пусть щебечет чиж
и лепечет рожь,
может, не сгноишь
грешников своих,
если нас велишь
сохранить в живых.
Впереди показался форт: мощная кирпичная кладка, узкие бойницы, зеленые ворота с красной звездой. Он сбавил скорость.
А нельзя без мук —
быть посему,
дай лишь сбиться в круг
стаду своему,
легче так смотреть,
как ты нож востришь,
легче встретить смерть,
когда ты велишь.
Он подъехал к форту, заглушил мотор. Хотел уже выйти из машины, когда взгляд его упал на фанерный щит, прикрепленный над воротами:
ШКОЛА СМЕХА
Рука его словно прилипла к ключу зажигания.
Человечек с замашками массовика-затейника вел Огородникова по внутреннему дворику, давая на ходу пояснения.
– Они и наморднички нам, ха-ха-ха, оставили… го-го-го-го-го, го-го-го, го-го-го-го, – прогундосил он в противогазе. – Узнали? Хе-хе-хе. «Песня про купца Калашникова»! – Он весь светился от собственной шутки. – А вот тоже… наша пушечка-развлекушечка… внимание… за-ря-жа-ем… пли!
Нагнетая воздух насосом, он выдул из ствола резиновую толстуху.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































