Текст книги "Сполохи детства"
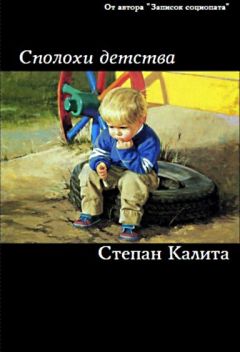
Автор книги: Степан Калита
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
У нас в классе в тот же период обнаружился один «классовый враг». Раньше он был нормальным мальчиком, как все, но когда дошло дело до вступления в пионеры, выяснилось, что ему «не разрешает отец». Скандал был на всю школу. Парнишка с ленинским именем Володя Умчев был очень талантливым, выступал на многих утренниках, читал по памяти стихи, причем, в основном, Маяковского, читал проникновенно, зычным голосом – «ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний наступит, буржуй». Его даже отправляли от школы на смотры артистических талантов. И вдруг – такой фортель. Многодетная семья Володи оказалась под пятой верующего отца. Подозреваю, и детей в семье было столько, потому что бог не велел предохраняться. На бедного Умчева было страшно смотреть. Он, конечно, хотел, как и все, в пионеры. Тем более, что книжки о пионерах-героях тоже читал. И на уроках специально приглашенного партийного преподавателя все аккуратно записывал. И гимн пионеров учил, как все мы. Но тут нашла коса на камень – «нет, и все», сказал Умчев-старший, «мой сын пионером не будет». К нему даже ходила домой комиссия из школы, чтобы понять, что, собственно, происходит – настолько это было необычно.
– Безобразие, – ругалась потом школьный завуч. – Не дать сыну вступить в пионеры. Уму непостижимо!
– А у тебя что отец против советской власти? – помню, спросил я Умчева.
– Да ничего он не против, – ответил он.
– Как не против, если не хочет, чтобы ты был пионером?
– Ну, не хочет и все…
Я, да и другие ребята, решили, что Умчев что-то скрывает.
Я рассказал эту историю дома, и отец хмыкнул:
– Так он этот, наверное, враг народа.
– Что ты несешь?! – одернула его мама. – Какой еще враг народа?
– Ну, я не знаю, – сказал папа. – Странная какая-то история. Я про такое не слышал…
В школе решили, что сын за отца не отвечает.
– Ты хочешь быть пионером? – спросила завуч, поглаживая Володю по лохматой голове.
– Конечно! – заверил он ее.
– Значит, будешь. – Решила завуч. – А папе мы ничего не скажем.
Принимали Умчева в пионеры в последнюю, четвертую, смену. После чего в школу заявился его отец с моржовыми усами и длинными патлами, торчащими из-под белой шляпы, и долго кричал что-то завучу, так что, хотя дверь была закрыта, мы все слышали – ругаются.
Я Умчеву сильно сочувствовал. Мне было проще. Я же из семьи, где бабушки и дедушки – настоящие коммунисты. Такой вопрос – вступать или не вступать в пионеры – даже не стоял. Конечно, вступать. И желательно в первых рядах, на Красной площади. Но в первые меня не взяли. Сказали – надо подтянуть успеваемость. Так что меня принимали во вторую смену, в доме ветерана Великой отечественной войны. Тоже почетно. Хоть и не так, как на главной площади страны.
Нас было человек десять и учительница. Мы специально приехали к ветерану из нашего района, чтобы у него дома провести торжественный обряд посвящения. Он явно ждал нас, волновался. И, наверное, от волнения уже с утра хлебнул лишнего. Ветеран жил один – поэтому остановить его было некому. Встречал он нас в военном кителе с медалями поверх спортивных штанов с вытянутыми коленками и в тапочках.
– Проходите в комнату, – торжественно сказал он.
Из коридора была видна кухня. Я успел заметить на столе бутылку водки, рюмку и колбасу в тарелочке.
Заметив мой взгляд, ветеран поспешно прошел и прикрыл дверь на кухню. Но его попытки скрыть «слабость» были напрасны – запах перегара ощущался во всей квартире.
А вообще, там было довольно аккуратно, несмотря на отсутствие женской руки.
Мы прошли в большую комнату, пахнущую по-стариковски, и остановились в центре, не зная, что делать дальше.
– Ну что ж, – сказала учительница, – вот мы и у Матвей Константиновича, настоящего героя Великой Отечественной Войны. Все достали галстуки, и повязали их на шею.
– Ой, а я забыла, – вдруг объявила одна из девочек и тут же разревелась.
– Ну что ж ты, еб твою мать, – горестно выдохнул Матвей Константинович. И девочка тут же перестала плакать от испуга. – Ладно, – успокоил ее ветеран. – Так постоишь, потом повяжешь, ничего страшного. Поняла, дуреха?
Она закивала. На следующий день она действительно пришла в школу в галстуке – и никто не обратил внимания на то, что ее не принимал в пионеры лично ветеран Великой Отечественной.
Я достал из кармана аккуратно сложенный галстук, повязал его, как учили на специальных уроках, и уставился на Матвея Константиновича. Остальные поступили так же.
– Замечательно, – сказал он, поднял вверх указательный палец и вышел из комнаты, шаркая тапками. С кухни послышался слабый звон. Затем он вернулся, распространяя запах алкоголя.
– Дети, – сказал ветеран. – Я всех вас люблю!
После этой фразы учительница решила спешно свернуть церемонию.
– Ну все, – сказала она, – а теперь все дружно направляемся в сторону школы. Идемте, ребята, идем…
– А про подвиги рассказать не надо? – расстроился Матвей Константинович. – Мне говорили, надо будет что-то такое… – И взял учительницу за плечо.
Она осторожно сняла его руку и мягко сказала:
– В другой раз. Мы вас пригласим… на торжественное мероприятие… девятого мая.
После чего все мы удалились, сказав напоследок «до свидания» ветерану. Он тоже радостно всем говорил: "До свидания! До свидания!» и махал рукой. Ордена при этом бряцали, и вид у него был довольно дурацкий.
Я помню, как был разочарован этой церемонией принятия в пионеры. И думал, как повезло тем, кто попал в первую смену. Вот на Красной площади наверняка было по-настоящему круто! Потом я видел, как принимали двоечников и хулиганов и Володю Умчева в четвертую смену – в музее боевой славы, и понял, что у них тоже все прошло куда торжественнее, чем у нас. В общем, с принятием в пионеры мне не повезло. Побывать в квартире ветерана – не казалось чем-то особенным. У меня воевали и дед, и прадед, и наград у них было намного больше, чем у Матвея Константиновича.
С Володей Умчевым, когда его все-таки приняли в пионеры, все снова стали общаться, хотя ему пришлось некоторое время побыть изгоем. Мы часто ездили после школы на одном автобусе – я к тому времени перебрался на время жить к бабушке, в семье были определенные нелады. Я видел, как Володя идет от остановки, осторожно развязывает, снимает галстук и убирает его в портфель. Должно быть, появись он с красной тряпкой на шее дома, ему бы сильно влетело. Судя по поведению отца, нрав у него был весьма крутой.
До сих пор удивляюсь принципиальности некоторых людей, которые во времена, когда Советская власть была еще вполне в силе, и колосс СССР и не думал шататься «на глиняных ногах», позволяли себе такие вот диссидентские демарши, за которые можно было крупно огрести. Впрочем, отец Умчева, уверен, отстаивал не столько идеалы, а настоящую Веру, а Вера для многих куда важнее любых идеалов. Вот только сына своей слепой гордыней он сильно подставлял – я видел, как тяжело Володе приходилось сносить насмешки ребят в школе.
Умчев, кстати, умер очень рано. По непонятной причине. Всего через пару лет. Заболел – и умер. Сгорел в какие-то считанные месяцы. И история с его сложным пионерским детством сразу же стала малозначительной. Может, он отправился к Богу, в которого так верил его отец. А может, на том свете его встретили партийные работники и похвалили за то, что он все-таки вступил в пионеры, и теперь может стать полноценным членом советского небесного общества – и при желании даже продвинуться по партийной линии. Но сначала, конечно, комсомол – без него никуда, любезный наш покойный Володя.
* * *
В четвертом классе я стал обладателем фотоаппарата «Смена» – и увлекся фотографией. Камеру мне подарили на день рождения. А заодно: старенький фотоувеличитель, красную лампу и рукав. Рукав этот из темной материи, не пропускающей свет, надевался на обе руки, созидая пространство, лишенное света, – в нем надлежало менять нежную пленку, на которую свет действовал беспощадным убийцей… Нынешним юным фотографам, почитающим себя профессионалами, даже представить сложно, какие манипуляции приходилось еще совсем недавно проделывать, чтобы получить качественные снимки. Я колдовал, помню, под светом красной лампы, на кухне, шевелил колесико увеличителя над обрезком фотобумаги – чтобы вывести идеальное по пропорциям изображение. После нескольких минут выдержки листок отправлялся в ванночку с проявителем, затем – в фиксаж (так назывался закрепитель). Не додержишь – и пойдут желтые пятна. Передержишь – картинка почернеет. Снимки я развешивал сушиться на бельевых веревках, цеплял их к веревкам прищепками.
Фотоаппарат очень быстро превратился для меня в ценнейшую вещь. Я старался запечатлеть ускользающие мгновения жизни, самостоятельно, без учебников, познавал перспективу, учился правильно выбирать ракурс, ставить свет, подбирал диафрагму, делал портретные и пейзажные снимки. Многие из моих фотографий по сию пору лежат в семейных альбомах, стоят на книжных полках родни. Не потускнели, не испортились от времени – яркие и четкие, словно сделаны вчера. Я смотрю на них, и вижу за кадром себя. Вот я щурюсь на солнце, выставляю на глаз диафрагму, подношу фотоаппарат к лицу, ловлю картинку в видоискатель и жму на кнопку. Щелчок – мгновение запечатлено. Можно снова взводить затвор верной «Смены»…
С этой самой фотокамерой я через некоторое время попал в серьезную переделку, крайне важную для моего мировосприятия, и на долгое время остыл к фотографии. Теперь я иногда снимаю, но уже без былого пыла. Делаю снимки, а не запечатлеваю мгновения.
Зимой Москва-река покрывалась льдом, и из спального района моего детства можно было перейти на другую сторону – в отдаленный район, куда в иное время года можно было попасть только в объезд – на метро и автобусах. Час дороги таким образом сокращался до десяти минут. У моего друга Сереги на той стороне жили бабушка с дедушкой. И мы однажды отправились к ним в гости, прямо по тропинке, протоптанной в укрывавшем лед мокром снегу. Стоял конец февраля, на улице был ноль градусов. Помню, мне было жарко в зимней куртке, и я ее расстегнул, снял шапку. Мы без проблем пересекли реку, забрались на парапет набережной, и отправились в гости к Серегиным родственникам. Они оказались парой, сильно пережившей отпущенный им век. В квартире стоял затхлый запах старости и тяжелой болезни. Бабуля еще передвигалась довольно бодро. Хотя почти ничего не слышала. Разговор с ней превращался в муку. Даже слуховой аппарат не помогал. А вот дедушка Сереги совсем сдал – он распластался в кресле-качалке, тяжело дышал, говорил еле-еле, с сиплым придыханием. Мне казалось, он вот-вот отбросит копыта. Очень не хотелось, чтобы это произошло при мне. Скорбную картину увядания добавлял громадный старый дог. Зверюга с красными глазами и, словно, вывернутыми наизнанку веками, лежала на ковре, у ног дедушки. Хвост у дога весь был в язвах. Он оббивал его об углы квартиры. Тогда я впервые подумал, что держать собаку столь крупной породы в городских условиях – бесчеловечно. Бабушка предложила нам чай. Но я, представив, как буду пить из их кружек, ощутил тошноту. Спешно попрощался с другом – и ретировался. Визит оставил у меня самые неприятные чувства. Я бодрым шагом спешил через микрорайон к набережной, пообещав себе во что бы то ни стало умереть молодым. И вскоре такая возможность мне представилась.
Уже порядком стемнело, теплый ветер налетал порывами с реки, между домов я вдруг увидел громадный диск белой луны на фоне темного дерева на холме. Захотелось запечатлеть эту картинку. Я тут же извлек фотоаппарат из-под одежды, – он висел на ремешке на шее, под курткой, – и принялся фотографировать. У меня оставалось всего четыре кадра, и я очень старался, чтобы они не пропали даром… Уголком зрения я вдруг уловил какое-то движение. Обернулся. И тут же душа ушла в пятки. За мной наблюдала, стоя в отдалении, у подъезда, компашка из пяти человек. Все рослые, взрослые ребята. От них явственно веяло агрессией. Я понял, что фотоаппарат – этот столь ценный для меня предмет – их очень заинтересовал. И они, скорее всего, попробуют его отжать… Я тут же повесил камеру на шею, заправил под куртку и пошел к набережной, старался не показать виду, что испугался, и потому спешу.
– Эй, ты, постой-ка! – тут же закричали со стороны подъезда.
Я прибавил шагу, а, свернув за угол дома, и вовсе побежал. Плевать, что они обо мне подумают. Не до гордости. Это чужой район. Здесь могут навешать только за то, что ты зашел на чужую территорию.
Они сорвались с места, как гончие по команде, и кинулись за мной. Я обернулся на бегу – и увидел, что меня преследуют всей стаей… Я несся стремглав, опасаясь только одного – поскользнуться и упасть. Тогда они меня настигнут. Через чугунное ограждение я перемахнул в одно мгновение. Увидел, что лед успел подтаять с краю, и что каменные плиты реки совсем мокрые. Дорожка тоже была сырой. Лужи образовались прямо во льду. Пришлось несколько сбавить скорость, чтобы не навернуться… Они отставали от меня метров на тридцать. С неба валил густой липкий снег хлопьями. На реке было темно. Только вдалеке светилась огнями фонарей родная набережная. Если бы не луна, я бы, скорее всего, потерял тропинку. Но луна помогала мне, запечатленная недавно на одном из снимков. Я вдруг услышал громкий хруст под ногами, и увидел отчетливо, как прямо вдоль тропинки пробегает трещина, обгоняет меня, и уходит куда-то в сторону. Мне показалось, что под ногами качнуло. Меня прошиб холодный пот. Голова закружилась. Позади почти сразу послышался отчаянный вопль. И всплеск. Я замер, расставив ноги. Между ними была трещина. Обернулся. Там все так же слышался плеск, будто кто-то колотил руками по воде, и еще крик: «Помогите мне, помогите…» Метались какие-то фигуры. Я осторожно поднял ногу, переставил от трещины, сделал шаг в сторону. Внизу вновь страшно захрустело. Словно зубы громадной рыбины медленно кого-то перемалывали. Или мельничное колесо вращалось с трудом.
– Блядь, да где он?! – закричали со стороны чужого района.
Я понял, что один или двое моих преследователей ушли под лед. Некоторое время размышлял, потом шаг за шагом потащил свое не желавшее подчиняться тело обратно. «Я должен им помочь… Я должен им помочь…» – звучало в голове. Тело сопротивлялось. Твердило, что никому я ничего не должен. Ноги не шли. Но разум был неумолим. Вскоре я увидел разлом. И остановился. Возле него никого не было. Только куски обломанного льда по краю, и неровная полынья. Три парня ниже по течению реки ползали по снегу, разгребая его руками. Должно быть, провалившихся под лед унесло ниже. Я ощутил слабость в коленках. Один из них что-то заорал с перекошенным лицом, глядя на меня. Тут я снова почувствовал дикий страх, – опасность была очевидной, – и поспешил прочь, осторожно ступая, чтобы не угодить на трещину. Уже у самой набережной меня настиг очередной вопль отчаяния – донесся издалека. Но я уже не останавливался до самого дома. Каждый шаг по твердой земле доставлял радость…
Через несколько дней стало известно, что на Москва-реке утонули три восьмиклассника.
– Не пойму, – сказал папа, – как можно лезть на лед в такую погоду? Ведь плюс же. Идиоты.
– Это мальчишки, – заметила мама. – Они вечно лезут куда не надо.
– Я таким идиотом не был, – возразил папа, и повторил: – И-ди-о-ты…
Я в этот момент с ужасом думал, что мог бы сейчас быть среди утопленников. Лежал бы в морге с синим номером на ноге, один из них, и меня бы тоже называли «и-ди-о-том». Знали бы мои родители о том, что произошло на реке. Я решил, что не стоит об этом рассказывать. Лучше забыть.
Тем не менее, случившееся не шло у меня из головы. Я постоянно об этом думал. И сделал целый ряд важных выводов… Твои враги в одночасье могут исчезнуть, свалиться под лед, утонуть. «Что это, – размышлял я, – справедливое наказание за то, что они хотели меня ограбить и избить? Или просто случайность?.. А нельзя ли как-нибудь эту случайность превратить в закономерность?.. Ведь, если верить книжкам, которые я так люблю, зло должно быть наказано. Вот только это жизнь. И в моих ли силах наказать зло? И отвечал себе на этот вопрос твердо, заставляя себя в это верить: «В моих!» Враг для меня был очевиден – Банда Рыжего, подонки, убившие Володю Камышина, они держат в страхе весь район. От мысли, что я вступлю с ними в противоборство, я испытывал двойственные чувства: острое желание поскорее схватиться с ними (от этой мысли начинало колотить в висках, и я ощущал адреналиновый прилив сил), и страх – а вдруг они убьют или искалечат меня (настоящий герой, говорил я себе, не должен бояться – но страх все равно присутствовал).
Страх увечья во мне всегда был больше страха смерти. И потом, когда я лежал в больнице с забинтованным полностью лицом (остались только щели для глаз), я думал, что жизнь моя закончена. Но до этого еще было далеко…
«Надо как-нибудь подобраться к ним поближе, – думал я, – чтобы в тот момент, когда представиться такая возможность, использовать этот шанс»…
Но жизнь катилась своим чередом, внося корректировки в планы, и сумятицу в мысли. Я и представить не мог, что когда-нибудь со всеми, кто окружал Рыжего, да и с самим Рыжим, мы станем почти приятелями. И что они окажутся, в сущности, весьма неплохими ребятами. Все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Для кого-то – подонки. А кому-то – милейшие парни. И все же я никогда не питал иллюзий. Подобравшись к ним ближе, я не забывал, что для меня они враги, и, будучи все время наготове, ждал момента, чтобы нанести удар…
* * *
Отлично помню, как с Серегой мы подходим к турникам. И пожимаем руки всем четверым членам Банды. Его привел в эту компанию Рэмбо (накачанный спортивный паренек – на год старше нас).
– Тебя это… – Рыжий тянет, глядя на меня в упор. – Как зовут?.. Я, вроде, тебя знаю…
С тех страшных событий, врезавшихся мне в память, прошло довольно много времени – годы. Кажется, он успел меня подзабыть. За спиной у Рыжего целый год колонии для малолетних. Еще полгода он прожил у бабки на Украине, и вот теперь вернулся в родной район – «наводить порядок» – так он говорит.
– Степа, – отвечаю я. – Я тебя знаю… Мы с тобой в одной школе учились.
Он смотрит на меня с прищуром, хмурит лоб.
– Чего-то помню, – отвечает. – Но смутно. Лан… короче… будем знакомы.
Остальные поначалу глядят на меня с подозрением. Но потом завязывается непринужденная беседа, я иногда вставляю остроумные реплики, и постепенно меня принимают за своего… Вот я и здесь, среди вас, голубчики, будем знакомы по-настоящему…
* * *
Мой одноклассник Юра Баков в определенные годы был так увлечен женским полом, что всех его представительниц, более-менее близких нам по возрасту, называл своими. Стоило какому-нибудь самцу вторгнуться в орбиту существования наших сверстниц, и Юра возмущенно изрекал: «Нет, ты только посмотри, к моей девушке пристает, нахал». При этом сама девушка понятия не имела, что кому-то принадлежит, и что флиртующий с ней нахал кого-то раздражает. Эта собственническая черточка, граничащая с патологией, однажды сыграла с Юрой злую шутку. Ему так понравилась незнакомка в автобусе, что он разглядывал ее несколько остановок, и, когда внезапно нарисовался некий субъект и, по мнению Юры, подкатил к незнакомке – с понтом познакомиться, он ринулся на ее защиту.
– Ты что это, козел, – закричал он возмущенно, – к моей девушке пристаешь?!
– Ты кто такой? – спросил его молодой человек и тут же возмущенно воззрился на девушку.
– Паша, – пролепетала та, испуганная донельзя, – я его первый раз вижу. Честное слово.
– Неважно, – ответил Паша, и так залепил Юре, что отправил его в нокаут. После этого происшествия, Баков стал осторожнее относиться к прекрасному полу. Бывало, он интересовался у малознакомых девушек, нет ли у них тайных воздыхателей. А если есть, не занимаются ли они боксом… То и дело он восхищенно рассказывал то об одной, то о другой барышне. Правда, излагал многие интимные подробности, которых, я сегодня в этом абсолютно уверен, и в помине не было.
Влюблялся он сразу и безоговорочно – с первого взгляда. И я его отлично понимал. Мне кажется, как и Юра, я был влюблен всегда – все детство, отрочество и юность. Впрочем, излишней ветреностью не страдал. Предмет моего обожания был у меня в сердце долгие годы, занимая все мои мысли… но не фантазии. Интимная сфера странным образом была отделена от платонического чувства. Дело в том, что я почти обожествлял предмет своих мечтаний. Мечтаний, но не страсти… Несмотря на то, что мне хватало информации о том, что двое могут проделывать наедине, я никогда не вожделел в отрочестве ту, которую любил. И не имел ни малейшего представления о том, чего я хочу от той, которую люблю.
Фантазии же, – мои, и моих сверстников (мы частенько делились ими), – касались исключительно зрелых женщин. Юра Баков как-то раз стащил у отца и принес в школу порнографическое фото – пышногрудая женщина лежала на спине, и ноги ее были призывно разведены в сторону. При виде этого фото я ощутил, как кровь зашумела, заколотилось сердце, и у меня немедленно встал. Так что пришлось прикрыться портфелем, благо он был при мне. Я воровато оглянулся – никто не видит?
– Ничего баба, а?! – с придыханием сказал Баков.
«Вот это да, – думал я потом, – та-а-акая баба». Это слово – «ба-ба» – обладало вкусовым ощущением. Я пробовал его на язык. Оно было сладким, как леденец, и одновременно волнующим – «ба-ба».
– Твои бабы? – спросил как-то раз Степа Бухаров, когда мимо нас проходили две одноклассницы, и одна, всегда относившаяся ко мне с симпатией, махнула мне рукой. Мы с Бухаровым бездельничали, точнее – чеканили по очереди мяч о стену универсама.
– Ты что?! – скривился я с отвращением. – Какие они бабы? Это ж мои одноклассницы.
– А они ничего так, – сказал Бухаров и пнул мяч.
Я пригляделся к одноклассницам повнимательнее. Нет, не бабы. Совсем не бабы. Меня они нисколько не волновали. Не то, что соседка из шестьдесят восьмой квартиры, Марина Викторовна, зрелая женщина, лет двадцати трех. У нее уже был ребенок. А мужа не было. Мне она однажды сказала, что я очень красивый мальчик, и потрепала по волосам. При этом я ощутил, что от нее исходит весьма отчетливый животный аромат. Она вся струилась гормонами. И я поначалу испугался. А потом, лежа в темноте, прежде чем заснуть, вспоминал ее прикосновение с удовольствием и мял в руке свой еще не оформившийся орган.
Когда родителей не было дома, я очень любил покопаться в их вещах – в закрытых от меня шкафах, на запретных полках. На одной из них я однажды обнаружил удивительный альбом с эротическими фотографиями. Женщины были засняты в разнообразных пейзажах – на песчаном пляже, в зеленом лесу и в студии. Все они были настоящими «ба-ба-ми» – с созревшими телами, точеными округлостями, выпуклые и манящие…
Вскоре я позвал к себе в гости Серегу и Юру Бакова, и мы вместе стали листать альбом. Мои приятели ахали и охали, цокали языками от восхищения, в общем, всячески разделяли мой восторг.
Поначалу особого смущения перед женским полом я не испытывал. На даче еще до первого класса целовался в губы с девочкой Полиной – ко всеобщему восхищению. «Женихом» и «Невестой» нас не дразнили, а называли с уважением. Но потом внезапно я ощутил некоторый трепет перед девчонками. Связано это было с первой влюбленностью. И отнюдь не в Полину. Ее звали Оля. Она была прекрасна, как экзотическая птица. И в ее присутствии я даже дар речи терял. Натурально не мог вымолвить ни слова. От чего мне казалось: она считает меня идиотом. Бухарову с его простецким «Твои бабы?» я даже завидовал, не умея общаться с одноклассницами и прочими сверстницами запросто, как со своими приятелями-мальчишками.
Впрочем, все они не были «ба-ба-ми» – и потому меня мало интересовали. Я же напротив – вызывал у них всегда самый живой интерес. Девчонки плели интриги, и пытались вовлечь меня в свои игры. Я видел, что им нравлюсь. Они присылали мне записки, с вопросами – в кого я влюблен, с кем хочу гулять, и прочие глупости, на которые я поначалу почти не обращал внимания. Они вели дневники, записывали ответы на вопросы, гадали, кто кому предназначен. В общем, занимались сущей чепухой, и казались мне исключительно странными созданиями. Но потом, внезапно для себя, я вдруг увлекся Олей – похожей на куклу блондинкой, чей папа, тренер по регби, сразу меня невзлюбил. Как это обычно бывает, Оля явилась мне в смутном сновидении (должно быть, Амур всегда охотится по ночам), и утром я проснулся влюбленным в нее.
Некоторое время я страдал молча. Потом на одну из записочек ответил, что, между прочим, очень мне нравится Оля Петрова. Внезапно классный руководитель решил пересадить нас за одну парту. По чистой случайности мы оказались рядом. Я буквально млел рядом с ней. Когда она что-то спрашивала (например, ластик), не мог произнести ни слова. И левая нога (она сидела справа), мне казалось, буквально пылает огнем, от напряжения мышц временами она даже дрожала… Как-то раз я догнал ее на школьном крыльце и выхватил портфель. Оля не испугалась, смотрела с интересом.
– П… понесу, – выдавил я.
Мы брели к ее дому молча. Словно я не провожал ее, а сопровождал. При этом старательно избегая разговоров… Так повторялось несколько дней подряд. Я пыхтел рядом с девочкой, мечтая о том, чтобы завести непринужденную беседу. Но не мог, как ни старался, извлечь из себя ни единого слова. Чтобы как-то усмирить досадное смущение, однажды я схватил ее за руку. Она не отдернула хрупкую ладошку, и я держал ее в своей до самого дома. При этом думал, что у меня ужасно потеет ладонь, и она, наверное, это чувствует. На следующий день я повторил этот трюк. И снова мы прошли до ее дома – рука в руке, как влюбленные. Я решил, что надо пойти еще дальше. И на следующий день аккуратно обнял ее за плечо, как это делали взрослые парни. Проделать такое оказалось довольно сложно, поскольку я был немного ниже ростом. К тому же, никакого опыта в подобных приемах у меня не было. Я ненароком заехал Оле в ухо, и потом еще долго проклинал свою неуклюжесть. В такой ситуации лучше всего подключить самоиронию, посмеяться над собой, но мне было совсем не до смеха. Я был серьезен, как бухгалтер за работой, я осваивался в абсолютно новой для меня ситуации, и, судя по моим ощущениям, быть ловеласом получалось у меня не очень хорошо.
Следующим шагом, решил я, станут поцелуи. И стал готовиться к осуществлению своего намерения. Требовалось собраться с силами. А пока я стал писать Оле исполненные юношеского пыла любовные послания. Слог был высокопарный. И все же, несмотря на пошловатые выражения, вроде «огонь моей души» и «трепет сердца», я изливал душу… Каким же ударом для меня стало открытие, что мои интимные послания вдруг стали достоянием всего класса. Первой, судя по всему, ими завладела Олина подруга Катя – вредная чернявая девица с пронзительным голосом. И распространила повсюду. Одно даже пришпилила на стенд со стенгазетой. Подозреваю, Оле Катя завидовала, и ухажеров отваживала решительно – так, словно они лично ее оскорбляли самим фактом своего существования.
Я бы легко перенес насмешки одноклассников по поводу писем – невелика проблема. Но, к моему удивлению, сразу после того, как их прочел весь класс, Оля от меня отвернулась. Оттолкнула меня, когда я попытался забрать у нее на крыльце портфель.
– Все. Хватит, – сказала она. – Я больше не хочу, чтобы ты его носил…
– Но почему? – спросил я. – Что случилось?..
Тут появилась Катя, схватила подругу под локоть и повлекла прочь. На ходу она обернулась, наградила меня презрительным взглядом и сообщила:
– Ты нам не нравишься. Понял?..
Тут я ощутил целую бурю эмоций. Хотелось броситься за любимой девочкой, и разрыдаться, и еще было очень горько и жалко себя – я не понимал, чем я заслужил такую немилость.
«Ха-ха-ха», – услышал я сзади. Обернулся и увидел Серегу и Юрку Бакова. Они весело смеялись.
– Что, жених, отшили тебя? – радостно поинтересовался Баков.
Сжав кулаки, я шагнул к нему. Серега схватил меня за плечи.
– Да успокойся. Ты чего? Ну, бывает… – При этом сам он, это было отчетливо, видно, тоже вне себя от радости.
– А ты как думал? – сказал Юрка Баков. – Это ж моя девушка. А ты, небось, думал, твоя?..
– Заткнись! – заорал я.
В тот же вечер я заявился к Оле домой. Она вышла на лестничную клетку в спортивных штанах и футболке. Вид у нее был отрешенный, словно мыслями она далеко отсюда. Я стал расспрашивать ее, стараясь узнать, что случилось, что я сделал не так. Она при этом смотрела сквозь меня, потом стала разглядывать потолок. Потом, устав от расспросов, сказала, что у нее еще не сделаны уроки. В этот момент появился ее отец. От его крепкой мускулистой фигуры исходила сила. Зыркнув на меня неприязненно, он сказал:
– Долго прохлаждаться собираетесь? А ну, Олька, хватит хвостом крутить, марш домой. – И скрылся в квартире.
Возвращался домой я, чувствуя себя брошенной хозяином собачонкой. Было так больно, что я ни о чем не мог думать – тупо сидел на кухне и глядел в пол. Пришла мама, поинтересовалась, что случилось.
– Да ничего не случилось! – заорал я, швырнул чашку в стену, вдребезги ее разбив, и выбежал из квартиры.
Если бы в тот момент я сегодняшний оказался рядом, я бы хлопнул себя по плечу и сказал: «Парень, тебе всего одиннадцать, в твоей жизни будет еще столько женщин, столько баб, что ты, пожалуй, удивишься, если я расскажу тебе хотя бы десятую часть… Помни то, что сказал когда-то мудрец: «И это тоже пройдет» Эту Олю ты, конечно, запомнишь. Но только потому, что через некоторое время ты с ней переспишь. И не раз». При этом, я отлично знаю, что тогдашний я стряхнул бы руку с плеча и ответил сердито: «Что мне все эти женщины, все эти ба-бы, если я люблю только одну? Люблю Олю. И хочу на ней жениться». И он, и я, что самое забавное, мы оба, абсолютно правы. Оля – неповторима. Она – маленькая жестокая красивая девочка. Она – развратная некрасивая девушка с широким телом, как у ее отца-рэгбиста. Она – растерянная взрослая женщина. И не играет никакой роли в моей судьбе…
* * *
Большинство людей живут в единственном предметном измерении. Для них недоступен восторг впечатлительной услужливой памяти. И там, где посреди обычного пейзажа, вдруг проступают для меня приметы иной, потусторонней жизни, другого времени и обстоятельств, они видят: панельные многоэтажки, ободранные тополя, цветочный газон и припаркованные в несколько рядов автомобили. Это всё… Что ж, либо они морально-нравственные инвалиды, лишенные способности проникать мыслью в иное пространство, уютно располагаться, существовать в нем. Либо это я наделен уникальным даром – и одновременно проклятием. Поскольку обитание в нескольких измерениях сопряжено с досадным непониманием со стороны окружающих… С возрастом научаешься скрывать свою способность пребывать обитать одновременно в нескольких мирах (если вы понимаете, о чем я), и кое-как вписываешься, протискиваешься в социум, как в узкую расщелину в цельной скале…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































