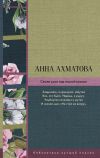Текст книги "Отмена рабства. Анти-Ахматова-2"
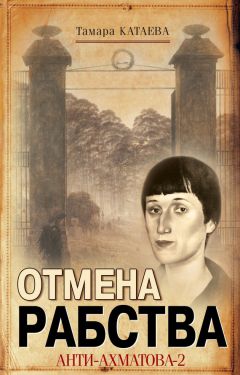
Автор книги: Тамара Катаева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
Похвальба себе
А.А. <…> записывала, резюмируя собранные ею высказывания читателей о цикле: «Это Carmen о любви, но любовь ни разу не названа и соединено с ужасом запретности, о преодолении которого было бы просто нелепо мечтать».
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 196
Ну почему резюмируя? Ведь видно же, что это – мысли, слова, красивости – все свое, рукотворное, самой Анны Андреевны домашнее печенье. Эти читатели, продукт советской уравниловки – поэту нужен ЧИТАТЕЛЬ, не ЧИТАТЕЛИ – почему она даже в дневнике не прогонит их? Может, без ссылки на читателей, просто от себя, удалось бы найти менее выспреннюю интонацию?
Кстати, эти «читательские высказывания» можно сравнить с наставлениями Анны Ахматовой Эренбургу, что и как, какими словами (запретное, ужас и пр.) надо описывать ее творчество.
25 декабря А.А. сказала, имея в виду отпущенный в мир «Реквием»: «Боюсь, что снова буду центром землетрясения».
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 169
В последние месяцы своей жизни, составляя список тем для будущих <…> ахматоведов, А.А. наметила и такую: «Лир<ическая> героиня Ахм<атовой>.
Об ахматовских устремлениях наметить контуры «ахматоведения» сын ее рассказывал: «<…> в конце 1950-х – начале 60-х, когда все писали диссертации, она тоже собралась писать диссертацию на тему „Молодая А<хматова>“, но я отговорил, сказал: „Тебе не сдать «Основы марксизма-ленинизма“.
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 595
Такое бывает и в более благородных семействах.
То, что она (Софья Андреевна Толстая) в последнее лето жизни отца сделалась невменяемой, к сожалению, верно. Это не отрицала впоследствии и она сама, это, конечно, видел и знал Лев Николаевич. <…> Она купила пугач и часто ночью, без всякой видимой причины, стреляла им из форточки.
И.Л. Толстой. Мои воспоминания. Стр. 261, 271
Лучше бы Ахматова купила тоже себе пугач.
Пример Лысенко вскружил ей голову, она хотела своей «Молодой Ахматовой» (что за название? диссертантка путает жанры – «Юность гения», «Детство Богородицы» – это не научные труды) заложить фундамент новой лженауки. Ведь хоть в ахматоведении и трудно ожидать критически настроенного исследователя, но того и гляди всякого понапишут. И как он смел! Это черт знает что такое!
Список тем для будущих диссертаций, составленный на досуге собственноручно Анной Андреевной.
Приводится с восстановленными сокращениями без, в виде исключения, угловых скобок, поскольку сокращено в оригинале почти каждое слово, вариантов прочтения практически нет. Читать со скобками невозможно, а биение мысли понятно. I. Ахматова и наследие классической русской поэзии. II. Ахматова и фольклор. III. Лирическая героиня Ахматовой. IV. Влияние на следующие поколения. Бах! Бах! Снайперский огонь из пугача! Подражатели за границей (Багряна) и дома. V. Ахматова и ее читатели. (Стихи, письма.) 10-е годы – выступления, мода – 20-е (Л. Рейснер), 30-е, 40-е, 50-е, 60-е.
Нумерация грядущих диссертаций ведется римскими цифрами.
Годы, в которые была мода на Ахматову, – арабскими. Все десятилетия поименованы по отдельности, слишком эпохальны были свершения в каждом. Автор начал писать о десятых – когда НАЧАЛОСЬ, но потом пришлось написать и «двадцатые», потому что влияние Ахматовой только окрепло, потом – «тридцатые», потому то она становилась легендой, потом – «сороковые», потому что появилась новая волна ее славы, потом – «пятидесятые», потому что, кроме нее, уже никого в этой стране не было, а потом – бешеная мода на Ахматову шестидесятых, когда все стало на свои места, она – это наше все… Автор не мог этого не писать…
Р. Тименчик предваряет цитирование ТЕМ ДЛЯ БУДУЩИХ ДИССЕРТАЦИЙ фразой: Список тем имеет смысл привести полностью. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 595.) Не может быть, чтобы он не насмехался над ней.
В злополучной статье А.А., во-первых, должен был насторожить отголосок тыняновского эссе «Промежуток», с которым А.А., похоже, спорила в «Поэме без героя». (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 213.) Стоит писать ПОЭМУ, чтобы спорить с критиком? Для этого существует жанр литературного фельетона.
Уста народа открылись, и уста эти – А.А. Поклонимся ей земно. <…> «Это не статья, это вопль!», – сказала А.А. с явным одобрением.
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 212
А. придиралась к каждому слову его (хвалебной) статьи о ней, величественно поворачиваясь в профиль…
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 213
Разбросаны в строках, строфах звенья цепи чувств, но не свяжешь их в одно, они – недосказанные…(Из статьи 1916 года. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 706.) Недосказанные – слово непростое, редкое – отчего так часто встречается у Ахматовой про Ахматову? Как видим, даже не ею придуманное.
Напевная инверсия – но не свяжешь их в одно, никаких прилично-нейтральных: их не свяжешь в одно, не говоря уж о критической или исследовательской интонации. В разборе Ахматовой это недопустимо. Это все только для Жданова.
В дневниковых записях Ахматова сообщает, что читала либретто по «Снежной маске» В. Ходасевичу, отзыв которого о сценарии она назвала «ослепительным». (А. Ахматова. Т. 3. Стр. 712.) Это примечание составителя. Дневник с оценками – все-таки будем смотреть правде в глаза – не отзыва, а отзываемого – писался не по горячим следам, а когда все уже виделось великим.
Либретто слушал и Корней Чуковский.
Она лежала на кровати в пальто – сунула руку под плед и вытащила оттуда свернутые в трубочку большие листы бумаги. <…> Этот балет я пишу для Артура Сергеевича. Он попросил. Может быть, Дягилев поставит в Париже. (К. Чуковский. Т. 1. Стр. 184.) Как только она напишет либретто, Артур Сергеевич быстренько напишет балет, а Дягилев, оставив эйфорию оттого, что во Францию вернулся Стравинский и получил от него заказ, – бог с ним, подождет! – его сразу поставит в Париже. Он уже познакомился с Коко Шанель – она несомненно даст денег на постановку и создаст костюмы, Пикассо бросит свои декорации к «Пульчинелле» и будет работать для Артура Сергеевича – даром что, скорее всего, не знаком с его революционными песнями, которые он писал и, будучи комиссаром музыки, РЕКОМЕНДОВАЛ для изучения в массовых школах. В общем, все выйдет вроде задуманного в середине шестидесятых годов семейного (всемирного, соответствующего Ахматовой по значению, несостоявшегося) издания:
Триптих
Поэма без Героя
(Юбилейное издание)
1940–1965
С предисловием Анатолия Наймана.
Музыкой Артура Лурье и Ал. Козловского.
Оформление: Борис Анреп, Натан Альтман, Дм. Бушен.
Истор<ико>-арх<ивная> справка о Ф<онтанном> доме Ирины Каминской.
Ленинград, Ташкент, Москва.
А. Ахматова. Т. 6. Стр. 225–226
Поэтесса Виттория Колона, которая <…> «в старости стала предметом поклонения за свои высокие нравственные достоинства: на нее смотрели, как на святую», умерла, и Микеланджело горевал, что не поцеловал ее мертвое лицо, а только руку. А.А. сравнила с Микеланджело кого-то из своих современников, «Икса», с таким же строгим целомудрием относящегося к ней.
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 274
В больнице А.А. показывала ей европейские газеты: «Вот последнее, что обо мне написали. Это перед смертью». (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 273.) Вы лежали в палате с соседями? Показывали им газеты? Показывали вам? Величественна ли старуха, показывающая перед смертью газеты?
Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки.
Анна Ахматова. Амедео Модильяни
А.А., как это может заметить читатель З<аписных>К<нижек>, фиксировала все замеченные ею упоминания своего имени в советской печати. По кривой индекса цитируемости она старалась угадать свое сегодняшнее положение.
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 576–577
Положение ее было однозначно: на пороге смерти. А уж для чего тогда фиксировала – предположения могут быть разными.
Я сказал: «Вот прекрасная тема для статьи – „Эпиграфы Ахматовой“ Подарите это кому-нибудь из ахматоведов». Она мне ответила: «Никому не говори. Напиши сам. Я тебе кое-что для этого подброшу»
М. Ардов. Возвращение на Ордынку. Стр. 71–72
Каждый эпиграф выбран не для прояснения или углубления смысла, а для вызывания определенного уровня ассоциаций об Ахматовой, культурной и образованной женщине. Эпиграф из Овидия – неплохо, жаль только, взят из эпиграфа к другой книге другого автора.
Что за филолог, что за литературовед был Михаил Ардов, кому не прочь она была бы вручить, минуя преданных профессионалов, прекрасные темы? Кого люблю, того дарю.
Ахматоведов она представляет сворой грызущихся и соперничающих дельцов. Ардов подбрасывает льстивую реплику – она знает, как отблагодарить.
Я говорю: «До чего же сложную работу вы даете будущим исследователям. У вас тут стихи, телефонные номера, даты, имена, адреса… Кто же сможет в этом разобраться?»… Ахматова поднимает голову, смотрит на меня серьезно и внимательно, а затем произносит: «Это будет называться „Труды и дни“. (М. Ардов. Возвращение на Ордынку. Стр. 12.) И не без гесиодовских параллелей, и задать трудов и дней исследователям. Чтобы не завидовать пушкинистам, будто они на кого-то более сложного работают.
Ахматова узнала, что Льву Копелеву знакомые из-за границы прислали статью про ее торжества в Италии. В те дни Анна Андреевна вышла из больницы после инфаркта. Она несколько раз звонила нам, приглашала. <…> И она каждый раз говорила: «Пожалуйста, не забудьте захватить с собой статью этого немца, говорят, она занятная». Но как показать ей тот лихой репортаж, с шуточками по поводу ее возраста, внешности? <…> Анна Андреевна звонила снова. Уклоняться было уже невозможно. Она сказала, что приготовила нам свои новые книги…
Р. Орлова. Л. Копелев. Мы жили в Москве. Стр. 290–291
Письмо А.А. – К.И. Чуковскому: С каждым днем у меня растет потребность написать Вам (писем я не писала уже лет тридцать), чтобы сказать, какое огромное и прекрасное дело Вы сделали, создав то, что Вам угодно было назвать «Читая Ахматову». (Записные книжки. Стр. 222.)
Лидия Корнеевна не зря писала про какой-то «выключатель» внутри Ахматовой – что-то у нее действительно перемкнуло не в ту фазу, раз она называет ОГРОМНЫМ И ПРЕКРАСНЫМ ДЕЛОМ статью О СЕБЕ. Она сама может так думать, и весь мир может быть с нею согласным, но говорить об этом уже не называется нескромно, это просто глупо, потому что она забылась: Чуковский писал не о Пушкине и не о Данте. Это письмо может жить только как черновик, который ей надо было бы дать кому-то переписать от своего имени. Например, Лидии Корнеевне (она самая безотказная) – вот пусть она и пишет отцу: «Какое ты сделал огромное и прекрасное дело…» – и далее по тексту.
За прошедшие тридцать лет ничто ей не показалось достойным ее эпистолярной милости. А сын Лева еще сокрушался, что мама в лагерь ему не пишет…
Записывает свои впечатления о посещении Солженицына. Строго, не скрывая ничего, с величественной скромностью – о себе ни слова, все о нем:
Про мои стихи сказал недолжное. Записные книжки. Стр. 253
Вот ведь – и не передала дословно, что конкретно было сказано (а вдруг что-то не столь уж запретное?), но найденное ею самой определение для комплимента Солженицына производит такое ошеломляющее впечатление, что лучше уж бы она по-простому написала, что Солженицын упал ей в ноги и ни за что не хотел подняться – я, мол, недостоин и пр. Какое-то тяжеловесное слово, редкое и мощное, какой-то безоговорочной силы, против чего ни у кого язык не повернется хоть что-то сказать. Не-долж-ное!
Начало октября 1961 года. Второй инфаркт. Лидия Корнеевна Чуковская называет его «третьим». Когда был первый? Тот, о котором ленинградская знакомая напишет «после инфаркта, перенесенного в Москве…» – в Москве Лидии Корнеевне «неизвестно, то ли микро, то ли не микро, но во всяком случае велено лежать, и она лежит» – был тяжелым сердечным приступом. (Л.К. Чуковская. Т. 2. Стр. 269.) В Ленинграде он стал безоговорочно инфарктом, первым, а настоящий первый – по ее счету второй – она назвала приехавшей ИЗ МОСКВЫ Лидии Корнеевне уже третьим. То есть поезд Москва-Ленинград возит еще в багажном отделении и ахматовские инфаркты.
В.А. Манулов со знакомым посетили Анну Ахматову в больнице. Когда мы уходили, Ахматова вышла с нами на лестничную площадку, и тут я вспомнил и рассказал ей, что на днях в Комарове на даче у академика М.П. Алексеева я встретился с профессором из Люксембурга, специалистом по русской литературе. Он недавно был в Париже и посетил в Сорбонне специальный семинар, посвященный творчеству Ахматовой. До этого сдержанная и спокойная Анна Андреевна вдруг вспыхнула и с негодованием воскликнула: «Вы с этим шли ко мне, мы говорили почти целый час, и вы могли уйти, не рассказав мне этого!» (Летопись. Стр. 572.)
Почти гениально
Раскрывает перед читателями (дневник – на читателя) свои тайны, свои будто бы бытовые обстоятельства, за которыми – все особенное, непростое, что происходит только с великими:
Завтра (23 окт<ября>) покидаю Будку. Этот отъезд кажется мне предательством. Думается, что я здесь чего-то не доделала, не додумала. (А. Ахматова. Т. 6. Стр. 303.) Сказано сильно. Что же или кого предает? Что-то под стать своему величию – народ, или поэзию, или, как ни удивительно, музыку – музыку вообще.
О ней – просто так, с середины фразы, с эпического союза «и», разорванная страданиями мысль (или ее графоманские блуждания):
…и музыку, которая пила мою душу, я тоже как бы оставляю без питья и от этого сама испытываю ее жажду. Одним соснам решительно все равно…». (А. Ахматова. Т. 6. Стр. 303.) То ли действительно – съезжает с дачи на зиму, а водопой у музыки – только комаровская будка, то ли – думает о смерти, и – на кого музыку оставлять? – Печаль! – Ведь она напиться-то только ее, ахматовской, душой может, да и то только когда тело ее находится в определенном месте, на финских берегах.
…У Ахматовой есть поклонники. Некоторым все это нравится.
Взрослый человек, взрослая, пожилая женщина выводит в своей тетради: Стихи из ненаписанного романа. Форма эта – стихи из романа – только что стала известна и даже принесла их автору Нобелевскую премию. Не бог весть какой новаторский или плодотворный прием – ну получилось так. Легло в строку – но нет никакого смысла активно его использовать, разве что у кого тоже просто так получится. Ахматова без всяких отсылок к Пастернаку тяжеловесно – ее слова на вес золота – выводит: стихи из романа.
Роман никакой не написан. Она считает, что невзначай сказать о ненаписанном – почти так же значительно, как объявить, что у нее в портфеле кое-что есть. Вызрело. Ну и плюс ненаписанность придает этому ненаписанному какие-то дополнительные очки – то ли он лучше того, подразумеваемого, вознесенного минутной славой до небес, то ли таинственнее, то ли нужнее миру… да только жизнь у несостоявшегося автора – сплошная трагедия, не пастернаковская литературная поденка, уж не до романов…
К ненаписанному роману стихи тоже как-то не написались.
Нет, не на московском злом асфальте (ср. не под чуждым небосклоном).
№ 1. Ты написала до конца? № 2. Почти. № 1. Но до какого места? № 2 (небрежно смотря в рукопись): Окровавленная и пустая, но она должна быть, наша связь… (Записные книжки. Стр. 480.) По какому признаку отбирались эти тексты как значимые для помещения в летопись ее жизни и творчества? Если б стихи, то понятно – у поэта все должно быть знаково, каждый стих – веха. А что было найдено в этих вот надрывных словах: окровавленная и пустая? К чувству ее, к раздирающему желанию любви и ответа претензий нет, чувство это было реально и не гасло в ней. Она садилась к столу – оно разгоралось, рвалось, она вытаскивала из себя крики, она не верила, что должна когда-нибудь прекратить, и еще менее – что она не докричится, что ОН и все не поймут, как действительно все это ЕСТЬ между ними, – и неспешные многозначительные разговоры, непонятные и недоступные для всех остальных, простых, и величие ее таланта, признанного во всем мире, но которым она пренебрегает ради трудности и жертвенности своей любви, вот этого величественного, шекспировского, всемирно-исторического – и в то же время интимного, личного для них – окровавленная и пустая… наша связь…
Текст этот только трудно признать литературой.
…доска в честь Веры Комиссаржевской, которая умерла в Ташкенте в 1910 году от черной оспы. «В 1910 году, – сказала А.А. – До всего!.. И дом – как глухая исповедь». (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 722.)
Краткость – не сестра таланта. Никто и ничто не кратко. Жизнь бесконечна. Кратки только ярлыки. Анна Ахматова писала кратко, потому что больше – было не о чем, а к тому же – получалось не так красиво. И дом – как глухая исповедь. Зачем она так сказала? Ну да, дом заброшен в Ташкенте, церкви в Ташкенте всегда были, может, не в самой близости, можно за батюшкой не добежать к сроку, вообще глухая исповедь – не самый лучший расклад, неблагодатно, невезение. Мысли о Комиссаржевской и – сразу – о глухой исповеди (когда уж умирающий ничего не говорит, а ведь могло бы быть все и по-простому, почему бы и нет, слишком часто – для атеистов, приверженцев разве что теории совпадений – умирающие в самый нужный час решаются оставить надежды и исповедаться «нормальной» исповедью) могли прийти одна за другой (смерть – исповедь – какие бывают исповеди), но оставались все равно слишком далекими, на краях слишком широкого круга. Смерть Комиссаржевской была для такого разброса слишком конкретной, но фраза дом – как глухая исповедь все-таки должна была быть сказанной. Подумалось – и было понято, что пришло в голову красиво. Не сказать, не велеть записать – нельзя. Было услышано… Не разгадано… Тайна…
Нам дано знать друг о друге многое, вероятно, даже больше, чем нужно…
Записные книжки. Стр. 395
День смерти <Пастернака>. Была в Переделкине у Бориса. Могила, сосны, серебряный горизонт. (Записные книжки. Стр. 233.) Право, это излишне. Ну все знают, твердо помнят, что она – поэт, в собственных записных книжках могла бы и расслабиться, описывать горизонты без оригинальных эпитетов.
А вот прекрасное начало для повести.
Вчера приехала в Будку. Почему-то все чужое. Живу пока одна. Погода серая, свежая.
Записные книжки. Стр. 234
Была в Коломенском и несколько раз каталась по Подмосковью. В этом году оно ослепительно.
Летопись. Стр. 588
Из нежной призрачной комаровской весны <…> въехала в яркое, пышное, почему-то спелое московское лето.
Записные книжки. Стр. 367
Вот традиционное перемещение Москва – Ленинград – Комарово.
Сегодня заканчивается мое призрачное пребывание в Москве…
Записные книжки. Стр. 372
Ленинград. Приезд. Город, как омытый – весь сияет. Ехали мимо Фонтанного дома. <…> Летний сад – сама тайна (даже от меня). Иосиф – библейское. Ивановский с розами. <…> Т<оля> у меня.
Записные книжки. Стр. 372
Комарово. Ехали по белой ночи. Уже обжитая дача, мнимая тишина.
Я в Москве. Москва какая-то новая, тихая.
Эсхатологические небеса почти с грозной надписью. Записные книжки. Стр. 486
Еще три дня июля, а потом траурный гость – август <…>, как траурный марш, который длится 30 дней.
Записные книжки. Стр. 644
Август, оказывается, был вовсе не таким уж мирным, а наоборот, завершал бурное сорокалетие <…> Зрелище почти величественное, и завершал ли? Неужели опять думать и говорить о поэме? Хренков просит интервью…
Записные книжки. Стр. 734
Выписываюсь в субботу. Рада ли? Не знаю.
Записные книжки. Стр. 711
Написать «Восп<оминания>» о Блоке, который все предчувствовал и ничего не почувствовал.
Записные книжки. Стр. 652
В этот месяц, когда я, кажется, нуждалась в утешении, мне прислал его только Элиот. (Записные книжки. Стр. 654.)
А Бах? А Моцарт? А Данте? Нет, в этом месяце только Элиот.
В Герм<ании> вышел мой двухтомник <…>. Однако мне не прислали. Как все это скучно!
Записные книжки. Стр. 655
Накануне на приеме у французов посол просил передать мне, что Франция открыта для меня в любой момент. (Записные книжки. Стр. 691.) Это дневник. Для самой себя она хочет записать, что о ней знает посол, что у нее никогда не будет проблем с визой. Для нас с вами – что ФРАНЦИЯ для нее открыта и пр.
«Дневник» пишется с трудом. Мысли она бережет для стихов. Литература, считает она, это записанные мысли. Ее дневник даже до такой литературы не дотягивает, хотя она часто прибегает к палочке-выручалочке – записи повседневного. Собственно, дневники так и делаются: человек пишет дату – и пошло. Мы потом читаем не отрываясь. Задумывается о жизни и Анна Ахматова.
В четверг поеду в город за пенсией. Поможет мне на этот раз Володя.
Да здравствует Леопарди! Начинаю.
Записные книжки. Стр. 668
Кончается осень. Начинается Она. А что с ней делать – неизвестно.
Записные книжки. Стр. 674
Воскресенье. Ночь. Один из чернейших дней моей жизни. Утром милое письмо от Иры.
Записные книжки. Стр. 697
20 октября. Опять требования «Пролога» из ФРГ.
Поздравление от Корнея. Пишет, получил запрос из Англии и Америки о моем здоровье. Мило!
Записные книжки. Стр. 692
Комарово. Сегодня у посетителей, очевидно, просто выходной день.
Записные книжки. Стр. 609
Стихотворение Бродского «Осенний крик ястреба». Пусть оно – непосредственно о жизни на этой земле и об уходе в небеса с криком, темы могут быть и скромнее, но осмысленность текста все равно должна присутствовать.
Ахматова пишет где-то прочитанные слова, к большинству из которых она вполне равнодушна, выводит их – попарно, тройками, большего объема не нарабатывается – и любуется, отстраняясь – понравится ли читателю? читательницам?
Жемчужины эти лопаются пузырями на уплывающей от стираного белья воде по гниловатой речке.
Дневник Л.М. Андриевской: В прошлом году Анна Андреевна меня спрашивала: «Как вы ощущаете весну в этом году?» – «Никак». – «А я слышу ее, и вижу, и чувствую. Мне хорошо». (Седьмые ахматовские чтения. Стр. 34.) Вот человек запомнил такие точные – и смелые, и неповторимые слова. Так некоторые всю жизнь помнят и ахматовские стихи.
Какую античность она воскрешает своей колесницей, о какой глубине христианского миросозерцания сообщает, какую фольклорность студенческого капустника демонстрирует? Возьмите любые дневники – Пушкина, Толстого, Достоевского, Блока, Вен. Ерофеева, откройте наугад и прочитайте хоть страницу – и попробуйте вставить задумчивую фразу: «Сегодня Илья (Анна Ахматова не скажет даже «Ильин день», а уж совсем обыденно, по-народному – Илья). Вчера всю ночь он катался на своей колеснице по небу» (Анна Андреевна церкви не посещала, поэтому в датах путалась, но сейчас не об этом). Что скажете? Кого могли бы заинтересовать видения катящейся колесницы? Катится – и что? Если б такая фраза могла случиться в юношеской части дневника, то это наверняка дневник человека, который никогда не вырастет и никогда не станет значительным человеком. В годы ясности рассудка таких рассуждений тоже не бывает.
Еще из «Пролога». Гость: Хочешь, я возьму тебя с собой? (за границу, имеется в виду) Х. (с отвращением): Это уже было… и много раз. Наверное, хочет напомнить. «Мне голос был…» и пр.
У судеб не так уж много принципиальных схем. Многие похожи. Фет писал свои лучшие стихи на старости лет. Ситуация, похожая на ахматовскую, – начинал в молодости, потом замолчал (работал по хозяйству). К 1877 году разбогател, купил красивое и богатое имение, получил дворянство – и стал заново писать прекрасные стихи. Ахматова тоже легко не жила, к старости стала благополучна – были деньги, признание, окружение. Писала «Энуму Элиш». «Пролог, или Сон во сне». Подзаголовков очень много. Можно списать на то, что рука в предвкушении вдохновения выводила вензеля на бумаге. А вдохновение все не шло. Остались одни подзаголовки, вторые названия, посвящения, прологи, варианты, м.б. вместо предисловия, м.б. дневник, м.б. письмо к Х., второе письмо к Х. (просто мне нравятся четные числа, какое вы хотите: седьмое?)…Из сожженной тетради, из ненаписанного романа, титульный лист, отрывок, приписываемое (найденное в приплывшей по морю бутылке), планы, темы для будущих диссертаций.
Вот подзаголовок: Проза (хотя это все-таки драматургия, полная булгаковских перепевов: телеграмм о том, что пьеса принята к постановке, одноглазые иностранцы в директорской ложе, бойкие домработницы…).
Из нее – отрывок. По совету критиков – без комментариев.
Некто на стене: Ты звала меня?
Х.: Ты кто?
Некто на стене: Я тот, к кому ты приходишь каждую ночь, плачешь и просишь тебя не губить. Как я могу тебя губить – я не знаю тебя и между нами два океана.
Х.: Узнаешь. Сначала ты узнаешь не меня, а одну маленькую книжку, потом… <…>
Он (молча закрывает лицо руками): Зачем ты такая, что тебя нельзя защитить? Я ненавижу тебя за это. Скажи, ты боишься?
Она (протягивая руки): Я боюсь всего, а больше всего – тебя. Спаси меня!
Он: Будь проклята.
Она: Ты лучше всех знаешь, что я проклята, и кем, и за что.
Он: Ты знаешь, что ждет тебя?
Она: Ждет, ждет… Жданов.
Слетаются вороны и хором повторяют последнее слово. (Жданов! Жданов! Жданов! – зрители с гневной скорбью переглядываются.) Адские смычки.
Она: Я разбудила моих птичек. Смотри, не проснись и ты.
Он: Я проснусь только, если коснусь тебя.
Она (выходит из стены и становится на одно колено): Все равно – я больше не могу терпеть. Все лучше, чем эта жажда. Дай мне руку.
Удар грома. Железный занавес.
Сцена записана еще раз от слов: Мы (изменяется число) разбудили моих птичек…
(А. Ахматова. Т. 3. Стр. 329–331.)
Мрачное слово – Жданов… Анна Андреевна записывает в 1962 году, ей уже и дачи дали, и медали: Казалось, этот гос<ударственный> деятель только и сделал в жизни, что обозвал непечатными (вполне печатаемыми) словами старую женщину, и в этом его немеркнущая слава. (Я всем прощение дарую. Стр. 468.) Казалось только ей – он и других гадостей понаделал, ну а то, чтоб и к ЕЕ немеркнущей славе лепту подбросить, – это так, было.
Сказала о Блоке: «Не было более ненастного человека». (Вяч. Вс. Иванов. Летопись. Стр. 628.) Такое впечатление, будто она перед разговором листает словарь и составляет впрок какие-то, как ей кажется, необычные словосочетания, чтобы поразить собеседника свежестью своего взгляда. Блок не был человеком ненастья – для этого надо было быть унылым, длинноносым, с бледной тестообразной кожей, с холодным потом, с запахом холодного пота и влагой рукопожатья, большим и слабым. Блок был все, что наоборот. Она этого не знала – тогда (до разных публикаций) этого не знали, видели только то, что было на виду. Она не была ему близким человеком и ничего о нем не знала. А вот недавшийся – недоступный, гордый, чистый, злой – конечно, ее бесил, в меру сил она добавила в его образ мутной краски. «Ненастье» – вообще слово не ее лексикона, для нее слишком «погодное», простонародное. В ненастные дни королевы не гуляют, в ненастье только простолюдинки хворост тащат. Ну а в Блока можно бросить. А может, и не думала о нем слишком – просто mot созрел, к кому-то его надо было приставить.
Я выписываю из книги Романа Тименчика те отрывки из записных книжек АА, которые заинтересовали его. Я не хочу комментировать сами ее записные книжки, не хочу и читать их. Я не хочу быть ее исследовательницей, она мне неинтересна. Я читаю то, что о ней написали люди, чем она захватила их, как она их себе подчинила. Феномен Анны Ахматовой – в этом, не в ней самой. Сама она более или менее проста и ясна. Пресловутой ТАЙНЫ в ней нет.
Может быть, Ахматова действительно умно и остроумно рассказывала (должны верить на слово, поскольку все, что записывали за нею – не поражает, а характеристики блеска ее разговора могли родиться и от ослепления ее актерским даром). Говорунов много. Но все-таки поэтов мы знаем не по байкам. То, что писала она сама в своих записных книжках – представляет собой всего лишь смесь банальности и претенциозности. В простоте нет ни одного слова. Разумной, трезвой мысли, над которой она бы размышляла сама – нет ни одной, она путает дневник с госзаказом на панегирик. Почему же все-таки ее записные книжки не изданы? Издали 18 лет назад в Турине – и молчок. Ну, что там вперемежку бытовые записи – мы как-нибудь переживем (да нет там ни одной бытовой записи, Ахматова бытом не занималась, там – перечисление посетителей – но это она вела счет, чтобы поражались, сколько к ней припадало, письма – с той же целью. А всякие – в городе свежо и серо, прозрачная весна и проч. – помилуйте, писалось не для себя, а если для нас – то для чего нам «описания» из дамских повестушек?
А.К. Гладков в дневнике: Н.Я. говорит, что А.А. давно ведет дневник и пишет мемуары. (Летопись. Стр. 550.) Словам Надежды Яковлевны было бы невозможно не поверить. Как же такой заслуженной, давнишней писательнице, поэтессе – и не писать? Даже удивительно, что она на самом деле ничего почти не писала.
2 июля 1963. Сегодня <…> мы (6 человек) одновременно видели Великое Небесное Знамение. (Летопись. Стр. 612.)
Чего только не напишет!
Смерть Неру. Особенно горестно после Тагора и приближения к буддизму, кот<орым> я живу последнее время.
Записные книжки. Стр. 464
Это уже заготовка для частушки. Приближение к буддизму – а там и что-то более или менее смелое про миленка: с насмешкой или с законной гордостью.
Приближалась я к буддизму
Та-та-ТА-та, та-та-ТА…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.