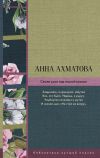Текст книги "Отмена рабства. Анти-Ахматова-2"
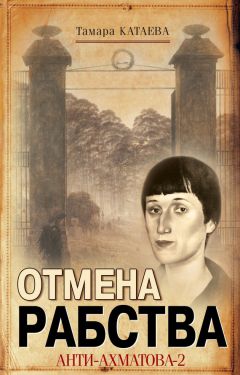
Автор книги: Тамара Катаева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
У Ахматовой длинные руки
Бродский ей – поклон через моря, она ему – щелчок через океан, с родной земли. В родном городе Бродскому не нашлось места для музея, кроме как комнатки в ахматовском мемориале. Город и страна, литературная общественность указали ему его место – в точном соответствии с представлением об этом «патронессы» – как называет хитрую старуху директор дома-музея.
Ахматовский пасьянс принят за карту сокровищ.
Вышла книга заунывных, сладчайших, самых на поверхности лежащих, Анной Ахматовой со смехом подсунутых «догадок» и комментариев – «А.А. Ахматова и православие».
Тут можно дать так давно рвущуюся – царскосельскую античность и открытую мною доязыческую Русь (в музыке, живописи – Рерих, в поэзии – Хлебников, «Ярь» и т. д.). (А. Ахматова. Т. 3. Стр. 265.) На открытую Анной Андреевной «доязыческую Русь» есть даже комментарий: Возможно, Ахматова имеет в виду поиски истоков пракультуры русичей на скрещении Индии и Византии у Рериха, а также культуры скифов и сарматов, у Хлебникова и далее. (Видно, лавры Льва Николаевича Гумилева не дают Ахматовой покоя.) Не прошло мимо внимания Ахматовой, по-видимому, начавшее выходить в 1914 году собрание сочинений Н.К. Рериха. В отзыве на первый том рецензент <…> писал: «Самого серьезного научного внимания заслуживают слова отгадки – о древности и высокости культуры, давшей расцвет Киеву времен Ярослава (это – не доязыческая Русь) … – что через Византию, через ее эмали, грезилась нам Индия <…> подход к иконе (надо полагать, даже не дохристианской) через искусство. (А. Ахматова. Т. 3. Стр. 701.)
Роман Тименчик, конечно, так подставляться (и подставлять Ахматову) не станет…в прилагательном просто описка-контаминация <…> которую напрасно публикаторы подвергают «содержательной» интерпретации. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 416.) Однако же и Светлана Коваленко, ПУБЛИКАТОР, – доктор филологических наук и в любом случае заканчивала среднюю школу. Но она не смеет даже повспоминать, какие это у нас доязыческие Руси были – придумывает «интерпретации». Ведь не может же Ахматова не то что ошибиться, зарапортоваться, понести околесицу – даже просто сделать ОПИСКУ! Надо придумывать какие-то загогулистые, недоступные простым смертным объяснения. Это как со Сталиным. Такой священный ужас при одной мысли о том, что вот сейчас профессору, ученому надо подписать себе смертный приговор – вывести своим пером слова: «Он (Сталин), Она (Ахматова) – Оно! (божество) сделало описку». ДО языческой Руси по ее территории (не называвшейся Русью, конечно, т. е. не по «доязыческой Руси») бродили какие-то племена, занимавшиеся собирательством, не имевшие даже языческих верований и обрядов – даже через костер не прыгающие, просто обрывающие что-то с ветвей. Какой тут Рерих, тут работа для Герасимова. Картинки эти легко представляет себе любой школьник, но д-р Коваленко не смеет этому поверить – и не хочет, чтобы этому поверили читатели собрания сочинений Анны Ахматовой. Это – провокация, товарищи! А если, впрочем, мы будем смелы и образованны, и отважно признаем, что Анна Ахматова – да! – сделала описку, и вместо «доязыческой» хотела написать «языческой» (или «дохристианской») Руси, то, извините, при чем здесь которую я открыла? Какую дохристианскую Русь считает, что открыла, г-жа Ахматова? Ну, на это ответов у комментаторов найдется сколько угодно.
Просто упал взгляд: красивое описание Ахматовой двадцатых годов. С французского: худая, стройная, бледная, как фарфоровая статуэтка, хорошо сложенная и несколько манерная. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 385.) Тут же оригинал. «Несколько манерная» – это перевод «tres manieree» (ложный друг переводчика – «трижды манерная»). Как бы эти переводчики перевели пунинское «она невыносима в своем позерстве»? Немножечко позерка?
У Ахматовой длинные руки. Исайя Берлин вовсе не боится Ахматову. Все его разгромные признания (игнорируемые ахматоведами) делаются, когда Ахматовой нет уже в живых. Все: «и больше у нас отношений не было», «я совершил преступление – женился», «я вовсе не кричал: „Она не Дидона“» – все это написано после ее смерти. «Встречи с русскими писателями» были написаны в 1980 году. Исайя Берлин пережил Анну Ахматову на 32 года. Что естественно – ввиду разницы в возрасте и образе жизни. При ее жизни он вел себя не так. Ну да, остерегался встречаться (остерегался не Большого Дома, а не хотел становиться объектом смешной сплетни. Не уберегся), был краток и вежлив – казалось бы, оскорбительно краток и вежлив – в единственном разговоре по телефону, писем не писал, приветов не передавал, подарков не слал, во снах не видел.
Боялся. Когда какие-то его слова (невинные, никакие, почти никаких слов) просочились все-таки в печать – а он знал, что она, подстраивающаяся под все окружение, подстроившаяся под систему слежек и подозрений, могла бы все разузнать, – на «простого» человека, на западного журналиста обрушила весь гнев своей осторожности человека, пусть и из-за занавеса, но лицом к лицу столкнувшегося с мраком и бесчеловечностью тоталитаризма. Пусть даже в облике «изысканной женщины».
Берлин сказал так: Она сказала о нем не больше этого, насколько я помню.
Журналист подрасцветил так: Исайя навестил ее. Свет в комнате был тусклым, стены грязные, обстановка ветхая и уродливая. Но посреди всего этого на одной из стен он с удивлением увидел шедевр постимпрессионизма – великолепный модильяниевский портрет юной женщины. «Какая чудесная картина, – заметил он за чаем. – Это кто?» – «Это я, – старая женщина счастливо вздохнула, – когда я девушкой была в Европе перед войной». «Кто рисовал?» – спросил он невинно. Она улыбнулась. «Такой славный парень, красавец с черными кудрями, у него был только один старый свитер – он был ужасно беден. А когда закончил рисунок, отдал мне его за батон хлеба и бутылку вина. Больше я его не видела. Моди… Моди… Модильяни его звали, – задумчиво произнесла А.: – Амадео (так в тексте) Модильяни! Меня всегда занимало – что сталось с беднягой!» Берлин в ужасе пишет автору четыре страницы письма: Откуда же взялись эти черные курчавые волосы, фуфайка, бутыль вина, ломоть хлеба и все прочее в вашем сценарии?.. <…> Живы еще люди, хорошо знавшие г-жу А., и если они читали Ваш отчет о моем разговоре с ней, они решат, что я лгун и пошляк, невыразимо омерзительный, и будут правы). <…> Мысль о том, что однажды эти слова могут быть предложены для прочтения самой г-же А., – это нечто такое, о чем мне непереносимо даже подумать. Г-жа А., помимо того, что она гениальная поэтесса, еще и чрезвычайно изысканная женщина великой чувствительности… (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 362.)
Берлину было чего реально бояться: если написать о ней что-то не то, можно стать объектом ее преследования. Она была уверена, что поэт Георгий Иванов, которого она обвиняла в том, что, уехав в эмиграцию, он написал лживые мемуары, был какое-то время полицейским шпиком и состоял на содержании царского правительства. (И. Берлин. Разговоры с Ахматовой и Пастернаком. Стр. 664.) Но и «сценаристу» было бы трудно выдумать и тусклый свет, и грязную комнату, и старость собеседницы, разве что о нищете Модильяни он сам знал. У него была голова Антиноя и глаза с золотыми искрами. <…> Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. (Анна Ахматова. Амедео Модильяни).
Кстати, об Ахматовой. Как-то я говорил по телефону с уважаемым мной коллегой-славистом, в свое время диссидентом. <…> он продемонстрировал знакомство с моей ахматовской (анти-ахматовской) статьей в «Звезде», одобрительно о ней отозвавшись. Я поблагодарил его за поддержку, ценную как по существу, так и прагматически – ввиду ее редкости. «Хочу уточнить, – сказал он, – что поддержка эта, хотя и искренняя, является сугубо частной, публично высказать ее я бы не решился». <…> «Как же вы с этим живете, вы, не боявшийся КГБ?» – «Видимо, Ахматова посильнее КГБ!» – «Чем именно – тем, что любовь к ее стихам делает для вас нежелательным какое-либо обсуждение ее личности?» – «Да нет, стихи дело особое… Дело именно в боязни открыто занять эту позицию. Вы, впрочем, можете опубликовать наш разговор, не называя моего имени, и хотя бы таким образом я послужу делу свободы совести». – «С вашего позволения, я так и сделаю».
Страх моего американского коллеги – очередное подтверждение власти того, что я назвал «институтом ААА». В этой власти нет ничего мистического. Если мой коллега посмеет высказать свое мнение вслух, его, полного профессора престижного университета, с работы, конечно, не выгонят, но в русскоязычном истеблишменте могут перестать приглашать, печатать, признавать за своего… У Ахматовой длинные руки.
А.К. Жолковский. Эросипед и другие виньетки. Стр. 478–479
Лев Кассиль внес в ахматовиану свой вклад, сообщив, в числе многих мемуаристов, о шутке Маяковского: «Как вы относитесь к А.?» – «Обожжаю!» – и Маяковский поет на мотив «Ухаря-купца»: «Здравствуй навек, неизбывная боль, Умер вчера сероглазый король…» Разве любое СВИДЕТЕЛЬСТВО мемуариста – достоверное, не слух или сплетня (в данном случае достоверность подтверждается тем, что факт приводили многие) – не является безусловно нужным? Мемуаристы вольны высказывать свои оценки, выражать приязни и неприязни, за это они в свою очередь могут быть любимы и нелюбимы, но за донесенные до потомков ФАКТЫ мы должны поклониться им в ножки. За правду Лев Кассиль получил колкость – внес в ахматовиану свой вклад. Надо же уметь сортировать воспоминания, писала же Анна Андреевна (тоже с иронией – но не имея в виду нежелательные для себя лично свидетельства): Ни слова правды – ценное качество для мемуариста. Но Лев Кассиль исправился: в последующих изданиях он этот эпизод исключал. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 571.)
Профанное пространство
Она профанирует все, чего касается. Ей всегда надо дать понять, что ей внятно все. Описывать свои размышления – если вообще размышлять – о посещенных местах лень. К тому же наступило время, когда она может пожинать плоды, ей достаточно только называть – и все трепещут, предполагая, какие великие мысли навевают ей географические названия, какие бездны мысли и впечатлений они содержат для нее.
С тех пор была Этна-Таормина. О ней когда-нибудь потом. (А. Ахматова. Т. 6. Стр. 320.) Вот так надо уметь себя поставить: написать – «потом» – и будут почтительно перепечатывать, терпеливо ждать, соглашаться, что, может, и недостойны были, чтобы это «потом» когда-нибудь наступило.
…сразу поехала смотреть Коломенское. Ничего похожего я в жизни не видывала, это прекраснее Notre Dame de Paris/ (Л.К. Чуковская. Т. 2. Стр. 44.) Не скажи-и-те! Notre Dame de Paris, пожалуй, и попрекраснее будет!
Почему их надо сравнивать? Кому она отвечает на вопрос: что прекраснее?
Кто видел Рим, тому больше нечего видеть. Я все время думала это…
Записные книжки. Стр. 689–690
Мы едем через ФРГ и Брюссель – это почему-то нельзя себе представить. А. Ахматова. Т. 5. Стр. 321 Ее суждения о МЕСТАХ – как ее суждения о музыке, одни и те же обороты. Пустая многозначительность, не говорящая никому и ничего.
Доморощенная гофманиана. Италия – это сон. «Впечатление от итальянской живописи было так огромно, что помню ее как во сне». (Летопись. Стр. 75.)
Юля Живова приносит известие, что А.А. разрешена поездка в Италию. Там ей присудили какую-то премию и идет что-то вроде фестиваля поэзии. До этого все время отказывали. <…> А.А. узнает это впервые вот тут. Она заметно <…> оживляется и просит, чтобы проверили. Звонят Маргарите Алигер, и та подтверждает (у нее дочь Маша служит в иностранной комиссии ССП). После и, видимо, вследствие этого сообщения в Москве написано четверостишие, которым год спустя намечалось открыть <…> цикл «В пути», назвав его «Предпуть»:
Светает.
Это Страшный Суд.
[Здесь] И встречи горестней разлуки.
[И] Там мертвой славе отдадут
Меня твои живые руки
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 220–221
И путь, и предпуть, и Страшный Суд, и горести – все это заграничная поездка. А уж премия на чем-то вроде фестиваля поэзии – это уже мировая слава. Кто организовал мировую славу – ей доподлинно известно, так же, как и то, какие у НЕГО руки.
Время идет.
…В блокноте появляется набросок собственных стихов:
Но кто подумать мог, что шестьдесят четвертый
На самом донышке припас такое мне
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 662
О предпутье писать, конечно, только гекзаметрами…
На обратном пути в Риме она была на площади св. Петра к часу еженедельного благословения, которое Папа дает с балкона Ватикана. Этой церемонией А.А. была растрогана до слез.
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 231
1 дек<абря> на Белорусском вокзале. Толпа провожающих. Полное безобразье на самом вокзале. Это уж как всегда, просим извинить. Ночью Минск. Невообразимые вьюги, метели. От них похолодело сердце. (Т. 6. Стр. 319.)
Она рассказала, как ночью ехала в поезде и кто-то сказал, что недалеко Венеция. Стояла у окна. Хмурый, туманный рассвет. Горбатый, покосившийся мост (не дощатый ли? – дощатый?) Фонари. Цепочка фонарей словно проводы на кладбище. Подумала: о такой Венеции еще никто не писал.
Р. Орлова. Л. Копелев. Мы жили в Москве. Стр. 287
Бродский пожил в Ленинграде. После этого можно жить уже где угодно. Ленинград прививает большую внимательность к месту. Ему, во всяком случае, привил. Мосты в Италии по преимуществу каменные – могут, конечно, покоситься, как небезызвестное пизанское строение. С мостами чаще случаются другие казусы. Но Ахматова, как известно, деревянное с каменным путает. Бродский патентует добычу своей, как он выражается, сетчатки. Анне Андреевне важно то, что уже можно продать, – НАПИСАНО или нет? Она не написала сама, но с ревностью оглядывается: ведь никто же другой не смог? Хотя если поставить вопрос так, как в ее случае, собственно, нужно – видел ли кто-нибудь до нее ТАКУЮ Венецию (это была не Венеция) – то можно ее сразу огорчить. Миллионы туристов видят ее ежегодно в туманах и дымках, в предрассветной полумгле и в самых малохоженых закоулках. Это специальное мероприятие, провести которое настоятельно советуют все туристические путеводители. Пишут (во множестве) – конечно, по-разному. Анна Андреевна, во всяком случае, не будет. (Вот узнала же, что Стравинский написал книгу о Петербурге «в звуках и запахах» – и все, сказала как отрезала – все уже описано, и она не будет ПОВТОРЯТЬ кого-то.) Черновик письма А.А. итальянскому издателю («Синьору Х») <…> Описать же для вашего изд<ания>мое путешеств<ие> по Италии (1912), к моему великому сожалению, не позволяет мне состояние моего здоровья. (Летопись. Стр. 579.)
«мне Рим не понравился. Он все время за вами гонится.
Р. Орлова. Л. Копелев. Мы жили в Москве. Стр. 287
Запись Д. Самойлова: «Лондон очаровательно провинциален. Париж холодно красив». (Летопись. Стр. 688.) С такой восприимчивостью и таким свежим взглядом ей не предложило бы сотрудничество ни одно туристическое издание.
Воспоминания К. Риччо: <…> Мы гуляли по вечному городу, но Анна Андреевна мало что в нем успела посмотреть. Она видела кафе «Греко», «Моисея» Микеланджело, была на площади Св. Петра во время папского благословения и была этим так потрясена, что в собор даже не вошла. (Летопись. Стр. 661.)
«Café» Греко. Автограф Гоголя. <…> Старомодно и очаровательно. (А. Ахматова. Т. 6. Стр. 319.) Удивительно, что она имела в виду, называя римское кафе – впрочем, действительно открытое в восемнадцатом веке и одно из самых старых в мире – старомодным. Конечно, новомодные и ультрасовременные могли так ей поднадоесть в советском городе Ленинграде, что нечто старомодное вызывает уже и умиленное недоумение. Но не слишком ли строг ее вкус? Если же она в своей записной книжке щебечет, как туристка в самолете, для которой и римское кафе, и египетская пирамида, и безрукая статуя – все трачено молью, то тогда, со скидкой на приблизительность и незначимость слова, идея становится понятной.
Dé modé, вроде Марины Цветаевой.
1 декабря 1964 года. А.А. с И.Н. Пуниной выехала поездом в Италию.
Летопись. Стр. 660
31 мая 1965 года. А.А. в сопровождении А.Г. Каминской выехала поездом из Москвы в Англию. (Летопись. Стр. 682.) Сколько раз можно доехать до места заключения Льва Николаевича, когда ему в тюрьме (10 лет назад) разрешили свидание (только с матерью) – но маму поднимать ради двух дней нельзя. Очень слабое здоровье.
1965 год. 26 октября. Меня опять зовут в Париж. А что там делать?
Записные книжки. Стр. 681
27 октября. Завтра выяснится про Париж. Я бы в крайнем случае – полетела. (Записные книжки. Стр. 681.) На мероприятие, на которое не слишком заблаговременно (чтобы почтенная особа могла с большим для себя комфортом – и безопасностью для здоровья в преклонных годах – доехать на поезде) позвали.
В 1964 году Анна Андреевна совершила поистине историческую поездку в Италию, в Катанью на Сицилии.
В.А. Шошин. По: Н. Гумилев, А. Ахматова по материалам П. Лукницкого. Стр. 146
Но Петербург оказался возвращенным ей.
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 261
Критические литературные оценки А. часто поражали своеобразием внезапного подхода: «Хемингуэй почему-то считается американским писателем. Но ведь это неверно. Он американец лишь по рождению, он почти и не жил в Америке (однако дольше, чем Анна Андреевна в Царском Селе), и все, о чем писал, происходит в иных странах: в Париже, в Испании, на Кубе. (И. Метнер. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 447.) Но ведь это неверно – можно спросить у самого Хемингуэя, чьим он считает себя писателем. Впрочем, чужие, пусть и заинтересованного лица, мнения для Ахматовой ничего не значат, так – источник раздражения. Это – неверно. Не пускаясь в рассуждения о том, что за герой действует в Париже, в Испании, на Кубе, можно, по указке Анны Андреевны, пересмотреть свое отношение и к другим писателям: индийскому писателю Киплингу, лицу кавказской словесности Михаилу Лермонтову, действие всей прозы которого происходит на Кавказе, – ну новый Шота Руставели, а уж как назвать автора «Незнайки на Луне» – это она бы подсказала. С Хемом можно решить проще – Анна Андреевна упустила из внимания «Зеленые холмы Африки» – вот пусть будет великим африканским писателем.
Страшилки, или Трагическое на второе
Луна с правой стороны, но ущербная и страшная.
А. Ахматова. Т. 6. Стр. 309
Его страшная сжигающая любовь… (к ней, Ахматовой). (А. Ахматова. Т. 5. Стр. 100.)
Их много, и они очень страшные (стихи Гумилева об Ахматовой). (А. Ахматова. Т. 5. Стр. 102.)
Так страшно, точно ваша поэма…
Страшный фон моей жизни и моих стихов…
Я увидела такой страшной северную Францию из окна вагона.
…песни пролетают по черному страшному небу…
Как все близко! – (и страшно…).
А. Ахматова. Т. 6. Стр. 325
Это были черные тюльпаны,/ Это были страшные цветы…
Абсолютно чужая и страшная [ «Поэма без героя»]…
А. Ахматова. Т. 3. Стр. 244–245
В Риме есть что-то даже кощунственное. Это словно состязание людей с Богом. Очень страшно!
А. Ахматова. Т. 5. Стр. 320
Это как будто листки из дневника. Странно и страшно читать эти записи. Я не могу цитировать в журнале эти стихи.
Мне кажется, что я выдаю чью-то тайну. (В. Шкловский. Анна Ахматова.) Статья 1922 года. Красивой женщине подпевали с охотой. Всем уже тогда было страшно. Она стройна и странна – мужчинам только того и надобно. Это Пушкин, об уездной барышне. Ну а мы – столичные. Нас читать уже и страшно.
…что происходит из гулких и страшных недр моей поэмы… (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 592.) А есть недра?
Люди вежливо молчат – выдавить из себя ничего не могут. Тогда она говорит сама. Об этом стихотворении: как-то в разговоре о нем А.А. <…> призналась, что она сама его «немножко боится» (В. Виленкин, По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 604.)
Вам не кажется, что это очень страшная вещь (поэма, конечно)? Мне всегда страшно, когда я ее читаю. (Н. Струве. Восемь часов с Анной Ахматовой. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 604.) Ну надо ж!
Как было страшно, когда Анна Андреевна болела тифом… И сейчас страшно, хотя она цветет, хорошеет и совершенно бесстыдно молодеет. (Н.Я. Мандельштам Н.И. Харджиеву. Летопись. Стр. 363.) Прием подхвачен: когда нечего сказать (правду не скажешь), но нужно произнести что-то значительное, таинственное, гулкое, то и чуткие ученицы быстро осваивают прием. Страшно!
Летом 1961 года А.А. познакомилась с Иосифом Бродским. Как будто она сказала о его стихах: «страшные». (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 142.) «Страшные» – это, по-ахматовски, значит – «хорошие». У нее все страшное – музыка Шостаковича (Все прямо так и говорили – страшная, как моя поэма), ее стихи, ее жизнь, любовь Гумилева, его стихи. Все это – хорошее. Стихи Блока – не страшные, он – тенор. Пастернак пишет «о погоде», чего бояться-то! Марина Цветаева – тон рыночной торговки. Базар, гулянка, веселье. Что страшного она знает о жизни?
В том доме было очень страшно жить…
И глаза я поднять не посмела
Перед страшной судьбою своей…
Самой страшной я становлюсь в «Чужом небе» (1912)…
Да полно!
Я не узнала Париж. Ни дом на rue Bonaparte, 10, ни тихую шелестящую старыми книгами набережную. Казалось, он заснул в 1910 и видит страшный сон, сам себя 1965 года. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 273.) Что было уж такого страшного в Париже 1965 года? Я, конечно, там не была, но видела фильмы с молодой Катрин Денев – там страшно все, кроме Парижа. Что с ним случилось за 55 лет? В шестидесятых стал обновляться и реконструироваться – не все же брюзжать по поводу нововведений – кажется, уже тогда более продвинутым считалось хвалить. Ахматовой казалось, что он заснул, видит сон, но это она говорит всегда, когда нечего сказать. И – куда же без этого – страшный.
Я увидела такой страшной северную Францию из окна вагона. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 272.) Объяснение тому – День, конечно, оказался годовщиной Ватерлоо, что мне сказали в Париже. Днем, страшным для одного человека, который уже все что мог для Франции сделал. Если себя с ним не ощущать ровней – не давать почувствовать эти ощущения окружающим, то осеннее небо над Францией может подарить и менее школярские ассоциации.
Я боюсь, что ко мне приедет Сартр. Это не дежурное I’m afraid… Это встреча двух мегаастероидов, с гулом проходящих сквозь вечности и галактики, грозно безразличных к судьбам копошащихся белковых наростов на второстепенных планетках. Событие, которое оценить могут только равные…
Боюсь, издание книги придется повторить.
Потом часто с ужасом вспоминала, как человек хотел отсидеть полжизни в каземате, лишь бы получить мою книгу.
Летопись. Стр. 92
Первоначально главу предполагалось назвать «СТРАШНЫЕ ТАЙНЫ».
Выписать тайны отдельно, а страшности – отдельно, расположить главу в виде двух колонок. Пока ограничимся страхом.
Читаю Пруста с ужасом и наслаждением.
Из письма Н.Н. Пунину. По: В. Виленкин. В сто первом зеркале. Стр. 81
Это страшно, его стихи – страшные. Ужас его юности – его любовь. (Николай Гумилев – к ней.) Когда совсем нечего сказать.
Николай Гумилев – совсем не трагический поэт. Наоборот, он такой полнокровный, тщеславный человек. Полная событиями жизнь, женщины, ученики, литературные интриги. Незаурядный, несомненно. Повезло – в юности встретился с оригинальной девочкой, влюбился. Конечно, добивался. С такой биографией его жизнь можно было бы укладывать в какую хочешь схему, Анне Андреевне особенно нравилась своя. Она, как это ей свойственно, заводила сама себя, говоря о Гумилеве. Ни одной строчки не обходилось без страшный и ужасный.
Толстой ворчал: «Трагический, трагический… Придет Тургенев, тоже будет все повторять „трагический“.
Г. Адамович. Одиночество и свобода. Стр. 102
Удивительное свидетельство: Ахматова комментирует свою поэзию. СТРОФЫ, СОДЕРЖ<АЩИЕ> ТРАГ<ИЧЕСКОЕ>. Строфы, содержащие трагическое… И это еще не все: Иногда «траг<ическое>» (где закрывать кавычки – не знаю) начинается в предпоследней строке. (А. Ахматова. Т. 3. Стр. 259.) Это не пародия, это у Ахматовой так написано. В пародии можно было бы написать: «иногда же трагическое начинается в третьем от левого края слове» – но это уже будет не так смешно. Вот в предпоследней строке – это в самый раз.
Я не буду объяснять, какой мерой измеряется страдание творческого человека, но то, что и 1913, и 1940 годы для Ахматовой были исключительными по глубине страдания, доказательств не требует. (Алла Демидова. Ахматовские зеркала. Стр. 86.) Действительно, у творческого человека могут быть какие-то необыкновенные, непонятные и необычайные страдания. Все может быть. Но вот когда у этих страданий имеются простые, всем доступные даты – то здесь явно что-то не то. А если кто-то все-таки захочет доказательств – и тоже так, с цифрами и схемами?
А.А. создала, например, цикл «Черный сон». (Л.К. Чуковская, В.М. Жирмунский. Из переписки (1966–1970). Стр. 409.) То есть собрала некоторые свои стихотворения в цикл под таким эффектным названием. Инерция подобострастия, которую она создала в приближенных к себе орбитах, позволяла ей выдавать такие перлы, не опасаясь насмешек, только испуганных (будто взаправду) вычеркиваний карандашом пугливого редактора. На следующей странице – «Сказка о черном кольце».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.