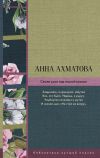Текст книги "Отмена рабства. Анти-Ахматова-2"
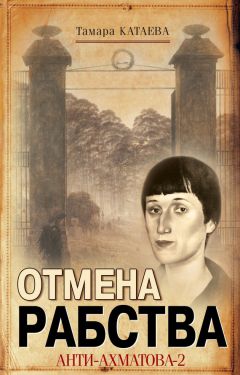
Автор книги: Тамара Катаева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Вокруг Пастернака никогда не было мертвенно.
«Чело» и «заклеймленное чело» – это, как правило, про покойника. Как-то сразу «Смерть поэта» вспоминается – но кто знает, о чем мечтала Анна Андреевна, посвящая Пастернаку строки…
В.Я. Виленкин: «Было больно слышать, как резко она отвергала роман, что называется, с порога, даже не критикуя, не анализируя, обходя молчанием все самое главное в нем, всю его философскую сущность, все социальные мотивы, всю нравственную программу, весь его стилевой строй». (Летопись. Стр. 532.)
Как тут не отвергать с порога, когда Нобелевка уже присуждена?
«Живаго» – сатанинская книга, в ней – сатанинская гордыня». (Запись А.Н. Болдырева слов А.А. Летопись. Стр. 532.) Ну, это, чтобы сказать помягче – просто глупость. Уж чего-чего, а сатанинского ни в романе, ни в Борисе Леонидовиче нет и близко. Пастернак – человек, провалившийся сам в себя. (Запись А.Н. Болдырева слов А.А. Летопись. Стр. 532.) Человек, населивший свой роман сотнями персонажей, просто не мог бы куда-то провалиться: а они?! Ему надо было пасти их.
Сонет
Я тебя сама бы увенчала
И бессмертного коснулась лба.
Но за это Нобелевки мало,
Чтоб такое выдумать, Судьба!
(1963)
Неполучившему Нобелевку лучше о ней молчать; вместо того чтобы рассуждать о ее малости – сделать над собой усилие и воздержаться. А сонет хорош.
Она загорелая, свежая, похудевшая. <…> Больше всего ей хотелось говорить о выдвижении на Нобелевскую премию и о «Поэме».
Летопись. Стр. 585
А.А. говорит, что ей известно, что Шведская академия выдвинула ее на Нобелевскую премию. При этом добавляет: «Никакие награды и звания ничего не могут прибавить поэту».
Летопись. Стр. 615
Oxf<ord>, потому что они хотят выставить меня на N<obel> <Prize>. Бред!!
А. Ахматова. Т. 6. Стр. 308
Через год:
Был англ<ичанин> Вильямс. Оставил газету о Ноб<елевской> премии. Вздор?
Записные книжки. Стр. 631
Ахматова и власть
Виктор Топоров в статье 2003 года пишет:
Сталин писал стихи. <…> Но и чужие стихи он любил. А уж прозу… А уж драматургию… Сталин знал русскую, создаваемую им в колбе советскую литературу с точностью и дотошностью академика отечественной словесности. Присуждая собственного имени премии, он анализировал литературный процесс куда основательней, чем руководители премиального комитета Николай Тихонов и Константин Симонов. Он держал писателей, как породистых скакунов, в неге и холе (правда, стоило какому-нибудь из них захромать – пристреливал), <…> и конюшню под названием «Союз писателей» создал он. Он, а не Горький, <…> которого в конце концов, не исключено, как одряхлевшего производителя, усыпил.
Ахматова любила власть. В официальной власти судьбой ей было отказано (как Сталину – в поэтическом признании) – она на протяжении жизни мастерски, можно сказать, виртуозно выстраивала, институциировала и легитимировала власть неофициальную. Над мужьями. Над поклонниками. Над сыном, хотя здесь ей не повезло (но и Сталину не повезло с детьми). Над поэтами и, понятно, поэтессами. В старости – над собственными «сиротами». Над приживалами и приживалками и над людьми, у которых на правах великой приживалки находила приют сама. Над поэзией, над литературой, над филологической наукой – здесь ее власть парадоксально смыкалась со сталинской. <…> И знаменитое ЖДАНОВСКОЕ постановление означало лишь кульминацию в этом не то противостоянии, не то взаимопроникновении. Все началось с того, что на некоем литературном собрании при появлении Ахматовой зал поднялся на ноги <…> Никто бы не встал при виде практически забытой на тот момент поэтессы, если бы ВСТАВАНИЕ не организовала она сама. <…> Ахматову принялись изничтожать <…>якобы за творчество, хотя на самом деле – за непомерные, на взгляд Сталина, властные амбиции.
В. Топоров. Жесткая ротация. Стр. 294
И Сталин, и Ахматова были – каждый на своем уровне – поразительно жестоки по отношению к своим приближенным. Не просто жестоки, но иезуитски жестоки. <…> Оба не терпели возражений, не выносили общения на равных, всеми правдами и неправдами «опускали» соперников и соперниц. Оба безумно любили литературу и безумно любили власть.
В. Топоров. Жесткая ротация. Стр. 296
У Владимира Сорокина в «Голубом сале» есть омерзительно смешная пародия на Ахматову, бросающуюся в ноги Сталину и умоляющую казнить ее казнью лютою, а главное – ни в коем случае не возвеличить. Именно так (с точностью до противного) следует понимать многие поэтические инвективы Ахматовой – и, прежде всего, наказ не ставить ей памятника В ЭТОЙ СТРАНЕ, не ставить нигде, кроме окрестностей питерской тюрьмы «Кресты». И ведь поставят, дураки, возле «Крестов», а не ОКОЛО МОРЯ, ГДЕ Я РОДИЛАСЬ, и прочих мест, с нотариальной точностью перечисленных. Сталин тоже говорил: «НЕ НАДО СЛАВИТЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА».
В. Топоров. Жесткая ротация. Стр. 296
Крестик и простыня
Портретный набросок пером Юрия Анненкова: Об этом рисунке Евг. Замятин писал: «Портрет Ахматовой – или, точней: портрет бровей Ахматовой. От них – как облака – легкие, тяжелые (?) – тени по лицу, и в них – столько утрат. <…> глаза, траур волос, черные четки на гребне». (Ю. Анненков. Дневник моих встреч. Стр. 123.) Четки – шнурок с нанизанными на него бусами – используются только в религиозном обиходе и только для счета молитв или поклонов. Бусины, так задорно торчащие из восхитительной прически молодой дамы, довольно затруднительно было бы использовать по такому высокому назначению. Почесывающая голову молитвенница, щелкающая бусами высоко над головой, – очевидно, пришлось бы и менять руки, поза не из простых – в такт душевных сокрушений – это что-то невиданное.
Нет, конечно, Евгений Замятин – человек образованный, точный, он все знает про четки, но у кого же язык повернется сказать об Ахматовой что-то не столь возвышенное. Бусины в гребне у Анны-грешницы, у Анны-монашенки? Четки, чему же еще быть?
Что до его [Бродского] отношений с Богом, могу только повторить то, что он мне сказал в разговоре о рождественских стихах Пастернака: «Совершенно непозволительные вещи – гадать по поводу его религиозных ощущений». (Иосиф Бродский глазами современников. Кн. 2. Стр. 203.) С Анной Ахматовой все ровно наоборот – тоже совершенно непозволительно гадать, но не потому, что это вопрос ее личной совести, а потому что эта совесть давно предъявлена для публичного рассмотрения и поклонения по результату. Гадать нечего, всем давно предложен единственно правильный ответ: Анна Андреевна «была глубоко религиозна», «обладала истиной верой» и все такое прочее.
Суть ее религиозности запечатлена в ее стихах многократно:
…Моя рука, закапанная воском,
Дрожала, принимая поцелуй…
Разве убудет жены, если она будет молить за мужа?
Бросалась в ноги палачу…
Убудет палача.
За что она выставляет на палаческую лавку Пастернака?
Пастернак своей заступой никогда никого не корил, одалживаться у него – это что индийские приветствия солнцу откланивать: дай мне, солнце, своего света, своего тепла. Если есть.
Ахматова пастернаковские благодеяния простить не может: даже денежный долг, небольшой, отдает не нетрудно заработанными деньгами, а ПРОДАВ АРХИВ, все письма-записочки, всю память сердца, все кровное… Я с таким чистым сердцем продавала для вас свой архив…
Пастернак за помощью в вызволении ахматовских сына и сожителя, Левы и Пунина, ни много ни мало обратился к Сталину – она же, по наблюдениям исследователя Пастернака Дмитрия Быкова, никогда не обмолвилась об этом ни словечком (из каких-то необыкновенно утонченных чувств, на самом деле именуемых черной неблагодарностью и гордыней). Впрочем, вот – есть упоминание, красноречивое и однозначное: скрыть ненависть к чужой доброте невозможно.
…рассказ <…> «Жена Мандельштама обратилась к Пастернаку, умоляя его заступиться за жизнь ее мужа. Пастернак сделал, что мог…», – гневно опровергнутый Ахматовой: «Надя никогда не ходила к Борису Леонидовичу и ни о чем его не молила, как пишет Роберт Пейн (и не только он, есть и другие источники, в том числе рассказывающие историю со слов Надежды Яковлевны, и точно так же)… Эти сведения идут от Зины»… Причины этой категорической поправки Ахматовой ясны: во-первых, дезавуалировать (что я могу сделать – такое слово в тексте!) портрет Н.Я. Мандельштам, унижающий (конечно, надо «унижающей») себя мольбой о помощи, а во-вторых, связать исходящую от семейства Пастернаков версию с «просоветскими» настроениями З.Н. Пастернак, дурно (по мнению Ахматовой) влиявшей на мужа <…> Между тем обращению к Бухарину в мае 1934 года по поводу Мандельштама предшествовали другие поступки такого же рода у Пастернака. (Л. Флейшман. Борис Пастернак и литературные движения 1930-х годов. Стр. 212.)
Велено каяться. Доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем. Записано в ежедневной молитве. Ахматова не покаялась до смерти.
Все по-опереточному.
А.С. Дубов вспоминает, как он в 1960-е годы принес А.А. «Петербургские зимы»: «Как можно принести мне такую книгу? Я закажу молебен, чтобы очистить комнату от этой…»
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 501
У женщины, перебирающей четки, нет ничего, кроме «него», она падает ниц перед божеством и ждет, как ждут благочестивые индусы, что священная колесница раздавит их» (Н. Гиляровская. «Четки». По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 724.) Нет, она никакой колеснице не поддастся, просто ей кажется, что с закушенной губой она будет выглядеть пикантнее.
Каждый раз, когда ищешь в Ахматовой что-то искреннее и подлинное, натыкаешься либо на ложное наигранное, либо вообще на что-то низменное. На что только она ни шла, чтобы изобразить из себя Матерь Божью!
В. Топоров. Интервью. СПИД-ИНФО. 2007. № 23
Нет, это разве что в картинке со Львом Николаевичем. Там, конечно, роли она расписывала в таком ключе. А вообще-то святости она даже не изображала. Со святой ну ведь обязательно потребуют аскетизма, жертвенности, хоть какой-то отрешенности от земной суеты и удовольствий. Любовники, мужья, иностранцы – весь инструментарий надо будет менять. Сакрализация – да, произошла, но реалии имперского быта были так же далеки от народа, как и царствие небесное, поэтому не заметили, что ее возвели в ранг императрицы, а не святой. А для нее вопрос о том, что более соблазнительно, не стоял. Отказ от эмиграции, героизм во время войны (трудно проявить большую трусливость, но Ахматовой приписали героизм) – это к достоинству королевы. Покойную королеву-мать во время Второй мировой войны спрашивали, как это так, почему она не отправляет в эвакуацию своих детей, наследников престола. Ответ был складный, яркий, годный под афоризмы и искренний – подкрепленный всем ходом ее жизни: «Дети не могут отправляться в Америку одни. Я – не могу оставить короля. Его величество никогда не покинет Англии». Это – макроэтические проблемы, которые объясняют правильно понятый королевский долг, ответственность перед нацией, но эти правильные поступки отнюдь не являются юрисдикцией святости. Святость начинается на другом уровне, на уровне клеток совести, там, где человек остается один на один не с обществом и его условностями, а с самим собой. Императрицей Ахматова быть хотела, петербургской мещанкой, во славу Божию юродивой – нет.
Тут же начинает складываться парадоксальный своей двойственностью <…> образ героини – не то «блудницы» с бурными страстями, не то нищей монахини. (Б.М. Эйхенбаум. Анна Ахматова. Опыт анализа. 1923 г. По: М. Кралин. Победившее смерть слово. Стр. 183.) Можно не соглашаться: и для блудницы она слишком отвлеченно рефлексирует, а для монахини – даже просто лексикон не тот. Вот на смерть Блока – смоленская заступница, Пресвятая богородица – а дальше – и гроб серебряный, и – лебедь чистый. Ну какие тут монастыри, где это про лебедей беседуют? Светская барышня, жениха подразнить – в монастырь уйду, а то и пистолет достану! О самоубийстве в ахматовских строках – немало, со значением.
Написано более чем за двадцать лет до товарища Жданова – и более чем восхищенным автором.
В десятых годах что-то писала о Боге. (Так, считает Ахматова, думают о ней читатели.) А что она в десятых годах – и не в десятых – писала о Боге? Она – сама – не могла не знать, что о Боге она никогда не писала. Она очень внимательно читала современную критику, принимала необычайно близко к сердцу. И ведь никто о ее религиозности не заговорил. Напоминает сама.
Атмосфера слащавой мистики и салонной церковности.
С. Вышеславцева. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 573
Мечтают так: может, закончила свои дни монахиней? По всей видимости, не исповедалась, не приняла и причастия. Когда к ней приходил священник? Ольшевские контролировали все – без их ведома не могли прийти ни Лева, ни Надежда Яковлевна. Если б они допустили священника – были бы их воспоминания. Мишенька был уже крещен – сказал бы. И разве она готовилась к смерти? Бдят верующие. Нет, у нее были планы жить. Она не осознавала серьезность болезни, не хотела, не принимала, отказывалась.
Монахинь же хоронят по особому чину. Если ее отпевали в том же храме, где служил ее духовник, – там знали бы.
«Погребение исходное монахов» <…> отличается от погребения мирских человеков. Тело умершаго монаха не омывается, дабы не открыть наготы его, а только отирается губою <…>, облачается в иноческия одежды и крестообразно препоясуется мантею, а лицо закрывается, в знамение удаления и сокрытия умершаго во время жизни от мира для подвигов иноческих. (Протоиерей Г.С. Дебольский. Православная церковь в ее таинствах, богослужении, обрядах и требах. Стр. 523.) Подвигов иноческих Анны Ахматовой при жизни – верно, не каждый мог видеть, если б, конечно, они имели место (не увидел никто), а вот если б хоронили с закрытым лицом – заметил бы каждый.
Кроме того, при постриге человеку дается другое, монашеское имя. Иногда о тайном монашестве только во время погребения и узнается – когда его отпевают под другим именем. Здесь все было безо всяких отклонений.
Если религия – любая религия – плоха тем, что она – опиум для народа и уводит его от революционной борьбы, то одна религия ничем не лучше и не хуже другой. Нельзя Ахматовой позволить для украшения своих стихов использовать мифологемы христианства, продвигая эту конфессию, нельзя и Мандельштаму позволить насыщать свои стихи образами из проповедуемого им – по этой логике – древнегреческого пантеизма. Зевса никто не боится, Пилата – боятся.
Ей трудно, она пишет главным образом на религиозные темы, ей нелегко печататься». (Б. Фрезинский. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 562.) Ну хочется людям так думать.
Блудница и монахиня, крестик и простыня. У Ахматовой всегда так, увидишь крестик – сейчас будет простыня. Как чудотворная икона – так ночей пламенный чад… в образе лирической героини Ахматовой соприсутствуют – блудница с бурными страстями и нищая монахиня, обращающаяся к небу с молитвой. И это почти неопровержимо. (М.В. Борисоглебский. Доживающая себя. Я всем прощение дарую. Стр. 220.) Соприсутствуют – это из специального словарика, для пишущих об Ахматовой.
Прижимаю к сердцу крестик гладкий,
Боже, мир душе моей верни.
Запах тления, обморочно-сладкий,
Веет от прохладной простыни.
Эту несколько сантиментальную, якобы народную религиозность первый ввел в литературный обиход Кузмин – законодатель очень многих литературных мод. У него непременно вы найдете светлоглазых строгих отроков, кельи и старообрядческих Магдалин в платочках <…> Ахматовой полюбилось рядиться такой грешной богомолкой. Так уж и знаешь, что если с улыбкой перед ней стоит жених – за окном обязательно люди идут со свечами и в воздухе благовей. Если в первой половине строфы друг сердца – во второй обязательно будет благовещенье.
О.Г. Базанкур-Штейнфельд. Что такое ахматовщина. Стр. 246
В православном храме стоят тесно, протискиваются еще теснее, всю службу стучат свечкою по плечу, искушают грехом учительства или гордости – когда за свои житейские невзгоды заставляют свечки передавать в неположенное время, когда бы ты хотел потрудиться и головы не качнуть. Свечкой сзади закапают пальто, а то и подпалят шубу. К причастию первым пойдет кто нажал посильнее, страшно аж за чашу, лжица – ложечка влажная – все как в жизни, все хотят спастись, и даже помирать – так вот мы тут все вместе. Не то в католическом храме. Скамейки холодные, как им у католиков всему и быть, места известные, облатку кладут каждому свою, девушки в костюмах, в перчатках.
В 1955 году ей стала известна помета Блока в его экземпляре «Четок» против строк:
И вели голубому туману
Надо мною читать псалмы… —
«Крайний модернизм, образцовый, можно сказать, „вся Москва“ так писала».
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 137
А кому дело до Блока? Считывают в полной невинности – даже туманы читают псалмы над Анной Андреевной…
Некому Ахматову поздравить с Пасхой.
Такая богатая дама могла бы быть и вкладчицей. Вкладчикам присылают поздравления. Вкладчики с вкладчиками могут познакомиться. Могут друг о друге прослышать, кое-кто почел бы за честь и при приличном случае быть представленным. А уж сблизиться настолько, чтобы ИМЕТЬ ПРАВО поздравить с Пасхой, – такие знакомства составились бы очень скоро. Дружба не дружба, но вот в кругах, где у нее был действительный интерес, «крупные врачи» например, – там и очень далеко заходило. С профессором Гаршиным, кстати, она познакомилась именно в больнице – он проявил интерес к чьей-то пациентке.
Она глубоко религиозна, правда, я никогда не видела ее молящейся.
Н. Готхарт. Двенадцать встреч с Анной Ахматовой. Вопросы литературы. 1997. № 2
Поздняя ахматовщина
С другой стороны, огромное влияние на всех на нас оказывала манера поведения Ахматовой. Бродский просто, я видел это, учился вести себя так, как ведут себя великие поэты. (В. Кривулин. Маска, которая срослась с лицом. В. Полухина. Иосиф Бродский глазами современников. Кн. 2. Стр. 173.) Это Ахматовой тоже зачтется. Он был еще в таком возрасте, когда не смог понять: чтобы учиться фанаберии, необязательно встречаться с великими поэтами.
Вот две записи Лидии Корнеевны Чуковской на соседних страницах:
1. На фоне околесицы, ахинеи, вранья и неточностей, вольных и невольных, которыми захлестнута поэзия и биография АА…
и
2. АА со своим днем рождения кокетничала, говорила кому так, кому эдак, а праздновала в последние лет 10 два дня подряд <…> Желая же кого-нибудь уязвить, она говорила: «Что это вы вздумали меня поздравлять сегодня? Всем известно, что я родилась вчера». Это была ее игра, то насмешливая, то злая, то добрая.
Л.К. Чуковская, В.М. Жирмунский. Из переписки (1966–1970). Стр. 442, 441
Зинаида Николаевна Пастернак на даче играет в карты, к великому возмущению Анны Ахматовой. Анна Андреевна играет со своим днем рождения. Пожалуй, для старухи более прилично все же первое.
Перед отъездом, на Белорусском вокзале А.А. сказала по поводу принесенных ей валокордина и валидола: «Вы не волнуйтесь. Я никогда не позволю себе такой гадости – умереть не на Родине». (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 246.) Будто бы интимно точное в своей неожиданной неправильности словцо – «гадость» – даю так много определений, потому что оно ждало внимательного прочтения и оценки, не в простоте же было сказано. Эта внимательность к слову, будто бы искренность имели целью скрыть, что Анна Андреевна понимает опасения товарищей. Не хочет играть в прятки, твердо, без обиняков обещает вернуться. Говорит поверх этого, привычно-выездного смысла, будто думая о своем, об ахматовском, не с теми я… Придуманным, обдуманным, поэтическим словом – откупается.
Ее уверенность, что в нее все влюблены, не безвкусна, а трагична и величава…
Д. Быков. Борис Пастернак. Стр. 548
Она сидела в кресле в коридоре и ждала – не придет ли кто.
Н.А. Роскина. Летопись. Стр. 704
Ахматовой хотелось заварушки. Предвидит судьбы похищенных рукописей: Л. Д. Большинцова <…> прочитав: <…> «…не теряйте надежды увидеть его напечатанным в Лос-Анжелосе или Тимбукту…» <…> воскликнула: «Но она же сама мне дала для Жени!» (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 124.)
Один раз на ковре [в «Башне» Вяч. Иванова] посреди собравшихся в кружок приглашенных Анна Ахматова показывала свою гибкость: перегнувшись назад, она, стоя, зубами должна была схватить спичку, которую воткнули вертикально в коробку, лежащую на полу. Ахматова была узкая, высокая и одетая во что-то длинное, темное и облегающее, так что походила на невероятно красивое змеевидное, чешуйчатое существо. (Л. Иванова. Воспоминания. Стр. 33.) Иметь слишком большие таланты – это не по-светски. До Недоброво с его наукой она не догадывалась, что номера – женщина-каучук – это не самое comme il faut, и выступала частенько. Потом гневно обвиняла соседку-мемуаристку за неуместную памятливость.
Сплетни соединяли его [Лурье] с обеими подругами. И говорилось <…> что он обманул их обеих, уехав за границу с Тамарой Персиц. (О. Гильдебрандт-Арбенина. Девочка, катящая серсо… Стр. 155.) Сплетни важны потому, что для Ахматовой это voix popoli. Ведь атмосфера скандала – это именно это? Энергетика сплетни?
Написать человеку в горе слова утешения, такие, какие ему наиболее сладки – похвальная идея, написать заведомо ложные, оскорбительные в своей случайности и неряшливости выбора первые попавшиеся, предполагающие в получателе жажду нелепой лести – оскорбительно. Умер Томашевский, некролог Ахматова не подписывала, но шлет телеграмму вдове: Умоляю беречь себя. Вы у меня одна. (Летопись. Стр. 516.) Знакомые с биографией Ахматовой знают, что Ирина Николаевна отнюдь не была «единственной» у Анны Андреевны. Ирина Николаевна знает не хуже прочих – для чего ей в минуту истинного горя дают чужой пряник?
«Знакомств у Ахматовой множество. Близких друзей нет. По натуре она – добра, расточительна, когда есть деньги. В глубине же холодна, высокомерна, детски эгоистична».
М. Кралин. Победившее смерть слово. Стр. 227
Моя книга, «Анти-Ахматова», написана по материалам только опубликованных воспоминаний, свидетельств и писем.
У писательницы Татьяны Толстой есть рассказ «Река Оккервиль» – об угасающей звезде (певице), которая на старости лет окружена поклонниками, берущими на себя заботы о самых прозаических обстоятельствах ее доживаемой жизни. На долю главного героя рассказа выпадает предоставлять ей ванну в своей отдельной квартире для помывок. Александр Жолковский высказывает предположение, что Вера Васильевна – это Анна Ахматова.
…у рассказа есть <…> литературные источники. В образе петербургской артистки, которая
– пережила свою старинную славу молодой чаровницы, неузнаваемо располнела;
– похоронила нескольких спутников жизни («…потеряла… мужа, квартиру, сына, двух любовников… Сколько мужиков в свое время ухойдакала – это ж боже мой!»);
– ведет, несмотря на то, что ее талант сохранился («Голосина до сих пор, как у дьякона»), полуподпольное существование;
– окружена узким кольцом поклонников, распределивших между собой задачи ее практического обслуживания, и весело наслаждается такой жизнью;
– в этом образе смутно проступают черты Ахматовой. <…> Поцелуев привозит «Верунчика» к нему мыться, ибо у нее ванна коммунальная, и отныне купание будет вкладом Симеонова в служение ей. (Т. Толстая. Река Оккервиль. Стр. 343–344.) «Симеонов… шел ополаскивать после Веры Васильевны, смывать гибким душем серые окатыши с подсохших стенок ванны, выколупывать седые волосы из сливного отверстия», а из комнаты, где стоял граммофон, «слышен был дивный, нарастающий, грозовой голос, восстающий из глубин, расправляющий крылья, взмывающий над миром…» (А.К. Жолковский. Избранные статьи о русской поэзии. Стр. 246, 250.)
Если это так, то тогда наготу нашей монахыни открывал каждый, кому не лень. Впрочем, о том есть потаенные воспоминания.
По словам С.К. [Островской], Ахматова никогда за собой ничего не убирала. Живя у нее, она иногда мылась в ванне. Ванна стояла на кухне, и, после пребывания там Анны Андреевны, вся кухня была полна пены и мыла, что вызывало справедливое возмущение соседей. Рассказывала это С.К. с обычным злорадством.
М. Кралин. Победившее смерть слово. Стр. 236
Ирине Пуниной есть с чего быть пристрастной к Акуме. Однако не вижу причин, по которым мы имеем большие, чем она, основания судить о характере и привычках Анны Андреевны. Вот Ирина Николаевна вспоминает: К нам приходила очень милая старушка, которая жила у потомков лицеиста Матюшкина <…> она помогала нам по хозяйству и оставалась с А.А., потому что А.А. не переносила оставаться одна, когда мы уходили на работу. Однажды эта старушка пришла из булочной и говорит: «По радио сказали, что Сталин заболел», А.А. не поверила: «Какая чушь! Наша старушка сошла с ума. Не может быть, да еще чтоб по радио говорили. Сталин никогда не болеет, и с ним никогда ничего не может случиться». Но тут же, конечно, села к маленькому репродуктору, который у нас был в столовой. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 307.) Анна Андреевна решительна в суждениях, как человек, суждения которого никто не решится оспаривать. Оппонентов можно назвать и сумасшедшими. И хоть как еще, даже если собственная мысль – просто эмоциональный всплеск. Ирина протокольно-устало описывает привычную ей картину: Но тут же, конечно, села… – в непоследовательности Ахматову никто не посмеет упрекнуть, Ирине Николаевне никто не поверит, а Анна Андреевна живет по обычному распорядку: откричалась и, не стесняясь явным противоречием в поступках, усаживается удовлетворять разожженное любопытство.
До сих пор [1962 год] А.А. хочется курить – последнюю папиросу она курила 22 [мая]1951 года, в день первого инфаркта… (Ю.И. Будыко. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 307.) Из Пунина: Странно, как она боится умереть. Бродский не бросил курить и после второго инфаркта. Ахматова вела себя вполне благоразумно, несмотря ни на какие обстоятельства. Как подумаю о смерти, такой веселенькой становлюсь…
Лев Гумилев: «Говорила она только о себе, она была „ахматоцентристкой“.
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 595
Но живет она не прошлым, а настоящим. Рассказывала, что у нее для «Дня поэзии» вымолили на коленях статью о Лермонтове, что у нее друзья в московском Гослитиздате. <…> Дают переводы с болгарского, польского. Предложили написать предисловие к болгарской книге. (О.М. Малевич. Одна встреча с Анной Ахматовой. Я всем прощение дарую. Стр. 57.)
О том, что на Ахматову в КГБ было заведено дело, известно только из свидетельства Олега Калугина. Само КГБ дела никому не показывает и утверждает, что его не существует. По свидетельству Калугина, наполнителей этого дела, доносителей, – двое: Софья Островская и Павел Лукницкий. Оба – очень близкие, до интимности, Ахматовой люди, оба были знакомы с ней долго и на законных правах входили в мельчайшие обстоятельства ее жизни – не были ни разу заподозрены в профессиональности их внимания. Калугин приводит их донесения. Донесения дословно повторяют записи их личных дневников. Дневники Лукницкого давно опубликованы, дневники Островской – только на английском языке, сути дела это не меняет. Исследователь Ахматовой Михаил Кралин поражается: Создается впечатление, что дневниковые записи служили Софье Казимировне черновиками для ее доносов. (М. Кралин. Победившее смерть слово. Стр. 228.) Павел Лукницкий тоже, не переставляя слов и не меняя тона, переписывает свои дневники на доносные листы. А ведь, казалось бы – человек при исполнении, пишет в солидную организацию, представляет себе цели своих записок – нет, слово в слово частный, даже лирический, дневник. Наверное, все-таки таких совпадений не бывает, чтобы два человека, писавших доносы, воспользовались одним и тем же приемом – переписали их слово в слово из своих дневников. А других доносчиков, которые бы только потихоньку писали доносы и не вели никаких – опубликованных! – дневников, не нашлось.
Слишком велика вероятность того, что раскаявшийся чекист, раскрывая общественности глаза на то, что его ведомство отслеживало жизнь и настроения Анны Андреевны Ахматовой (только отслеживало, криминала ни разу не усмотрело), посчитал необходимым украсить свое признание «документами» – отрывками из доносов. Не нашлось ничего другого, как перелицевать в доносы отрывки из опубликованных дневников.
Сама Анна Ахматова ярлыки «агента» раздавала со щедростью Екатерины Великой. Не имея власти (и расположения) миловать – казнила: пользуясь правом пушкинистки, к неприкасаемым помещала формуляр Натальи Николаевны, правом матери, обладающей исключительным правом переписки с зэком, – оболгала его невесту, правом княгини Марьи Алексеевны – уничтожала репутации светских знакомых.
…стихи об Италии! <…> Помню наверняка, что стихи эти были написаны по какому-то совершенно конкретному поводу: т. е. пригласили в Италию А.А., а послан был кто-то другой, чуть ли не Алигер. Вот почему: «Тех, кого и не звали»…
Л.К. Чуковская, В.М. Жирмунский.
Из переписки (1966–1970).
Из кн.: Я всем прощение дарую. Стр. 400
«Я знаю, почему нельзя было выпускать людей из Ленинграда, – сказала мне А.А. вскоре после снятия блокады, – они должны были спасти город». Да, они спасли это архитектурное чудо – Ленинград, но сколько их погибло, озверев от голода и страданий? Вещи или люди? Чего же больше жаль? (Н.Я. Мандельштам. Третья книга. Стр. 43.) Погибли для того, чтобы Анна Андреевна имела о чем сказать: Там ждет меня расстреллиевское чудо – Смольный собор. Или: И Летний сад – тайна даже для меня. Ну и …моральное падение во всех…
Таточку Лившиц я люблю. (Ее почему-то не любила Анна Андреевна, в частности за то, что ТАМ сломался ее муж, но за это грех ненавидеть жену, да и самого человека). (Письмо Н.Я. А.К. Гладкову. Н.Я. Мандельштам. Об Ахматовой. Стр. 43.)
Ненавидит жертв репрессий, ненавидит блокадников, сама пишет славословия Сталину, относит письма брата в КГБ…
Анна Андреевна <…> развернула вырезку – это было интервью с ней французского журналиста. «Боже (вырезка, с которой не расстается и которую показывает каждому посетителю, вызывает – каждый раз – прочувствованное восклицание), они пишут, что мой любимый поэт – Мандельштам!» – «А кто Ваш любимый поэт?» <…> – «Мандельштам, конечно». Это было характерно для Ахматовой последних лет, когда ей не нравилось все, что о ней писали, хотя бы это была чистейшая и невиннейшая правда. (И.В. Бориневич-Роскина. Воспоминания девочки. Я всем прощение дарую. Ахматовский сборник. Стр. 131.)
Королевиться и императриться. Закоролевилась и заимператрилась.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.