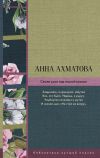Текст книги "Отмена рабства. Анти-Ахматова-2"
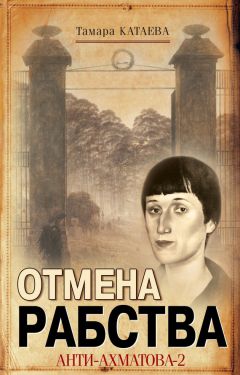
Автор книги: Тамара Катаева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Запись Д.С. Самойлова: Звонила Анна Андреевна. Ее тянет в Москву, где у нее подобие «двора» и подобие литературной школы. <…> Впрочем, живет она уже в мире мнимом. «Двор» ею тяготится, дела, на которые она ссылается, несущественны, школа призрачна. (Летопись. Стр. 608.)
А.В. Любимова. У нее какое-то тревожное и капризное настроение, не то что накануне. (Летопись. Стр. 649.)
С Надей повидаюсь и домой. <…> Там организую Комарово месяца на два. Уехать тихо-тихо. (Записные книжки. Стр. 427.) как Иван Грозный в Александров. Места, куда Анна Андреевна направляется, по сему случаю уже особенно поименовываются. В 2 – Надя, в 5 – Глекин, в 6 – на легендарную Ордынку. (Записные книжки. Стр. 427.) Вот и рождение легенды.
Запись Г.В. Глекина: Ее величество изволит вести весьма светский образ жизни… Лет. 629. Вчера она была на банкете у проф. Рожанского <…> и вечером – в полпервого ночи, когда лифт бездействовал, поднялась пешком на 8-й этаж. (Летопись. Стр. 630.)
Вчера приезжала Ира с последними (увы, нет…) юбилейными письмами. (Записные книжки. Стр. 469.) Вот она, Анна Ахматова. О чем она сокрушается, к чему относится печальный возглас – Увы? Отвечать поздравителям она, естественно, не будет, читать поздравления ее никто не заставляет, засорять письмами свою жилплощадь вовсе не обязана, Ира, скорее всего, не перетрудилась чрезмерно на доставке почтового груза – ну в чем ее проблема?
Запись Ю.Г. Оксмана: Она «в хорошей форме», бодра, не хандрит, много пишет, охотно принимает друзей, особенно приезжих. <…> Больше всего ее волнует слава – и отношение молодых поэтов, успех за рубежом, возможность Нобелевской премии, визиты иностранцев. (Летопись. Стр. 584.)
А.В. Любимова: «Включать проигрыватель она не умеет, она и газ не умеет зажигать, и в лифте кнопку нажимать». (Летопись. Стр. 649.)
Быт не очень нормальный. <…> Ухаживают за ней только соседи – жена поэта Гитовича ее кормит, гуляет с ней в соседнем лесу, топит печи. (Летопись. Стр. 584.) В ее положении следовало бы устроиться так: просто домработница и/или для посредничества с нею – поскольку неприученная работница может не понимать распоряжений по полунамеку или долготе паузы, – и прочим социально-институциональным миром – компаньонка. Было бы проще, цивилизованнее. Было б больше комфорта и времени для работы – но эта игра ее уже затянула: видеть, что не нанятый персонал по струнке ходит (на досуге она могла бы отточить мастерство до салтычихиных изысков и более), а соседка чиновная за честь считает топить ей печи, что мать бросает для нее детей, хоть это, впрочем, не аргумент.
Одесса хочет, чтобы за нее все работали, потому что она так уж за всех печется и за всех страдает, – этого много у Ахматовой, хоть она и рано покинула Одессу.
М. Гаспаров. Записи и выписки. Стр. 150
Гонения 1962 года.
А.А. жила в Доме творчества в двухкомнатном «люксе». Директор Пулковской обсерватории ежедневно присылал ей корзины цветов и машину, которой она отказывалась пользоваться.
Летопись. Стр. 575
Все журналы, сколько их существует в Москве и в Ленинграде, просят стихи.
Л.К. Чуковская. Т. 2. Стр. 486
Портрет Ахматовой работы Н.И. Альтмана после многолетнего пребывания в запасниках Русского музея был выставлен на постоянной экспозиции.
Летопись. Стр. 588
Фотоснимки в газетах были наглядной эмблемой хэппи-энда.
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 236
3 января 1962 года она лежит уже месяц после инфаркта. Нельзя даже садиться. Выписывается, тут же отправляется в Комарово, узнает, что там – старый паж, Лукницкий. Приходит к нему в девять вечера. А.А. сразу же объяснила мне, зачем пришла, предлог был явно надуманный. (Летопись. Стр. 574.)
Признавать или не признавать ненаигранность ахматовской царственности – тестовый вопрос. Робость, мешающая по-царски свободно, без надуманных предлогов вступать в отношения с подданными, – эталонный ответ.
Ахматову в Комарове навещает иностранец, поклонник и исследователь Мандельштама. Сначала Анна Андреевна завела обычный разговор о себе, который скоро резко переменила по ставшей впоследствии ясной причине. Мы сели сначала на маленькой, застекленной веранде. Она сразу же сказала мне, что поэт Георгий Иванов ответственен за всяческую клевету на нее. Неправда, что, как он писал, она вышла из чести у молодых писателей <…> На самом деле все было наоборот. После того как мы вскоре перешли в маленькую комнатку, ее разговор настолько стал касаться исключительно Мандельштама, случайно только отклоняясь в ее сторону, что, когда я просматривал позднее свои записи, эта увертюра поразила меня тем, что единственный раз она слегка напомнила мне примадонну, озабоченную своей репутацией у публики. Четыре года спустя я узнал у Надежды Мандельштам, вдовы поэта, о котором я пришел говорить с А., что она была сокрытой свидетельницей дальнейшей беседы. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 154.) Ну, для проказницы Надежды Яковлевны сидеть тайком за занавеской – совершенно в ее стиле, для Ахматовой демонстрировать царскую щедрость дружбы – тоже, тем более когда есть свидетель, который все запишет в строку и простреливает мизансцену цепкими глазками из щелочки в занавеске.
Без свидетелей, конечно, говорить она может только о себе.
Одиннадцать лет, самых гонимых, во владении Анна Ахматовой была дача в самом престижном ленинградском писательском поселке на берегу Финского залива. «Будка» – таковы были архитектурные стили. Конечно, кому-то из писателей давали и сдвоенные «будки», и даже еще большие по объему, но ведь и руководствовались составом семьи, общественными заслугами. Критерии ведь хоть какие-то должны быть. Вот люди имеют в распоряжении поселок дач – как распределять, не по жребию же? Не по тонкости чувств израненного женского сердца? Возможно, при каких-то общественных устройствах могут материально вознаграждать и самых нонконформистских, индивидуалистических, вредоносных, но чрезвычайно художественно одаренных индивидуумов. Но это должен быть уж какой-то запредельно страшный и антигуманный – судя по его мощи презрения к мелюзге и цинизму оценки абсолютных достоинств подданных, – что нам их смехотворные протесты! – строй.
Наш был пожиже. Заслуженная дама Анна Андреевна? – Да. Ходит на собрания, ведет себя корректно. Кукиш в кармане уж слишком демонстративно оттопырила, власть какую-то почувствовала – мы ее в газете пожурим, стихи правильные следом написала – и ей через год небольшая дачка. Так все чинно, патриархально.
Немецкий литературный критик был зазван – неожиданными настойчивыми телефонными звонками и полуграмотным телеграфным «официальным» приглашением – на пропагандистское мероприятие, устроенное под Анну Ахматову. О таковом персонаже он не слыхивал, но уж отправился на щедрый зов – на Сицилию, в прекрасную средневековую гостиницу. Солнце сияло, Этна курилась, Греко-римский театр гляделся в мирное море, а я лежал в шезлонге, размышляя о смысле своего пребывания здесь. И тут я увидел, что мимо проходит генеральный секретарь Джанкарло Вигорелли, итальянский литературный менеджер. Был он, как всегда, элегантен, строен, волосы гармонично завиты. Очки сияли. Я окликнул его и спросил, что мне нужно делать. Он изумленно воздел очки горе и развел руками. «Ничего, мой милый, ничего! События и поэты сами придут к вам!» И они действительно шли… Испанцы, португальцы, финны, шведы, русские, румыны, венгры, югославы, чехи, французы, англичане. Целые делегации с председателем, переводчиком и секретарем, растерянные одиночки. <…> Здесь не требовалось представляться друг другу. Достаточно было днем лежать на солнце, вечер проводить в перестроенном из молельни баре, есть, пить, спать – и не платить за это ни гроша. Виски, водка и граппа безвозмездно текли в глотки, закаленные стихами. Кто оплачивал все это? Советское посольство, сицилийская промышленность, римское правительство и, может быть, все-таки мафия? Неужели мы гости мафии? А может быть, Анна Ахматова? <…> В последующие дни не происходило ничего… В конце концов я сообразил, что <…> мы заняты тем, что ожидаем Анну Ахматову – божественную Анну Ахматову. <…> «Анна Ахматова здесь», – услышал я, вернувшись в отель после прогулки на пятый день безделья. Это было в пятницу, в двенадцать часов дня, когда солнце стояло в зените. На этом месте <…> я должен сделать цезуру, необходима пауза, чтобы достойно оценить этот час. (Г.В. Рихтер. Эвтерпа с берегов Невы. По: Л.К. Чуковская. Т. 3. Стр. 498–504.) С компаньо Вигорелли было все согласовано до мелочи, что касается и регламента, и даже атмосферы, долженствующей царить на мероприятии.
Бродский: всякая встреча с Ахматовой была для меня довольно-таки замечательным переживанием. Когда физически ощущаешь, что имеешь дело с человеком лучшим, нежели ты. Гораздо лучшим. С человеком, который одной интонацией своей тебя преображает. <…> Ничего подобного со мной ни раньше, ни, думаю, впоследствии не происходило. Может быть, еще потому, что я тогда молодой был. Стадии развития не повторяются. (Ахматовские чтения. Вып. 3. Стр. 62.)
Учитель физики вовсе не обязан быть открывателем закона всемирного тяготения, математичка не проводит свой досуг, решая теорему Ферма, талант учителя рисования достоин восхищения, но его друзья вовсе не обязаны быть в восторге от его картин, развешанных в квартире по стенам. Анна Ахматова могла быть прекрасным учителем, но это не значило, что она сама была великим человеком или великой поэтессой.
1965 год… когда она уже была в полной славе. <…> И в Италию она ездила, и в Оксфорд, слава уже не погремушкой трещала, а облекла ее, как облако, и начальство преклонилось…»
Р. Зернова. Иная реальность. Ахматовские чтения. Вып. 3. Стр. 34–35
Вера Панова, услышав от Евгении Гинзбург, что она была у Ахматовой, спросила язвительно: «Ну что, водила вас по себе, как по музею?»
Р. Зернова. Иная реальность. Ахматовские чтения. Вып. 3. Стр. 34
Вот что запомнилось прочно навсегда. <…> Медленная, отчетливая, не сомневающаяся в себе речь. Так никто не говорил, никогда, нигде.
А.С. Кушнер. У Ахматовой. Ахматовские чтения. Вып. 3. Стр. 134
Марина Цветаева первой заметила, что у Ахматовой остались не сомневающиеся в себе стихи. Прочитала сборник сорокового года и поразилась: Чем она жила все эти годы для себя? Прошло еще двадцать пять лет – и ничего не осталось и от человека. Не сомневающаяся в себе речь… Все напоказ. А чем же она жила для себя? Внутри себя? Хоть в чем-то сомневалась?
И еще я отмечаю прекрасную свежую кожу, свежести которой ничуть не мешают морщины. (Н.В. Королева. Ахматова и ленинградская поэзия 1960-х годов. Ахматовские чтения. Вып. 3. Стр. 123.) Это – от полноты (и от регулярных массажей).
Мне она напоминает огромную породистую кошку, благосклонно мурлыкающую, моему спутнику (как он признался мне позже) – ихтиозавра.
Н.В. Королева. Ахматова и ленинградская поэзия 1960-х годов. Ахматовские чтения. Вып. 3. Стр. 123
Невероятно трудно было пробиться к ней через оборону приближенных. Лидия Яковлевна Гинзбург позвонила мне вчера днем и сказала: «Ире Сименко удалось совершить чудо: она договорилась с Анной Андреевной, что мы к ней приведем вас…» (Н.В. Королева. Ахматова и ленинградская поэзия 1960-х годов. Ахматовские чтения. Вып. 3. Стр. 122.) Речь шла не о том, чтоб не потревожить выстраданное одиночество затворницы, речь шла только о придворных интригах. Не знаю, кто именно – Толя Найман или Евгений Рейн, Иосиф Бродский или Дима Бобышев – «проявил инициативу», предложив Ахматовой «отслушать» Горбовского? (ради такой чести сам Горбовский пишет о себе в третьем лице, будто бы с иронией). Может, все разом? Мы ведь тогда дружили, еще лишенные некоторых предрассудков, что нагрянут к нам чуть позже, дабы испытать на прочность все человеческое и божеское, коим обладали мы «от природы». (Г. Горбовский. Видение в Комарове. Ахматовские чтения. Стр. 147.) Горбовскому повезло, но ведь божеское и человеческое проявилось к нему, потому что он ко всему прочему был свой. Как было бы пробиться постороннему? Например, пройти сквозь вот такой кордон?
Воспоминания Т.А. Бек: Ахматова была величава и снисходила, а ее в дальнейшем известный литсекретарь Н<айман>был величав втройне и не снисходил вовсе. (Летопись. Стр. 651.)
В то время Анна Андреевна была очень привязана к Анатолию Найману. Он, как человек воспитанный, ушел из комнаты, чтобы не присутствовать при разговоре. В конце беседы она просила меня скорее его позвать, мне показалось, что она соскучилась по нему.
А.С. Кушнер. У Ахматовой. Ахматовские чтения. Вып. 3. Стр. 138
Ее делили до последнего момента. Есть фотография: молодые поэты маленькой толпой над гробом Ахматовой. Скорбь, что называется, написана на лицах. «Настоящую нежность не спутаешь/ Ни с чем. И она – тиха». Тем более – настоящее горе. Увы, о том, что фотографироваться рядом с умершей – сомнительное занятие, им никто из старших не сказал, а сами они, по невоспитанности души, еще не знали. Кушнера среди них нет. Есть кинохроника. Поразительное свойство кинообъектива: он тоже выхватывает из множества людей тех, кто этого очень хочет; надо успеть краем глаза заметить зеркального соглядатая и понравиться ему, зайти, как тень, с нужной стороны, забежать вперед, поразить значительным выражением лица… (А.С. Кушнер. У Ахматовой. Ахматовские чтения. Вып. 3. Стр. 139.)
Анна Андреевна любила показывать свои публикации. Чувствовалось, что хотя она и посмеивается над ними, все равно дорожит этими знаками славы.
А.С. Кушнер. У Ахматовой. Ахматовские чтения. Вып. 3. Стр. 137
Параллельность челок
Параллельность жизней – о какой-то незначительной, но элегантной и заграничной даме сказала так Ахматова (что-то там в их судьбах совпадало, челка у обеих была выстрижена).
Были и другие великие современницы, с которыми параллели более очевидны: Галина Вишневская, Коко Шанель и Мария Вениаминовна Юдина.
С Марией Юдиной – младшей на девять лет и на четыре пережившей, самым выдающимся музыкантом-исполнителем ее эпохи – Ахматова параллелей видеть не хотела. Видеть их – значит хотя бы посмотреть. Смотреть внимательно (но Ахматова знала и так, она просто не говорила и уводила взоры других) – значило отмечать диаметральное несходство в схожих параметрах.
Юдина долго училась (в пианизме без этого нельзя) у ведущего педагога Петербургской консерватории, очень много работала всю жизнь, осталась в блокадном Ленинграде – чтобы играть людям. И играла, давала концерты. Без работы не сидела ни дня в своей жизни. Сравните это с бездельным и высокомерным ахматовским: Книга, которую я никогда не напишу, но люди заслужили ее.
Была серьезно – не по-ахматовски, лубочно – религиозна, настолько, что, когда с возрастом, очевидно при ослаблении ума, силы духа, способности к познанию и творчеству, отступила перед авторитетом и приняла православие (до этого, как св. Владимир, перебирая другие христианские конфессии), то это воцерковление – не напоказ, конечно, никаких крестных знамений на церковь – с принятием монашества тайным постригом – тоже без того, чтобы восклицать: и монашенки я стройней! Сталин был взбешен: «Наша монахыня теперь иностранцев принимает»? и пр., – никаких тебе лампадок, распятий и жарких постелей – это воцерковление ослабило силу ее игры. Школа дает свободу, без нее бывает неплодотворная и малоинтересная анархия; формальные рамки, особенно если они взяты не для игры, не для испытания, а искренне, в полную силу – обедняют творчество. Это как в балете: пока ты не взял на себя труд, не прошел школу, не вывернул ноги – ты находишься в узком диапазоне народного или характерного танца. Усилие сделано, ноги противоестественно вывернуты – и за это раскрываются все возможности, безграничные, классически двигающегося тела. Придумываешь какой-нибудь новый ограничивающий трюк – и сразу становится ясно, что интересно это будет конечное число раз, после этого – скучный аттракцион. Дувакин: …потом, когда она увлеклась, так сказать, вот всякой церковностью и за что ее какая-то часть московской публики, интеллигентской, и превозносит, она стала играть хуже. Бахтин: <…> Церковность ее тянула и в самые лучшие годы. Если хотите, она была наиболее религиозно настроена именно в лучшие годы, вот когда она по ночам играла для узкого круга своих друзей <…> Ну вот тут другое… Одно дело – религиозность, а другое дело – желание принимать участие в делах церкви. Вот это у нее появилось поздно, и вот тогда у нее и музыка стала хуже. <…> Тут было некоторое ослабление такой внутренней, настоящей, большой религиозности и философичности, а усиление внешней стороны – вот церковности, обряда и так далее. (Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. Стр. 254–255, 256.)
Юдина умерла старой девой, храня верность погибшему жениху – намного ее младшему музыканту, тоже преподавателю консерватории, красавцу, альпинисту – погиб он в горах. Юдину похоронили в могиле несостоявшейся свекрови (у жениха могилы нет). Бахтин: Мария Вениаминовна осталась верна и его памяти и жила с его матерью. Переселилась туда, к его матери. Одно время они жили вместе, вот. Потом она устроила другую квартиру, для матери. Последние годы мать, страдавшая диабетом, уже была и слеповата, и глуховата, и вообще ей было очень трудно жить. Вот Мария Вениаминовна ее всячески опекала: сняла для нее квартиру, нашла для нее женщину очень хорошую, которая за ней ухаживала, которая раньше была ну вроде экономки и секретаря у Марии Вениаминовны. <…> И вот она ее опекала до самой смерти. (Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. Стр. 246.) Ахматова злилась, что деньгами, которые она ежемесячно высылала на содержание Левы, пользовалась также и ее свекровь, которую она не обязана содержать, как совершенно справедливо замечает Лукницкий. Будто труд няньки и воспитательницы не должен оплачиваться – не говоря уж о том, что обязанность его на себя взвалить все-таки не бабкина.
Ахматова о себе мыслила глобально: и из-за ее РОМАНА с Берлиным (одной деловой встречи) началась холодная война, и обычный ее развод с Гумилевым будто бы был раздут в «мировой скандал», бедный мой разводик – иронизировала она над несуществующими раздувателями. Юдина тоже считала, что имеет право вмешиваться в судьбы мира: «…она рвалась за пределы музыки <…> Она мечтала об общественной деятельности, большой. Она мечтала даже… Вот, например, когда, скажем, началась война из-за Суэцкого канала, и у нас <…> подготовлялась армия, вторжение на помощь арабам, Мария Вениаминовна заявила о том (ей 57 лет), что она желает ехать в Египет: бороться. Бороться против англичан. <…> Она не была элементарно честолюбивой, нет, и славолюбивой, но, одним словом, ей хотелось стать чем-то существенным, большим, важным, мечтала о каком-то служении, более высоком, чем вот служение искусству (Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. Стр. 253.) В котором, скажем словами Ахматовой о себе самой (в третьем лице, как часто она, для большей высоты слога, говорит о себе – чтобы и людям, при нужде, было легко находить формулировки) ей не было равных.
Кто-то ясно видит поверхностную, напоказ образованность Ахматовой, кто-то принимает на веру, что она была высококультурна и учена. Бахтин: Она [Юдина]очень интересовалась философскими вопросами, притом обнаружилось, что она обладает способностями к философскому мышлению, довольно редкому. Как Вы знаете, философов не так много на свете. Философствующих очень много, но философов мало. И вот она как раз принадлежала к числу таких, которые могли бы стать философами. Дувакин: Среди женщин это тем более редко. Бахтин: Тем более редко, да. Вот, затем, она проявляла огромный интерес вообще к языкам, в частности к латинскому, древнегреческому языку, к литературе. (Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. Стр. 236–237.)
В первые месяцы войны, единственно ею виденные, Ахматова вела себя трусливо в главе «Героизм». Юдина: Она ездила на фронт, как Вы знаете. В Ленинград, когда он находился в окружении, когда там было очень небезопасно. А ее тянуло всюду. Где была опасность и «грозило гибелью», ее туда тянуло. И она туда ездила очень часто. И там играла. <…> Она считала, что человек существует для того, чтобы сгореть, чтобы отдать себя, чтобы пожертвовать собой. (Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. Стр. 259.) Юдина была знаменита, была одного поколения, из одного города, она была музыкантом – Ахматова понимала, что о своем восхищении музыкой, важнейшим из искусств для отличения себя от других незнающих болванов, нужно неустанно говорить, но у них никогда не было и не могло быть сближения. У Юдиной – потому что она слишком радовалась жизни, чтобы тратить ее на формальные контакты, у Ахматовой – потому что она боялась и ненавидела. Скорее всего, неконкретно – ее окружение было слишком мелковато, в нем можно было избежать самого упоминания о Юдиной – ну и будем надеяться, что и ей самой удалось избежать злых и ревнивых слез в подушку.
Единственное, чего не было у Юдиной, – у нее не было красоты Ахматовой. Она была большой и крупной уже в юности, и приобретенная ею тучность и грузность в старости не дали ей величия Ахматовой, с телом и всем обликом которой природа хотела наиграться вдоволь, использовать все возможности, которые эта форма ей могла предоставить для воплощения красоты. Анна Ахматова была прекрасна, в Марии Юдиной был прекрасен дух. Дух долговечнее, прелесть – прелестнее.
«АХМАТОВА № 5»
У них было очень много – не общего, а похожего, схожего, как будто судьба готовила для одной дублера. Были моменты, когда позиция Ахматовой была сильнее.
Они были почти ровесницами. Француженка Коко Шанель, хотя и была немного старше, не имела того, что было у Ахматовой в 11-м году в Париже: она не была в Париже, она только мечтала о нем; не была замужем: вся шикарная простота и «убожество роскоши», действительная революционность придуманного Шанель для всего мира стиля – произошли оттого, что ей во что бы то ни стало, а во Франции это значит – со строгостью, лаконичностью, минимализмом, – надо было одеваться и выглядеть так, чтобы никто никогда не посмел сказать, что она – содержанка. Замужний статус давал большую свободу, это так всегда; дарования ее были менее несомненны – она только-только бесславно кончила петь в кафе-шантане, а Ахматова почти за то же самое получила то, что всю жизнь будет называть своей «славой», это был капитал, и, как Аполлинеру, как Бродскому, как Конраду, как Набокову, ей тоже могло повезти сделать и в чужих краях себе имя… Ахматова не то что упустила для себя возможность осесть и прославиться во Франции – мировая слава не уйдет, сидишь ли ты в Переделкине или в лагере в Казахстане, – но не воспользовалась тем, что могло стать только трамплином.
И красота Шанель хотя была и бесспорной, и завораживающей, но она, конечно, не была такой уникальной, как у приезжей русской.
На них обеих никто всю жизнь не хотел жениться (Ахматова, конечно, была один раз замужем, но не по любви, как хотела Коко, а по не бог весть какому удачному расчету, как всю жизнь стремилась сама, и ее личная жизнь крутилась вокруг этой коллизии, романы ее не имели других поворотов). Мужчины играли большую роль в жизни обеих. У обеих были и русские (у Коко – великий князь Дмитрий, убийца Распутина, друг Феликса Юсупова, племянник Александра Третьего, то есть «настоящий» иностранец), и англичане – тоже у Шанель «настоящий» – герцог Вестминстерский. Кроме того, он шесть лет был ее настоящим любовником. Исайя Менделевич Берлин был знаком с Ахматовой один день в жизни.
Может, сэр Исайя сам по себе значит не меньше Бэндора Вестминстерского – это просто Ахматова поставила его в смешное положение.
Обе воспевали своих героев в своем творчестве. Вот чем платила Шанель:
Габриэль решила обогатить свою коллекцию вышитыми моделями. Почему бы не интерпретировать РУБАШКУ, из тех, что, подпоясавшись, носили МУЖИКИ? Идея была настолько замечательно принята, что срочно пришлось создать ателье вышивки. Габриэль поручила руководить им великой княгине Марии.
С 1926 по 1931 год мода Шанель была английской. Никогда в ее коллекциях не видели столько курток «определенно мужского покроя», как писали газеты, столько «спортивных» пальто, костюмов и моделей, которые словно предназначены «для скачек». Ее подруга принимала гостей во время завтраков, одевшись в костюм из марокканского крепа и простой свитер, эта смесь вызывала у законодателей мод живое удивление, превратившееся в остолбенение, когда обнаружилось, что при этом на ней было «ее великолепное ожерелье из бриллиантов в три нити.
Э. Шарль-Ру. Загадочная Шанель. Стр. 309
Ахматова выдумывала историю любви после единственного литературного вечера и, закружившись, запутавшись, фантому же отдавала слова: Ты выдумал меня. Такой на свете нет. Если бы дело ограничилось одним творчеством, и не было бы того господина, тот господин напрасно хлопочет, Сталин часто спрашивал…, футболь… – тогда Берлину оставалось бы только гордиться.
Обе были бисексуальны, что для Ахматовой представляло большую проблему.
Обе были бездетны – Ахматова более, чем Габриэль Шанель. Та хотя бы для удержания герцога Вестминстерского, которому были нужны жена и наследник, в сорок шесть лет заставила себя пойти на консультацию, доверилась врачам, подозрительным женщинам, которых считала опытными. Она перенесла операцию и занялась «унизительной гимнастикой». (Э. Шарль-Ру. Загадочная Шанель. Стр. 389.) Ахматова, даже родив, даже имея ребенка, даже как роль не приняла материнство. Редкий случай – материнство ее не красило. Наиочевиднейшая вещь – физиология, инстинкт – и женщина имеет несколько самых сладких в своей жизни фотоснимков, несколько воспоминаний знакомых, вроде «Она была необыкновенная мать!» – даже если была самой обыкновенной, ведомой лишь правилами видового выживания, не разделенной еще тканевой связью, животным законом детерминированных эмоций. Но – ничего. Есть свидетельства, что материнство отвлекло ее от светской жизни на четыре недели, что по какой-то якобы изощренной причине Гумилевы забрали у нее сына – на самом деле кто-то же должен был за ним ходить, и – ее лживое, «усадебного» тона письмо Марине Цветаевой: Ребенка вынуждена была оставить семье мужа. Это о младенческом периоде сына, это самое простое – очень трудно как раз с ребенком в это время НЕ быть, оторваться от него, мы так уж устроены.
Обе дожили до старости.
Любовь? К кому? К старому человеку – какой ужас. К молодому – какой стыд.
Марсель Эдрих. Загадочная Коко Шанель. Стр. 222
Ахматова и в очень позднем возрасте жила половой жизнью. Общеизвестно, что она была любовницей Наймана (писатель и критик Анатолий Найман был моложе Ахматовой на 47 лет. – Ред.).
В. Топоров. Интервью. СПИД-ИНФО. № 23. 2007
Бесспорная работоспособность и признание Шанель кардинально отличаются от такого же мощного, но фантомного существования Анны Ахматовой в советской литературе. Но это был ее выбор, ее ошибка.
Изгнанная за коллаборационизм из Франции (Анне Ахматовой дали три медали за героизм – но тоже фальшивый – на войне), Шанель поселилась в Швейцарии (для русского уха, конечно, смешно, хотя по Швейцариям и по Капри не один русский изгнанник скитался – но ведь и Ахматова жила роскошью на две столицы; непридуманной страдалице Надежде Яковлевне Мандельштам было не выкреститься от черты окологулаговской оседлости – за мужа), жила с капитала – тут уж точно как Ахматова, только та – на капитал от славы и геройства, а Коко – на миллионы от «Шанели № 5». Смятенная Шанель бездействовала пятнадцать лет – почти как раненная небывшим, но нужным по внутренней логике (физиологии и внутренней пустоты) первым Постановлением Ахматова. Потом Шанель вернулась. Журнал «Лайф» написал: Она влияет на все. В семьдесят один год Габриэль Шанель творит не только моду, а целую революцию. Она вернулась в моду в семьдесят один год.
В течение семнадцати лет она будет царить в одиночестве, ее пощадит время, и она останется красивой. Работа облагородила ее, стерев даже морщины. Габриэль была глуха ко всему, что не было новой формой, над которой она трудилась так уверенно, что казалось, ОНА НЕ МОЖЕТ ОШИБАТЬСЯ. «Да, Джеки Кеннеди в Далласе была в костюме от Шанель». Что еще? Ничего. Ахматова не с такой очевидностью замеченной декорации записывает в рифму и с антично-величественным размером: Как до-о-чь во-о-ждя моо-и читала кни-и-ги… Больше ничего. Она была в том возрасте, когда волнение означает потерю сил. Она делала историю на свой лад, одевая улицу, звезд и королев… В восемьдесят восемь это должно было случиться. Но в единственно возможный день – в воскресенье, потому что в остальные дни недели она работала, а умереть за работой, в окружении зеркал и их отражений – это слишком театрально и безвкусно. (А вот законодательница советских стилей Анна Ахматова считала, что зеркала – это и оригинально, и свежо, и загадочно, и не для всех даже и понятно. Книгу об Ахматовой или там статью неприлично и назвать как-нибудь иначе, чем «В сто первом зеркале», «Зазеркалье Ахматовой», «Неточные, неверные зеркала», «В ахматовских зеркалах» и пр.)
Э. Шарль-Ру. Загадочная Шанель. Стр. 569
Ахматова тоже была деятельна в конце жизни. Собирала свои фотографии, где она получилась хорошо, статьи с упоминаниями о себе и воспоминания, вела учет контрафактным изданиям пятидесятилетней давности, описывала упадок современной поэзии и никчемность молодых поэтесс, пила, третировала поклонников, окружила себя молодыми мужчинами, с большим вкусом, который всегда у нее был, привлекла тех, кто ценил в ней ее образ – и по молодости лет не имел времени заглянуть поглубже. Работала – в найденной кем-то форме и найденной кем-то строфой выписывала собственную версию обстоятельств и шика своей жизни. Все умерли – она могла расставлять их как хотела… Бесконечно одними и теми же словами рассказывала незначительные истории из своей жизни или незначительные соображения по разным случаям, называя это будто бы с иронией – а как еще назвать? – пластинками. По нескольку раз записывала в озлобленном тоне, какие книги вышли у нее в молодости, кто и что написал по их поводу и что она была инициатором официального развода с мужем, который (в скобках будь сказано) сам несколько раз хотел жениться на других и имел детей… До старости сохранила напряженное, заносчивое и выспреннее девичье кокетство.
Поэтому 600 миллионов китайцев, посчитанных Ахматовой, или японцев, или каких-то еще людей стремятся в бутик с черными буквами «СС» на белой вывеске – строгими, как обложка первого сборника Ахматовой – дизайн автора – а не к стене ахматовского плача. Мировая слава прошла мимо. Габриэль Шанель – это она Великая Мадемуазель.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.