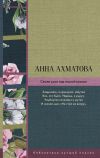Текст книги "Отмена рабства. Анти-Ахматова-2"
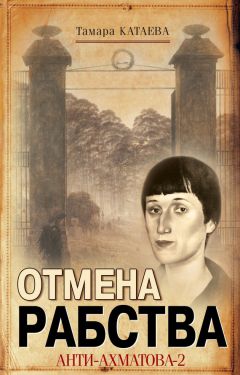
Автор книги: Тамара Катаева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
Когда-то я услышала от Л<ьва> Н<иколаевича>: «Мама всегда говорит, что как бы я ни женился, все равно окончится трагедией». К счастью, пророчество Анны Ахматовой не сбылось: брак оказался счастливым, на склоне лет Л.Н. наконец обрел любящую жену, окружившую его заботой. По мнению друзей, Наталия Викторовна подарила Л.Н. «лишние» десять-пятнадцать лет жизни.
Н.И. Казакевич. Живя в чужих словах… Стр. 210
23 ноября 1958 года. Последнее агентурное сообщение в «Деле оперативной разработки», заведенном КГБ на А.А. Ахматову. <…> По утверждению О. Калугина, это «дело» было заведено на Анну Ахматову в 1939 году. (Летопись. Стр. 528.) То есть не Леву сажали за то, что у него такая вольная и строптивая мать, а за Анной Андреевной послеживали только со времен второго ареста Левы и оставили в покое, когда ЕГО выпустили. Сама по себе своим робким и осмотрительным поведением она никаких подозрений не вызывала. Имела б полное право – если б не рядилась в тогу ярой гонительницы Сталина и образец гражданского мужества – и не рядили б ее.
В 1965 году А.А. рассказывала: Единственный раз, когда меня вызывали в прокуратуру, это было не так давно, для «закрытия дела» Бенедикта Лифшица, расстрелянного в 1938 году. <…> им непременно нужен кто-нибудь <…> чтобы свидетельствовать о невиновности расстрелянного. (Н. Струве. Восемь часов с Ахматовой. По: Дела и допросы. Я всем прощения дарую… Стр. 255.)
Когда я вернулся, то тут для меня был большой сюрприз и такая неожиданность, которую я и представить себе не мог. Мама моя, о встрече с которой я мечтал весь срок, изменилась настолько, что я ее с трудом узнал. <…> Она встретила меня очень холодно. Она отправила меня в Ленинград, а сама осталась в Москве, чтобы, очевидно, не прописывать меня. (В.Н. Демин. Лев Гумилев. ЖЗЛ. Стр. 112.) Выражение чтобы, очевидно, не прописывать – это подарок для проахматовских толкователей – такие конструкции слишком легко принять за сарказм или преувеличение. А с другой стороны, освободившемуся зеку что самое главное? Правильно, прописка. К кому в Ленинграде или Москве или хоть где в СССР можно было прописаться? Только к близкому родственнику. У Льва Николаевича кроме матери никого не было. Он говорит очевидно – значит, прямо о нежелании прописывать сказано не было. Очевидно – значит, формально были заявлены какие-то причины, какие-то более важные дела.
Меня прописала одна сослуживица, после чего мама явилась, сразу устроила скандал – как я смел вообще прописываться?! (А не прописавшись, нельзя было жить в Ленинграде!).
С. Куняев. Наш современник
Одна из первых ее тревог вызвана рассказом о мемуарах Ольги Мочаловой <…>, где приводились, например, слова Гумилева: «Меня почему-то считали ревнивым мужем, а ведь я давал Анечке полную свободу. Когда она опаздывала на свидание, я сам отвозил ее на извозчике» (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 64.) «Гумилев был настоящий мужчина! Никогда в жизни он не стал бы возить жену к любовнику!» <…> «Дайте мне адрес этой О.П., – сказала она, – Лева к ней пойдет объясняться». (Н. Роскина. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 424.) Защищать честь семьи. Она ОЧЕНЬ ХОРОШО знала дуэльные правила и кодекс дворянской чести. Не говоря уже о правилах приличия. Она хотела, чтобы Лев Николаевич, крепкий мужчина 45 лет, отправился на дом к старухе. Что делать? Таскать ее за волосы? Выламывать пальцы, чтобы не писала? Ах, просто поговорить? Могла снять трубку и Анна Андреевна. Взять ручку и написать резкое письмо. Попросить подругу съездить и переговорить… Она хотела, чтобы в дело вмешался Лев, сын Николая Степановича. Логично (предполагая в нем патологическую щепетильность и интерес к делам более чем полувековой давности, о которых он не мог иметь собственного мнения). Истинно по дворянским законам и прочим высоким правилам возможность выполнения долга перед честью покойного отца, не марая рук о старушечьи щеки, была одна – идти объясняться с мужем, отцом или братом этой самой О.П., оскорбить их, и – дуэль. Этим ведь угрожала Анна Андреевна? Или нет, все попроще? Я нашлю на нее Леву, он с ней разберется по-своему. Он сделает из нее свиное отбивное. (Лева ведь из тюрем не вылезает. Правда, в его статусе «освободившегося» любая бытовая ссора могла закончиться более серьезно, чем для вольного хулигана.) Он не был таким – таким мне его сделали – ей же, как видим, на пользу.
Софья Казимировна рассказала мне, что, когда Анна Андреевна вернулась в 1965 году из Англии, где получила степень доктора литературы в Оксфорде, она привезла оттуда много подарков, которые продемонстрировала перед Островской, навестившей ее. Среди прочих вещей она показала роскошный мохеровый шарф и сказала: «Этот шарф я привезла для Иосифа (Бродского. – М.К.)». – «А для Левы, Анна Андреевна, Вы что привезли?». Последовало досадливое молчание.
М. Кралин. Победившее смерть слово. Стр. 236
Письмо А.А. Л.Н. Гумилеву на бланке почтового перевода (из Москвы в Ленинград)…(Летопись. Стр. 533.) Письмо называется письмом по привычке – она ведь и раньше, в лагерь, писала ему на оборотах бланков на почте, а его лимиты на переписку с волей этими посланиями гасились…
Ближе к весне Л.Н. заболел и долго не появлялся в Эрмитаже. Купив в диетическом магазине на Невском любимое им желе разных сортов и ужасно волнуясь, я отправилась навестить больного на улице Красной Конницы, где он жил у матери. В маленькой комнате, где почти не было мебели, возле лежащего в постели Л.Н. уже сидел гость, человек средних лет с детским именем Лелик, брат лагерного друга Л.Н. <…>, потом в дверях появилась высокая полная, но статная седая дама в длинном сером платье. Л.Н. представил меня матери и попросил: «Мама, дала бы ты нам чаю». Анна Ахматова удалилась. Она появилась вновь долгое время спустя, в руках у нее была единственная чашка на блюдце, которые она протянула сыну со словами: «Лева, ты хотел чаю». Я не обиделась за себя и Лелика, но мне было горько видеть такое явное невнимание матери к сыну, никогда не имевшему собственного дома, высказавшему скромное желание угостить в доме матери чашкой чая своих гостей. (Н.И. Казакевич. Живя в чужих словах… Стр. 206–207.) Если бы она не принесла и ему, то эпизод можно было бы и проигнорировать. Мало ли кто там припомнил, что Анна Ахматова не захотела их, воспользовавшихся вроде пристойной ситуацией, обслужить. Ну и не обслужила.
Принеся только Льву, она убила двух зайцев: и осадила двух хамов, раскатавших губы на ее прислуживание во вроде бы безвыходной с точки зрения этикета ситуации, и показала сыну – только показала, не сделала, поскольку он не при смерти был и обошелся бы без ее глотка чаю – что уже его единоличное хамство она готова терпеть и даже покориться. Поскольку все эти доброхоты считают, что она что-то ему должна.
Ахматова была неуклюже-чванлива и, как все переполненные комплексами люди, нервно-обидчива на знаки возможного пренебрежения. Светский человек нашел бы множество выходов из ситуации с разным градусом уничижения непрошеных гостей. От «Лева, я только что рассчитала дворецкого, а прямо обращаться к кухарке я не умею» до «С удовольствием. Пойдемте, милочка, вы мне поможете. Вон кухня в конце коридора, ваша очередь на конфорку – седьмая, возьмите ведро на зеленой табуретке, вода – во дворе в колодце. Желаете с девонскими сливками?».
Брат лагерного друга… Жив ли брат-то? Служащая девочка… Ленинградские расстояния, никаких теплых иномарок, тряслись на мерзлом трамвае, шли к дому, ближе к весне – это конец зимы, ветер, как без чая-то отпустить?
Она от меня требовала, чтобы я помогал ей переводить стихи, что я и делал по мере своих сил, и тем самым у нас появилось довольно большое количество денег. Я поступил работать в Эрмитаж, куда меня принял мой старый учитель Артамонов, с которым я был вместе в экспедиции. Там я написал книгу «Хунну», написал свою диссертацию «Древние тюрки», которую защитил в 1961 году. Маме, кажется, очень не понравилось, что я защищаю докторскую диссертацию. Почему – я не знаю. Очевидно, она находилась под сильным влиянием.
С. Куняев. Наш современник
Письмо А.А. И.Н. Пуниной: Дорогая моя! Посылаю тебе доверенность на почтовые деньги. Купи хорошие чулки Акумцу младшему (Ане), заплати за квартиру и т. д. Остальные Леве, если ему нужно. (Летопись. Стр. 509.) Это январь 1957 года. Лева семь месяцев как освободился, и два – как смог устроиться на работу.
Ноябрь 1958. Милая Ирочка, посылаю тебе доверенность. Деньги возьми себе на икру и сливки. Все ли теплое есть у Ани? Смотри, чтобы она не простужалась. Очень скучаю по дому. (Летопись. Стр. 527.)
С деньгами Льву поначалу также помогала мать, получившая очередной гонорар за переводы зарубежных поэтов. Она и сына Льва всячески старалась склонить к переводческой деятельности: как хорошо – он бы давал подстрочник (например, персидских классиков), а она (а может быть, и вместе) превращала бы сухой перевод в поэтические шедевры.
Валерий Демин. Лев Гумилев. Стр. 111
Книга Ивана Франко «Стихотворения и поэмы». В оглавлении, над заголовком раздела «Увядшие листья» (Перевод А. Ахматовой)» рукой Л. Гумилева вписано: «а точнее – ее сына. Л.Г.». (Летопись. Стр. 555.)
В одном из писем Анна Андреевна пишет сыну, что, по мнению академика Струве, Лев был бы ей очень полезен в ее «азийских» переводах (27 марта 1955 года). (М.Г. Козырев. В.Т. Воронович. Дар слова мне был завещан от природы. Стр. 14.) Струве помог Леве, вытащил его из лагеря, перевернул его судьбу, высочайшим образом ценил его как ученого – у Льва Николаевича были все причины, чтобы уважать Струве, преклоняться перед ним и чувствовать себя ему обязанным. Анна Ахматова этим пользуется – сообщает сыну, что Струве велит ему… Нет, она щелкает по носу еще больнее – Струве считает, что талант и гений Льва достаточны для того, чтобы сгодиться в изготовители подстрочников для великой Ахматовой.
Лев очень много переводил с восточных языков. И, кстати, многие переводы ему давала мать, и они вышли под псевдонимом «Ахматова». Деньгами она потом частично делилась с ним, но считала, что довольно сильно потратилась, отправляя посылки ему в лагерь, и теперь он должен их отработать.
С. Куняев. Наш современник
Он <Лев Гумилев> рассказывал о последней встрече с матерью в 1961 году, перед тем как они расстались (это было за месяц до защиты им докторской диссертации). В те времена он часто ее навещал. Порой она встречала его холодно, иногда с важностью подставляла щеку. В тот раз она сказала Льву, что он должен продолжать делать переводы. На это он ответил, что ничего не может сейчас делать, так как на носу защита докторской, он должен быть в полном порядке, все подготовить.
– Ты ведь только что получила такие большие деньги – 25 тысяч. Я же знаю!
– Ну, тогда убирайся вон!
Лев ушел.
С. Куняев. Наш современник
30 сентября 1961 года мы расстались, и больше я ее не видел, пока ее не привезли в Ленинград, и я организовал ее похороны и поставил ей памятник на те деньги, которые у неё на книжке остались и я унаследовал, доложив свои, которые у меня были».
С. Куняев. Наш современник
Он – хороший сын. Он был за нее и даже ощущал себя ее защитником. По-ахматовски – гены – опровергает очевидное, лишь бы не писали.
Отзыв на «документальный роман» М. Кралина «Артур и Анна»: Предвзятый отбор сведений неизбежно создает искажение в любом изложении событий. Это абсолютно так. Предвзятый отбор создает искажение, но непредвзятого отбора не бывает. Суть только в совпадении предвзятостей.
Подлинный текст ценен лишь постольку, поскольку он достоверен, а дамы любили лгать всегда. Текст письма, написанного Ириной Грэм, несомненно достоверен, поскольку подлинно написан ею. Других документов, составленных лгущими дамами, в книге нет. Лгут, может, господа: Корней Чуковский, Маяковский. Хлесткий пассаж Чуковского о Лурье издан в дневниках Чуковского. Это к нему.
Интерес к сексу имел место во все века до и после н. э., но подменять им действительные, а не вымышленные биографии – непристойно. У Анны Ахматовой секса нет. Особенно в отношениях с Лурье. Правда, если это отношения, из которых можно изъять секс – то это будет слишком вымышленная биография.
(Л.Н. Гумилев. Дар слов мне был обещан от природы» Стр. 294–295.)
Отношения были холодными, требовательными. Высота тона, взятая в Ты сын и ужас мой, сказанном чужим, для чужих, – была спекуляцией, а при живом и страдающем человеке – циничной спекуляцией.
Ахматова действительно была плохой матерью? – Бесспорно. Так сложилось, что моя собственная мать – известный адвокат, была знакома с Ахматовой. Когда та умерла, возникла тяжба из-за наследства. К моей матери обратились сразу две стороны: Пунины и Гумилевы. Понятно, что ей пришлось влезать во все это. Так что я это знаю, если уж не из первых, то из вторых уст – точно!
В. Топоров. Интервью. СПИД-ИНФО № 23, 2007
Когда умерла Анна Ахматова и жившая с ней в одной квартире дочь Н.Н. Пунина, Ирина, завладела архивом покойной и даже начала понемногу распродавать его <…>, я всей душой сочувствовала Л.Н., слушая его жалобы: «[Ирка] <…> не отдает мне даже мои детские фотографии».
Н.И. Казакевич. Живя в чужих словах… Стр. 210
В любом книжном магазине есть полка с книгами Л.Н. Гумилева. Студенты с других факультетов и из других вузов приходили на его лекции, он сказал новое слово, неопровергнутое, в науке. Он нашел ненавистную Хазарию. Он знал множество европейских, тюркских, персидский языки и очень много работал, даже в лагере. Его имя носит Евразийский университет в столице Казахстана. Он знал, что такое война и сталинские застенки. У него была любовь и его мать была его Яго. У него не было никакого розового детства. Он прожил жизнь, быв там, где его народ, к несчастью, был.
Горькая любовь
Du mauvais cote de la quarantaine…[1]1
По худшую сторону сорокалетия (фр).
[Закрыть]
После Берлина она нашла себе новый предмет – ленинградских мальчиков. Вернее, не сама нашла, как и с Берлиным, когда она, брошенная Гаршиным – она несомненно была брошенной, она вела себя как брошенная – оскорбленная, цепляющаяся, забывшая свое имя (это она, а не он забыл ее гордое и громкое имя), – она уже ни на что не надеялась, хоть и чувствовала, что слава – остов мощности ее личности – окрепла и возвышала ее над людьми. Вроде бы можно было и выбирать, только вот выбор был бедноват, уровню ее притязаний не соответствовал. Берлин сам вышел на нее, случайно наткнулся – уж он-то точно не искал – и исчез. Ей было даже так лучше выстраивать роман. В сквош играют с ровной стенкой, все зависит только от атлета, партнеров здесь не предусмотрено.
Мальчики тоже появились независимо от ее чар. Притягательность в ней создало время – прожитое ею и то, в котором жили они. Как всякий старик, она завидовала и не хотела отпускать их туда одних.
Так удивительно совпало, что они могли реально ревновать ее к Берлину, считать его достойным соперником, он мог занимать их мысли, ее желанность становилась очень реальной. Что им было б до того, если б у Анны Андреевны был роман с каким-нибудь ленинградским почтенным филологом или с относительно молодым – для них все равно папиком, в силу двадцатилетней разницы в возрасте с Анной Андреевной ряженным в клоунские балахоны «молодого человека» – физиком!
Другое дело – с настоящим – полунастоящим, но несомненно официальным – англичанином. ЖИВУЩИМ В АНГЛИИ ИНОСТРАНЦЕМ! Не каким-нибудь коммунистическим деятелем, борцом за мир, живущим подачками от командировок в СССР, а так вожделенно-буржуазно профессорствующим скучным интеллигентом.
Только тень Блока – пусть упорно, излишне, многозначительно упорно отрицаемая, но абсолютно реальная – посмотрите ее паспорт – волшебная, головокружительно приближающаяся от близости живой Анны Андреевны, – могла соперничать со смирным сэром.
Кокетство совсем в духе городничихи – хоть в городничихины времена до Анны Андреевны лет особенно и не доживали. Что она хотела услышать в 56-м году в ответ на дерзкие заявления о своем возрасте? Что все прекрасное в жизни у нее еще впереди?
Фотография Ахматовой 1927 года, сделанная Лукницким. Красивая, композиционно неожиданная. Ракурс недоработан – ложбинка над горбинкой визуально заполняется скулой, получается прямая линия ото лба до кончика носа, линия не ахматовская, взгляд замерший, стеклянный, поэтический. Темное платье с раскрытыми плечами. Милая улика – выбившаяся белая бретелька бюстгальтера или еще какого-то dessous. Для таких отношений еще не настало время. Это так. Это сейчас (впрочем, мода десятилетней давности) девушки (мода для молодых; Анне Андреевне 37) стали надевать черное белье под белые облегающие рубашки, а бретели – конструироваться с расчетом на то, что они будут на всеобщем обозрении, как всякая другая часть одежды. Но, как известно, нагота модного фасона или купального костюма преследует совсем иные цели, чем внезапно подсмотренная. Анна Андреевна при первом визите Лукницкого в темноте коридора (разруха) падает, оступившись, ему в руки, и он несет ее в комнату – непосредственно на диван. Легкие руки обвивали шею, а тут – бретелька, какой пустяк.
«Поэму без героя», конечно, можно было начать писать только тогда, когда замаячило какое-то благополучие – но уже стало и видно, что не вернешь – молодости, поклонников (стройных, с подведенными глазами, в мехах – и чтобы не зазорно было бы с ними смеяться и даже о них страдать). Вот в такие минуты и пишется о козлоногих…
Дату 14 сентября 1922 года Ахматова обвела карандашом в своей тетради, и потом в этот день они отмечали с Пуниным свои «годовщины». У Ахматовой это всегда строго: когда, с кем. Кто был первым у нее? «И вы сказали?» – А.А., тихо-тихо: «Сказала». Вот и после 14 сентября появляются письма к ней с гордым и трагическим: «Анна!». Как-то мало кто звал ее так – почему-то все больше просто Аня, хотя бесспорно на Анну она вполне тянула. Но как только узнавали ее поближе, те, кто имел право выбирать: Анна Андреевна или Анютка – сразу без колебаний использовали свое право. И не одна Надежда Яковлевна Мандельштам, которая залихватски в своем письме к своему (тоже против его воли, Ахматовская школа) мужчине называет ее Анька, стерва, – тому надо дать понять, на каком коротке вдова мертвого Мандельштама с ныне живущей великой поэтессой – но и Пунин, как только первоначальная страсть схлынет, всякие там твоим пальцам больно и пр. – зовет ее только Аня. (Н.Н. Пунин. Мир светел любовью. Дневники и письма. Стр. 156.)
Быть массово любимой и требующей любви Ахматова стала в Ташкенте. Читала свои Ташкентские записки. АА выглядит там так, что многое вырезываю… Так оставить нельзя. Я думаю, что если бы я перечла эти строчки в 52-м – я не вернулась бы к ней. (Л.К. Чуковская. Т. 1. Стр. 520.)
В самый расцвет ахматовского предсмертного триумфа, когда она реальнее, чем когда бы то ни было еще в жизни, была окружена почти что действительно влюбленными молодыми мужчинами, знающим ее давно людям было ясно, что это все отлакированная версия Ташкента. Чуковская смотрит, как Ахматова лебезит перед Бродским:
Вспоминать Ташкент мне вредно. Город предательств… После Ташкента я десять лет не видела АА; потом подружилась с нею снова и дружила до гроба, но не забывала о ее ташкентских поступках никогда. Простить можно, но ЗАБЫТЬ (то есть видеть человека прежним, до проступка) никак нельзя.
Л.К. Чуковская. Т. 1. Стр. 518
Ахматова Бродскому: Сейчас получила Вашу телеграмму. Благодарю Вас. Мне кажется, что пишу это письмо очень давно. Анна. Какая она ему Анна? Всем она подписывается «Ваша А. Ахматова». Но юноше на пятьдесят лет младше, какая она Анна? Забывшись, водит пером по листу?
Нумерология. Иосифу Бродскому. Так как число моих писем незаметно стало трехзначным, я решила написать Вам настоящее, т. е. реально существующее письмо.
Записные книжки. Стр. 636
О манерах: Анатолий Найман в больнице. Ахматова несколько раз навестила меня и регулярно, с кем-нибудь, передавала маленькие письма, присылала букетики цветов. А.
А.Г. Найман. Сэр. Стр. 160
Иосифу Бродскому посылается фотография. Какая? Ну конечно – «От третьего петербургского сфинкса». Известный фотопортрет одиночный. – А.А. Ахматова в позе «сфинкса» во дворе Шереметьевского дома. <…> Фотография сделана летом 1925 года. (Материалы П.Н. Лукницкого. Стр. 115.) Летом – то есть платье легкое, летнее, облегающее приподнятый зад, оставляющее открытыми руки, голую шею. Поза если не из йоги, то из Кама-сутры. «Темная цикада»… Эта же фотография отправлялась Борису Пастернаку – дважды (с первого раза он не понял. Не понял и потом, но Ахматова так долго ждала и надеялась, что после его смерти стала говорить, что он ей делал предложения руки и сердца. Этого не было, а вот она ему, как видим, делала).
Гумилеву – там все уже масштабнее, уже не до эротики: Люблю ведь тебя, господи… Господа ли любит, нелюбимого ли Гумилева – Бог весть, но звучит красиво… Напыщенно – ну Гумилев и не среагировал.
Ахматову ловят на нелепой, пошлой ревности. Лида <…> решила, что «красотка» – кто-то, не знала, что такое адажио Вивальди. (Записные книжки. Стр. 401.) Которое Анна Андреевна слушала три месяца назад, в неугаданный день Успенья.
Вечером мальчики…Примечание: Кто-то из друзей Ахматовой, молодых поэтов, начинающих литераторов: И. Бродский, Д. Бобышев, М. Мейлах, О. (конечно, А.) Найман и др. (А.А. Ахматова. Т. 3. Стр. 561.) На заре юности – мальчики, и на закате – мальчики. С одним и тем же пафосом жеманства и театральности. Мальчик сказал мне: Как это больно/И мальчика очень жаль. Бродский жалеть бы себя не дал и больно ему было не от нее, и не «от ее лица». Она удерживалась из последних сил. Если это видели, однако, все – почему он сделал вид, что не замечает? Скорее всего, ответ все тот же – ему было не до нее. Читали стихи А.А. Исаю Бродскому. Это молодой, 22 лет, поэт, очень талантливый, и она в него влюблена и такие стихи ему пишет – как в молодости писала. А он влюблен в какую-то молоденькую красавицу Марину…(Письмо Т.Ю. Хмельницкой, По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 588.)
Бродский в это время любил другую.
То есть ей можно простить пятьдесят лет разницы, внимательную выстроенность судьбы, которую он видел, талант, который не дотягивал до гениального, род этого таланта, который не был талантом великого поэта, ее потуги, которые были очевидны (некоторым), ее социальные притязания – этого он мог и не замечать, будучи действительно слишком юным, – на все это можно было закрыть глаза и сказать: все бывает.
Но он не был свободен, как были свободны Найман, Бобышев, – они просто не полюбили ее, хотя могли бы, – а Иосиф, не менее выстроенно, чем она, уже никого не смог полюбить до конца жизни.
Почему она писала любящему другую мужчине? По привычке?
У нее даже такой привычки за жизнь не выработалось – все те ее, которые – не любишь, не хочешь смотреть, – они просто не были способны к любви: ни сами ее не вызвали, ни ответить не могли – так, любовное броуновское движение.
…От Гончаровой начиная, конечно. И кончая этой «Красотка очень молода». Ревновала? (Р. Зернова. Иная реальность. Ахматовские чтения. Вып. 3. Стр. 27.) Казалось бы, ну и ревновала. Разве не имеет право? Зачем только искать эпиграфы из Катулла?
Анатолий Найман в поддавки, несомненно, играл. На его жалобы было написано: Кто тебя мучит такого? Выяснение отношений ведется публично и не для личных нужд. Она считает, что ей очень повезло, что ее жизненный круг замкнулся очень эффектно, что делать больно все время было кому, совенок замученный мой ее старости нашелся, дающая рука не оскудела. Найман был красив. «В молодости А<натолий> Г<енрихович> был очень хорош собой. Более того, ослепителен. У меня есть фотография сорокалетней давности – А.Г. в профиль, в свитере. Мои девицы – сослуживицы по Ленгипроводхозу – брали ее с собой в командировки, чтобы показывать тамошнему начальству. Пусть посмотрят, какой у них муж красавец, и не лезут с „гнусными предложениями“. (Л. Штерн. Бродский: Ося, Иосиф, Joseph. Стр. 253.)
Все это казалось подарком судьбы. Собственно, так все и было. Под конец жизни ее поставили на нелимитированное довольствие, она получала все, о чем только могла мечтать; в чем только люди ни могли ей позавидовать – ей незамедлительно выдавалось. Тот ли только набор, который должен выдаваться великой душе – вот что смутительно.
Приглядитесь к торговкам, которые в ряд стоят в молочном ряду на рынке. Кто-то суетливо привлекает клиента, кто-то ревниво оттирает конкуренток, какая-то распустеха просто постреливает глазками по сторонам, а какая-то – стоит матроной, на покупателей взглядывает хозяйкой, разговаривает властно, перед такой робеет и важная заказчица в норковой шубе в пол. Это врожденный тип личности, психологический склад, и больше ничего. Никакой титанической работы над собой, явления в мир гения, никакого назидания живущим.
Найману и Бродскому подписывается – Анна. Больше никому. Пуниной-Каменской – Акума (у них такие искусственные, натужные отношения, что тоже чувствуется неловкость). Надежде Мандельштам – и давнишняя знакомая, и столько связано, и знак равенства между нею и Мандельштамом, и совместное житье и шутки, даже квартиру предполагали получать в Москве и жить – вместе, и разница в возрасте такая, что предоставляла варьировать обращения и подписи, однако – Ваша Анна, Ахматова, Анна Ахматова, даже – А. Ахматова.
Изысканный роман подходит к концу. Потом Толя. Печально и мирно. Это уже настоящий конец. Остается уладить подробности. Он сравнительно все хорошо понимает. (Записные книжки. Стр. 427.) Если она имела в виду не окончание какой-то интимной истории, а, например – конец поэмы, окончание холодной войны, закат Европы – в этом предназначенном для публичного ознакомления дневнике она обязана была это сделать более очевидным. Обязана – несомненно, для себя – для нас, читателей, сомнений нет: перед нами не повесть, а уже роман.
Дневник свой Ахматова пишет из последних прозаических сил, на пределе своих литературных способностей.
Ясно, что каждая строчка ею прочитана глазами будущего потомка-читателя, но пишет она совершенно искренно, кровью сердца, именно такими словами она думает о себе.
Письмо А.А. А.Г. Найману: Вы сегодня так неожиданно и тяжело огорчились, – что я совсем смущена. Я часто и давно говорила Вам об этом, и Вы всегда совершенно спокойно относились к моим словам. <…> Мы просто будем жить как Лир и Корделия в клетке, – переводить Шекспира и Тагора и верить друг другу. Анна». (А.Г. Найман. Сэр. Стр. 157.) Как поясняет ситуацию А. Найман – это было послесловие к одному из разговоров <…> о близкой ее смерти, но о смущении сказано как-то невпопад.
19 января. Надо (непременно), чтобы Толя уехал в Ленинград. <…>
19–20 января. Черновик письма А.А. А.Г. Найману: Теперь Вы свободны – Ленинград не худшее. (Записные книжки. Стр. 695–696.)
11 октября 1964 г. А.А. подарила А.Г. Найману свою фотографию с переписанным на обороте четверостишием З. Гиппиус:
Не разлучайся, пока ты жив,
Ни ради дела, ни для игры,
Любовь не стерпит, не отомстив,
Любовь отымет свои дары.
Летопись. Стр. 654
Отымет – слово скорее ахматовское, для чего-то взятая простонародная форма – вроде бы хотелось что-то такое сказать, не получалось, ну и поразим лексикой. Впрочем, Гиппиус – уж точно не великий поэт.
Какая ветреница – с Бродским тоже не разлучается ни днем ни ночью.
20 октября 1964 года. Письмо А.А. И.А. Бродскому: Из бесконечных бесед, которые я веду с Вами днем и ночью, Вы должны знать о том, что случилось и не случилось». (Летопись. Стр. 655.) Видите, как все загадочно – и в то же время просто. Есть ли только желание разгадывать тайны? У Бродского вроде не было, а вот другие поклонники, кажется, не переводятся.
Ее ошеломляющая «Анна», вне всяких рамок приличия намекающая на царское, королевское величие. Или – жалкая, играющая в наивность, в спонтанность попытка заставить видеть в себе Анну, чуть ли не Аню – навязываемая интимность. Как ей Бродский или Найман должны отвечать? Так и писать: «Здравствуй, Анна»? Героиня ненавистного романа так и подписывалась, самое великосветское произведение русской литературы – все из ее привычного быта, обихода…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.