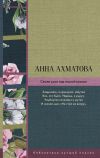Текст книги "Отмена рабства. Анти-Ахматова-2"
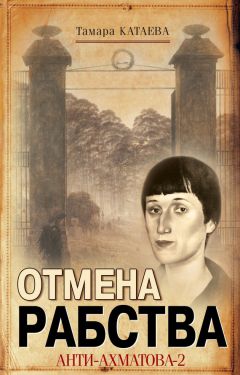
Автор книги: Тамара Катаева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Мур
…я не в силах окунуться в ташкентские ужасы – самый ужасный период моей жизни после 1937-го – измены, предательство, воровство… некрасивое, неблагородное поведение АА, нищета, торговля и покупка на рынке, страшные детские дома…
Л.К. Чуковская. Т. 1. Стр. 518
Эвакуация – полигон чистоты социального эксперимента. Московским номенклатурным и полуноменклатурным (четверть – уже слали в Алма-Ату) семьям вместо с годами и десятилетиями наживаемых семейного уклада и добра в один момент выдали номерок, паек, жизненное пространство – все в точности с порядковым номером по мере возрастания его класса. Не нужно было ни работать, ни выбирать своего пути, достаточно было только функционировать в рамках выданного предписания, – и было еще сколько угодно времени для интенсивной светской жизни. Она в Ташкенте била ключом. Некоторым захотелось даже чего-то еще и изящного, подзабытого, с декадентским душком – чем-то же надо было заполнять досуг.
Там родина моего Пролога, от которого нет спасения.
Ташкент – родина читателей Ахматовой. Там родились толпы почитателей, там она впервые попала в президиумы, в первые ряды на престижных концертах. Там впервые бездельные люди присмотрелись, что она одна из немногих оставшихся в живых представителей казавшегося галантным века, и готовились вставать при ее появлении – а она готовилась писать то, что им было бы приятно иметь для прослушивания.
Помощь читателя (особенно в Ташкенте) [продолжалась все время]. (А.А. Ахматова. Т. 3. Стр. 218.)
В Ташкенте <…> она пополнела и ничуть не была похожа на себя зимы тридцать шестого года: красивая, элегантная старая дама. Благополучная. (Р. Зернова. Иная реальность. Ахматовские чтения. Вып. 3. Стр. 32.) Не про каждую полную, и красивую, и элегантную даму скажут именно это. Что ж с того, что выглядит прекрасно, – увидят то, что дама хочет показать. А в Анне Ахматовой видят благополучность именно потому, что это то, что важно для нее самой.
Домашняя вечеринка в Ташкенте. Вспоминает бывшая подростком дочь командующего Среднеазиатским военным округом. Не думаю, чтобы [Ахматова] была польщена – генеральский дом, светский генеральский дом. А Анна Ахматова живет в нищете вместе с вдовой Мандельштама. Мы не знали о том, как она живет. (Действительно – не знали. Повторяли то, что говорят другие.) Когда к дому подъехала машина и некую пыльную старушку (так я восприняла Анну Ахматову в свои шестнадцать лет) стали с почетом и поклонами высаживать из машины <…>. Женский голос меня поразил – «пыльная старушка» говорила как знатная особа. <…> Эфрос ворковал: «Я вас видел в 1914 <…> году на благотворительном вечере у графини Орловой». <…> Голос был влюбленного человека. Ахматова помедлила с ответом и <…> сказала: «Да, я была тогда в черном бархатном платье с большим кружевным воротником». (Л.С. Эйдус. Под знаком Кафки. По: Я всем прощение дарую. Стр. 27–28.)
Родители балуют детей по-разному. Девочка, избалованная матерью, – унылая, бездеятельная, неряшливая. Балованная отцом – своевольница, капризница. Ничего страшного, что у Марины Цветаевой был «невообразимо избалованный сын».
Полный достоинства, волевой и нечеловечески (человеческих сил у него было не с избытком) выносливый. Образованный, чтущий (не тщащийся) своих отца и мать. Резонер, железной волей накладывающий житейскую суматоху на графику своих резонов – готовый мудрец. Пишущий как писатель – западного толка, обстоятельно-профессиональный, без советской опереточно-продажной готовности. Полный жизни, красавец. Светский лев семнадцати лет в рабочей спецовке и разваливающихся башмаках, прагматик и поэт. Ахматовой повезло, что убили и его.
99 % «товарищей» по армии – выпущенные уголовники. Мат, воровство страшное, люди абсолютно опустились. Голодают все, все ношу с собой, иначе – украдут <…> Я две недели болею только потому, что заставляют ходить на работы, несмотря на освобождение, заставляют, например, обувать ботинок на больную ногу и рыть – бессмысленно – 10 м снега. Заключение Мура (у Ахматовой – наоборот): Пусть внутренне человек будет каким угодно, но внешне он должен суметь быть на определенном уровне, и только на этом уровне.
Г. Эфрон. Письма. Стр. 172–174
Сведенная в Ташкенте с сиротой Марины Цветаевой и вдовой Мандельштама, Анна Ахматова поняла, в чем смысл жизни – в силе, в славе, в почестях.
Я его хорошо знала в Ташкенте. Он там жил в том же доме, что и я. Я ему на полке хлеб оставляла, а он приходил брать; этот ташкентский хлеб, тяжелый, как камень, я есть не могла. Как он умер, осталось неизвестным; никакого официального сообщения о том, что он пал смертью храбрых, не было. Он такой был, что мог быть убит и как дезертир или еще как-нибудь. (Н. Струве. Восемь часов с Ахматовой.) Юноша Бабаев пишет, что ташкентский друг его Мур очень высоко ставил понятия чести, военной службы, офицерства, считал, что перед ним могут открыться пути, по которым он не повторит дорог своей матери, своего отца, своей сестры – дорог к безымянным могилам. Как бы мы высоко ни ценили творчество Марины Цветаевой, она – не наша мать и не нам судить сына, который из своей жизни хочет сделать что-то принципиально свое. То есть Бабаев видел все так романтично (будем считать, что попался на удочку хитрого лицемера Георгия Эфрона, который лицемерно разыгрывал перед ним высокопарные чувства. Или на секунду поверим, что восемнадцатилетний юноша, сын белого офицера и пр., Мур, все-таки и сам искренне рвался на поля чести и славы), а вот многомудрая Анна Андреевна при личном, довольно близком общении (весьма для нее полезном – он был для нее немалым источником информации о новой поэзии во Франции) с Эфроном в Ташкенте убедилась, что все могло обернуться и чем-то противоположным, своим опытным взглядом определила, что Мур был слишком умен, слишком много видел, был слишком полон жизнью – и мог развернуться на 180 градусов, захватиться романтикой зла. Просто благородства исполнения солдатского долга Ахматова не понимала. Ее круг и ценности ее круга были другие, она их выразила полно и точно в своем предположении: как должен поступить юноша, если заступиться за него некому: он, вероятно, стал дезертиром.
…своих детей Толстой от армии освободил. <…> Просила и Наталья Васильевна [Крандиевская]. <…> Никита упал на колени перед отцом, умоляя его сделать все для того, чтобы его не призвали в армию… «Не для того я учился, чтобы быть пушечным мясом в этой войне», – со слезами говорил он. Также и Дмитрий… Толстой испытывал вину перед сыновьями за то, что бросил их… Толстой был очень влиятельным человеком.» (В.В. Петелин. Жизнь Алексея Толстого. Красный граф. Стр. 934.)
Мур просил о железнодорожном билете в Москву.
Ахматова действительно играла роль королевы, а все вокруг, включая Толстого, ей подыгрывали, но граф был особенно предупредителен и почтителен…
А.Н. Варламов. Алексей Толстой. ЖЗЛ. Стр. 541
Она живет припеваючи, ее все холят, она окружена почитательницами, официально опекается и пользуется всякими льготами. Подчас мне завидно – за маму. Она бы тоже могла быть в таком «ореоле людей», жить в пуховиках и болтать о пустяках. Я говорю: могла бы. Но она этого не сделала, ибо никогда не была «богиней», «сфинксом», каким являлась Ахматова. Она не была способна вот так просто сидеть и слушать источаемый ртами мед и пить улыбки. Она была прежде всего человек – и человек страстный, не способный на бездействие, бесстрастность, не способный отмалчиваться, отсиживаться, отлеживаться, как это делает Ахматова.
А.Н. Варламов. Алексей Толстой. ЖЗЛ. Стр. 540
К Ахматовой по лесенке поднимались хорошо одетые, надушенные дамы, жены известных и не очень советских писателей, с котлетами, картошкой, сахаром – с дарами. Нарядные дамы порой выносили помойное ведро и приносили чистую воду. Бывали и такие дни, когда ее никто не посещал. Тогда она смиренно лежала на своей кушетке и ждала или нового посетителя, или голодной смерти.
Н.А. Громова. Все в чужое глядят окно. Стр. 53
Цветаева не могла главным образом потому, что даже Ахматовой, которая делала это профессионально, приходилось работать на это, на поклонение.
Однажды случилось, что днем всем потребовалось уйти одновременно и Анна Андреевна на некоторое время должна была остаться одна. <…> Анна Андреевна решительно заверила меня, что тревожиться нечего, что для нее это нормально и привычно, что она даже любит побыть одна. Мы собрались уходить, но в последнюю минуту я замешкалась и вернулась к себе в комнату, а дочка моя убежала, не став дожидаться. Едва за ней захлопнулась дверь, как я услышала, что Анна Андреевна звонит по телефону. Она вызвала одну свою молодую приятельницу и стала настойчиво просить ее немедленно приехать, потому что она совершенно одна… Она с таким отчаянием повторяла «совершенно одна», что чувствовалось: для нее это невыносимо. Я дождалась, пока она ушла к себе, и постаралась выйти как можно тише, чтобы не смутить ее. (М. Алигер. Воспоминания. Стр. 363–364.) Ахматова любила молодежь, ей с молодыми было легко, но не со всеми молодыми – с такими, которым она могла рассказывать свои песни, они же пластинки. Георгий Эфрон мог стать, мог, скорее всего, не стать Бродским, но в Анне Ахматовой для него тайн не было.
Весной 1944 года Мура призвали, а 7 июля того же года рядовой красноармеец Георгий Эфрон погиб. Место его упокоения так же неизвестно, как могилы его отца и матери.
А.Н. Варламов. Алексей Толстой. ЖЗЛ. Стр. 540
Let my people go
С Мандельштамом отношения были самыми прозрачными, Лукницкий простодушно их описал: она своим неошибающимся чутьем вычислила его место и заняла безупречную позицию рядом, он – проявил свой обычный наивный прагматизм, ни от чего его не спасший.
Так случилось, что арестовывали Мандельштама в присутствии гостьи.
Ахматовский «обезьяний документ» и предназначенный ей знак ордена – последнее из созданных [Алексеем] Ремизовым в России. В 1934 г. Ахматова продаст этот знак Литературному музею, чтобы иметь деньги на обратный билет из Москвы, куда ездила навещать Мандельштама, арестованного 13 мая в ее присутствии.
Анна Ахматова в портретах современников. Стр. 58
В 1934 г. Ахматова, после того как навестила в Москве Мандельштамов, продала один из экземпляров статуэтки [фарфоровой скульптуры сестер Данько] московскому Литературному музею, чтобы оплатить обратный билет в Ленинград. (Анна Ахматова в портретах современников. Стр. 82.) Что ни продано из архива – все на оплату билета. Сколько же стоил этот билет? Леву заставляла отрабатывать посылки, не спросить ли и с Мандельштамов за плацкарту?
Со вдовой Мандельштама хотела потихоньку раззнакомиться, избегала ее, потом был Ташкент, она Надежде Яковлевне даже в больницу запрещала заходить проведать. Когда бедной вдовице вышло послабление участи, а Мандельштаму вроде стали готовить сборник (Ахматова считала, что он не нужен – непонятен, а тем, кому он нужен, – у них и так он есть) – знакомство возобновилось.
В годах Анне Ахматовой под нажимом общественности решили дать жилплощадь и в Москве – ведь у нее столько дел, столько друзей здесь. По две квартиры в Советском Союзе лауреаты Государственных премий и депутаты Верховного Совета не имели.
Решили дать одну на двоих с Надеждой Мандельштам, той было чрезвычайно лестно.
А Воронков только спросил, какие у нас отношения и не сочтете ли вы такую квартиру коммунальной, на что я нагло объяснила, что мы обожаем друг друга.
Н. Я. Мандельштам. Об Ахматовой. Стр. 244
Начальство беспокоилось также, чтобы и дом не был слишком старый, чтобы все – первый класс.
Дорогая Надюша, очень хочу жить с вами в Москве, лишь бы сохранился мой дом в Ленинграде. <…> В воскресенье еду к себе на дачу в Комарово. Ваша А. Ахматова.
Н. Я. Мандельштам. Об Ахматовой. Стр. 242
Все это – гонения. Ну и счеты с Надеждой Яковлевной – той всегда надо было как бы невзначай демонстрировать различие в статусе.
Как всегда, явились народные чаяния.
Ей удалось немыслимое: она добилась у Суркова московской квартиры для Надежды Яковлевны Мандельштам (На самом деле Надежда Яковлевна через несколько лет сама купит себе кооперативную квартиру). Она была этим смущенно счастлива, так мне показалось. (Р. Зернова. Иная реальность. Стр. 35.) Представить себе Ахматову смущенной невозможно. Она легко изображает нужное смущение, когда все обстоятельства складываются так, как только она могла бы себе пожелать в самых жестко выстроенных мечтах, и угроза действительно смутиться абсолютно исключена – вот в эти моменты она может изобразить СМУЩЕНИЕ.
Наденька, при всей своей скандальности и экстравагантности, не стала затевать каких-то склок и выходок против Ахматовой. Она написала книгу.
…«новая» Н.Я., с написанием мемуаров окончательно порвавшая с тою прежней, почти бессловесной <…> «Наденькой», прекрасно понимала, чем им [Н.Я. и А.А.] это обеим грозит. Крахом, полным разрывом отношений – причем почти независимо от того, что именно об А.А. она написала. (Н.Я. Мандельштам. Об Ахматовой. Стр. 11.) А ведь было ясно, что Надежда Яковлевна ничего не придумает, не напишет никакой клеветы, не раскроет секретов, не вытащит каких-то грязных историй, – что же тогда? Просто Надежда Мандельштам докопается до того, что Анна Андреевна – просто человек, а вот с теми, кого для мемуарства отбирала сама Ахматова, – этого не случится. Те будут писать поверху, строго в рамках схемы: Ее высочество изволили… Она снова явила нам… Читателей литературы об Ахматовой предполагают достойными только такого. И действительно, это поколение народилось, воспиталось и сорок лет блуждает по пустыне с целями, прямо противоположными тем, с какими мой народ в пустыню можно загонять.
Книга потрясла всех. Даже те, кто не удостоился бы быть упомянутым в ней, защищался на всякий случай или просто – бескорыстно – возмущался бунтарством.
Вениамин Каверин прикрикивает на Мандельштам (Вы, не написавшая ни строчки): Но находятся слова, против которых она бессильна. Вот они: Тень, знай свое место. (П. Нерлер. В поисках концепции. Стр. 95.)
Как это, не написала? Написала, две книги. И не обязана была до этого что-то пописывать: художественное, что-то для детей или на историческую тему, пробиваться, проталкивать их в печать, трясти костями мужа и делать из них лакмусовую бумажку, вступать в союз…
Иосиф Бродский относит их к великой русской прозе двадцатого века. Андрей Платонов – а следом она, Надежда Мандельштам. «Двух капитанов» помнят только школьные учительницы, а Надежду Мандельштам читает молодежь. В секции прозаиков СП счет, возможно, другой.
У Анатолия Наймана свои претензии. Ахматова представлена капризной, потерявшей чувство реальности старухой. Тут правда только – старуха, остальное возможно в результате фраз типа: «в ответ на слова Ахматовой я только рассмеялась» – вещи невероятной при бывшей в действительности иерархии отношений. (А.Г. Найман. Сэр. Стр. 114–115.)
Это можно назвать претензиями к сюжету. Хорошо поступила Наташа Ростова, изменив Андрею Болконскому или нет? Могла ли Надежда Яковлевна рассмеяться Анне Андреевне в лицо или нет?
Надежда Яковлевна написала РОМАН о своей жизни – такой роман, какой она хотела, где смеется ее ГЕРОИНЯ. О жизни могла сказать правдивее. Ей даже предсмертной смелости не хватило рассказать об Анне Ахматовой все, что ей довелось увидеть, – и после писать бы уже так, как не писать она не могла. Поскольку она не назвала вещи своими именами, ее упрекают за то, что она расписывала Ахматову просто не теми красками.
Она преувеличивает и степень близости, и степень вовлеченности в жизнь друг друга и нужду друг в друге. Надежда Яковлевна была периферийным человеком в жизни Ахматовой, всегда готовым свидетельствовать со стороны защиты, быть фигурантом по делу о количественном составе топа русской поэзии двадцатого века. В житейской же, весьма приятной в последние десятилетия прогулке она была Ахматовой безо всякой надобности.
Книги Надежды Мандельштам написаны не в полную силу, всей правды даже она и даже в них сказать не посмела, но верным хватило и одной ее запальчивой фамильярности для предания анафеме. Надежда Яковлевна пробовала этот тон – великолепно не замеченный Ахматовой – и в их переписке, писала Ахматовой задирчиво – с показной дерзостью, имеющей на всех направлениях пути к отступлению, непросто. Ануш!.. Будто от радостного изумления амикошонство: обнаглевшая оттого, что не умерла летом (она тяжело болела) и сейчас все ест и пьет. (Летопись. Стр. 555.)
Начало книги – камертон новой эпики: …трое своевольцев, три дурьих головы, набитые соломой, трое невероятно легкомысленных людей – А<нна> А<хматова>, О<сип> М<андельштам> и я – сберегли, сохранили и через всю жизнь пронесли наш тройственный союз, нашу нерушимую дружбу. Всех нас тянуло на сторону – распустить хвост, достать «крысоловью дудочку», «проплясать пред ковчегом завета», все мы дразнили друг друга и старались вправить другому мозги… (Н.Я. Мандельштам. Об Ахматовой. Стр. 144.)
Анна Андреевна не хотела – да и никто бы не захотел – быть ни дурьей головой, набитой соломой, ни стервой, ни Ануш.
Под фонарем осталась плясать одна Надежда Яковлевна.
Л.К. Чуковская нашла разгадку: при жизни Ахматовой Надежда Яковлевна не решилась бы написать ни единой строки этой античеловечной, антиинтеллигентской, неряшливой, невежественной книги. (П. Нерлер. В поисках концепции. Стр. 94.) Кто бы спорил. Вернее, написать – как знать, может, и писала бы – писал же, например, чтобы за примерами не ходить далеко, Осип Мандельштам при жизни Сталина своего «Осетина», даже если это в глазах Лидии Корнеевны ничто в сравнении со смелостью людей, дерзающих занести на бумагу свое личное мнение об Анне Андреевне Ахматовой. А вот читать бы точно не дала и опубликованным увидеть мало бы имела надежд. Публиковать даже сейчас, даже за границей, что бы то ни было против Ахматовой, – чревато. У Ахматовой длинные руки.
Штрихи к портрету
Заботится о чистоте своего политического лица, гордится тем, что ей интересовался Сталин.
М. Кралин. Победившее смерть слово. Стр. 227
Николай Пунин в 1926 году составляет для английского издательства биографическую справку и недрогнувшей рукой выводит: Замужем А.А<хматова>была два раза: первый – за поэтом Н.С. Гумилевым, второй – за ассирологом В.К. Шилейко. (Н. Гумилев, А. Ахматова. По материалам Н. Лукницкого. Стр. 106.) По-ахматоведчески Ахматова уже вовсю была «женой» Пунина (тогда не обязательно было регистрировать брак и т. д.), по крайней мере жила она уже на Фонтанке, в квартире Пуниных, и кто чья была жена, определялось тем, в какой из комнат коммунальной квартиры г-н Пунин ночевал. Он не написал – в настоящее время состоит в браке с… У него уж точно бы не спросили свидетельства о браке. Положим, ему показалось немного эксцентричным писать, что певица любви замужем в третий раз. И эту проблему можно было бы легко исправить, если б он считал себя ее мужем и позволил бы ей его таковым считать. Достаточно было пожертвовать гном Шилейко. Союз их сердец давно распался, Шилейко жил в Москве, был женат, на Ахматовой женат никогда не был. Можно было бы просто-напросто не упоминать его, никто за язык не тянул, но назвать себя – и все было бы окружено таким же флером интересности. Сообщить, что Ахматова была замужем единожды, – это как-то не комильфо, ведь вдовой назваться Ахматовой не удалось бы (в те времена, когда заграница была набита живыми свидетелями матримониальных перипетий семейства Гумилевых и все знали, что у Николая Степановича осталась законная вдова. Это потом уже легенда эта стала практически официальной). А быть разведенной женой, которой впоследствии замуж выйти не удалось, – для Ахматовой точно не подходит.
В 1926 году Ахматовой 36 лет, «жизнетворчество» еще не расцвело так, как впоследствии, но просьба о биографии сеет большую суматоху в семействе. Ахматова сама писать не хочет, Пунин медлит, Лукницкий привлекается в помощники, – и наконец-то какое-то подобие текста – у обычно вольно и свободно излагающего свои мысли Пунина – предлагается иностранцам, с большими оговорками.
Препровождая по поручению Анны Андреевны некоторые биографические сведения о ней, считаю необходимым отметить, что сведения эти, конечно, могут служить лишь материалом для биографической заметки; поэтому печатание их в той форме, в какой они изложены, разумеется, не имеет смысла – они не предназначены для печати…
Н. Гумилев, А. Ахматова. По материалам Н. Лукницкого. Стр. 103
К биографии сохранились два карандашных черновика: родилась 11 июня 1891 г. в одиннадцати верстах от Одессы в дачной местности «Средний Фонтан» (В. Черных, державший в руках ее метрику, называет нечто более решительное – Большой Фонтан). И «родилась 1891 г. близ Одессы». В канонический текст решили год рождения все-таки не включать. В том же сопроводительном письме – большой пассаж: Что касается сведений, которые могут оказаться напечатанными в некоторых русских повременных изданиях за границей, то таковые, насколько нам известно по рассказам приезжающих из-за границы лиц, весьма недостоверны, а иногда ([писания] фельетоны Георгия Иванова) просто вымышлены, поэтому Анна Андреевна просила меня сообщить Вам, что пользоваться ими ни в коей мере не следует. (Н. Гумилев, А. Ахматова. По материалам Н. Лукницкого. Стр. 103.) И то – Ахматова говаривала с сарказмом об эмигрантских дамах: они там все убавили себе по десять лет, а она – только два годика.
Очень возмутилась, что в какой-то статье <…> написано о письме Блока к ней, как он писал, что «не надо ни кукол», ни «экзотики», и что-де «вероятно поэтому-то после этого письма А. изменилась в стиле.
Е. Лопырева. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 512–513
Про кукольность ей писали и Блок, и Тальников – мужчин написанное черным по белому слово ловушка раздражает. Вот если просто в жизни, наяву глаза голубые распахнула, пухлые губки приоткрыла – ну, еще ничего, можно и попасться – а когда себя очень наивно, но некоторым тиражом, за известную цену, расписывает – это уже совершенно неприемлемая манерность для начитанного джентльмена. Мой городок игрушечный написала, когда все уже поумирали – и многим стало нравиться снова.
Ведь это же он [Бродский] всем своим авторитетом, всей силой личности пусть не создал, но мощно и безоговорочно подпер пьедестал памятника Ахматовой, так что эта точка зрения стала непререкаемой, и именно из-за нее изредка предпринимаемые попытки демифологизации поэтессы находят себе дорогу с таким трудом.
Р. Аллой. Веселый спутник. Стр. 48
У нее была фактура и что-то, без чего у женщин не бывает талантов, – желание нравиться. Она знала, что он этому хотел учиться у нее.
Вот ее рецептура: «дама хорошего тона» – до 46 размера, «императрица» – в формате XXL, литературный стиль – «от Пушкина», «от Анненского», «от Блока». Правда, те – внутрироссийского хождения, а ее накрывает всемирная, всевременная слава Данте, Сафо…
Е. с товарищами была у Ахматовой, там на столе лежала машинопись с чем-то очень интересным про Гумилева, но Ахматова быстро отняла, «вы не там читаете», и раскрыла на другом месте, где было написано, что юная Аня Горенко была просто прелесть.
М. Гаспаров. Записи и выписки. Стр. 378
По поводу же того, как она разошлась с Ш<илейко>, мне недавно, с ее слов неожиданно рассказал Е. Рейн: «Вл<ладимир> К<азимирович> вдруг стал делать вид, будто нашего брака не существует.
Л.К. Чуковская, В.М. Жирмунский. Из переписки (1966–1970). Из кн.: Я всем прощение дарую. Стр. 401
Проглядев тогда же разговоры Стравинского с Крафтом, она удивилась, не найдя его в числе своих почитателей.
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 160
«Весной я умру, – говорила она себе, – умру, как Снегурка. <…> Она оказалась правой и по отношению к себе, когда говорила, что умрет весной, как Снегурочка. (О. Дымов. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 592.) В предсказании даты смерти бывает только два варианта: угадать или ошибиться. Предсказывать себе Снегурочью смерть – это только сравнивать себя со Снегуркою. Зачем – это и есть исследуемый предмет. Тайна.
19 февраля 1966 А.А. выписали из больницы. Тем временем государство расставило точки в деле двух писателей, о которых А.А. в эти дни говорила: «Пусть потеснятся, мое место с ними». Далее, вместо того чтобы просто назвать этих писателей (этого так и не случится, это фирменный стиль), идет длинная цитата. Как известно, они поставляли тайно, в нарушение закона, свои антисоветские сочинения враждебным нам зарубежным центрам пропаганды, а те использовали их в целях подрывной деятельности против советской власти, против советского народа. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 283.)
Я тоже печаталась за границей. И это тоже было с моего согласия». (В рассказе В. Муравьева. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 731.) Ахматова печаталась в большевистской заграничной прессе.
…она указала мне, где должны стоять 4 строки: «Я всем прощение дарую…» – в цикле «Б.П.» и С ДАТОЙ 1947. Теперь вы обнаружили точную дату: 8 апреля 1946. Почему же она хотела 1947? ЗАБЫЛА? Нет. Она хотела, чтобы «всем прощение» было объявлено ПОСЛЕ АВГУСТА 1946 года… После массового предательства. (Л.К. Чуковская, В.М. Жирмунский. Из переписки (1966–1970.) Из кн.: Я всем прощение дарую. Стр. 398.) А ведь более величественно было бы объявить о своей недосягаемости для людского коварства заранее, гораздо меньше похоже на истеричный выкрик: «Прощаю всех!» А уж понять бы смогли – раз публикует, не вычеркивает ПОСЛЕ всех событий. Но – боялась перетончить, ведь не поймут!
Кстати, о массовом предательстве: Лидия Корнеевна в 1946 году не общалась с Ахматовой. Она прекратила с нею общение на 10 лет в 1944 году. Ср. со свидетельством близкой подруги Ахматовой, заодно и доносительницы. Рассказывает, что неизвестные присылают ей цветы и фрукты. Никто от нее не отвернулся. Никто ее не предал. «Прибавилось только славы, – заметила она. – Славы мученика».
Чуковская занимается посмертным изданием стихов Ахматовой. Так как же МНЕ быть? Давать две даты, где-то оговорив? Но прилично ли писать <…>: «Берем в скобки те даты, которые проставил автор, а без скобок даем настоящие?» Выходит, что я уличаю автора… А м.б., по-другому – просто СНЯТЬ даты в тех случаях, где А.А. уж очень врет… (Это не текст Тамары Катаевой, это Лидия Корнеевна Чуковская академику Жирмунскому)… Но тогда исчезнет и некоторый оттенок ее мысли (не место иронизировать, но такие краски не называются «оттенками»). (Напр.: «Кровью пахнет только кровь» – 1938. На самом деле гораздо раньше.) (Л.К. Чуковская, В.М. Жирмунский. Из переписки (1966–1970.) Из кн.: Я всем прощение дарую. Стр. 398.)
«ААА» – красиво. Минимализм, находка конца двадцатого века. Скорее всего, она об этом не думала. По существу же – это страшный крик, / младенческий, прискорбный, вой смертельный Бродского – это его наблюдение, его придумка. Тогда на это моды не было, а Ахматова ничего не начинала сама, подхватывала самые едва шелохнувшиеся веяния – и развивала. Конечно, могла проставить фальшивые даты – мол, знала, что такая мода придет: «Я всегда все знаю заранее, это мое несчастье» и пр. Однако никаких «ААА» в ранних подписях Ахматовой не встречается.
Женщина, неосмотрительно подписывающая свои первые стихи псевдонимом АННА Г. – до ААА не додумается. Эта случайная счастливая находка, ее имя – ей подарок. Как и красота, долгий век, география биографии. Но на все ей есть отпор (она заставила никого не обращать внимания):
на имя – Анна Г.,
на красоту – похожесть на бронтозавра,
на долгий век – сенильное расстройство личности,
на Царское Село – Большой фонтан.
То, что она усердно выдумывала, – ее знаменитая перечеркнутая прописная «А» – невдохновенный, тяжким усилием придуманный дизайн, вычурность, не имеющая никакого – ни графического, ни смыслового содержания.
Вырисованы «А» так, как все, что нарисовано рукой АА, – несмело, неумело, настойчиво. Так она исправляла рисунок Тышлера, так она рисовала свой карандашный автопортрет – что-то вроде изобразительного манифеста, канона – визуального «опуса Аманды Хейт», чтобы впредь не отступали и не вольничали: полные поэзией прозрачные глаза, прямо ранний Илья Глазунов, нос – горбинкой, в профиль (сам портрет – анфас, но ведь на дворе двадцатый век, все так рисуют), губы – более полные, чем на самом деле, – чувственные, сексуальные – мы-то с вами насмотрелись на произведения инъекционной косметологии. Шея – ну лебедь, челка хорошо подстрижена, блестит (маска для волос, жидкий шелк, укладочный гель), небрежно, никак, вольным полетом руки художника едва обозначенная шаль вокруг плеч – это как полагается.
Кстати, Берлины были еще в ее окружении… Наверное, ей было неприятно знать, что есть Берлин – не сэр, не иностранец, не causeur, не гость – …одаренные литераторы Политехнического института и Дома культуры «Трудовых резервов», среди которых выделялись самобытностью творчества Игорь Ефимов, Марина Рачко, Виктор Берлин, Виктор Соснора, Галина Прокопенко-Галахова. (Н.В. Королева. Анна Ахматова и ленинградская поэзия 1960-х годов. Стр. 118–119.)
Наверное, плохо было еще и то, что фамилия возлюбленной Бродского Марины Басмановой – Басманова. Зачем она ей! Вот бы Горенку такой наградить! Басмановой око во гневе – это от хроник Ивана Грозного – сама изысканная и флегматичная особа глазами, очевидно, сверкала нечасто.
Чеченская поэтесса Раиса Ахматова, такая же, как Анна Андреевна, делегат съездов и видный деятель литературы, – не беспокоила. Она сообщала какую-то невыдуманность ее собственному псевдониму.
Российская Газета: Самое яркое впечатление об этом человеке?
Вячеслав Иванов: Если коротко, она была с искрой Божьей! И реально ощущала особенный характер того дара, который ей был дан.
Интернет
То, что Анна Андреевна ОЩУЩАЛА, тем более «реально», может знать только она. Очевидно, имеется в виду то, что она РЕАЛЬНО давала почувствовать другим.
Ахматова немного рассказывала о больнице, о том, как к ней внимательно относились. Я рассказала, что два дня назад была там, но уже не застала ее. Она удивилась, пошутила.
Потом: «Жаль, что напрасно ездили. Знаете, тогда запишу вас в число меня посетивших… Можно? Хорошо? Я записывала всех моих гостей. Москвичи шли ко мне просто валом, предъявляя московские паспорта. Запишу вас – вы будете пятьдесят девятая!»
Меня поразила и растрогала ее детскость! Детскость большой личности…»
И. Наппельбаум. Угол отражения. Стр. 109
Когда <…> ставили в кино горьковскую «Мать», никому не пришло в голову справиться, как в самом деле одевались участницы революционного движения того времени, и нарядили их в парижские модельки 60-х, кажется, годов. Очень интересно было бы посмотреть, как барышня в таком виде пришла бы агитировать рабочих и что бы они ей сказали. Я пробовала протестовать, но Алеша Баталов, который играл Павла, только рукой махнул: «Ну, это вы одна помните». Почему я одна? (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 338–339.) Поклонник Ахматовой великий режиссер Алексей Герман, благородный сын поклонника Ахматовой писателя Юрия Германа: Дорогая А.А. <…> В русской поэзии были Пушкин, Лермонтов, а теперь есть вы. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 338.) Никаких ошибок в костюмах своих героев не делает, очень тщательно одевает своих героев, очень тщательно выбирает, какие стаканы поставить им на стол и каким звуком дать дребезжать трамваю, но кадр за кадром уводит нас от этнографической робкой корректности в мир выдуманных лично им людей, чувств и историй. Собственно говоря, если б он захотел, он мог бы мистифицировать зрителя, нарочно вводя нереальные, тщательным образом выполненные детали – и зритель оставался бы в плену несуществующего, но реального, как собственная жизнь, мира.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.