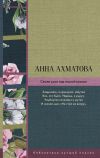Текст книги "Отмена рабства. Анти-Ахматова-2"
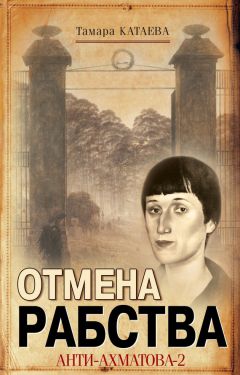
Автор книги: Тамара Катаева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
Эту параллель не надо затягивать, как всякую другую параллель.
И. Бродский
Оставлю ее и только пожалею, что не получилось: не разгадали, не захотели, не смогли – сделать из Анны Ахматовой символ не того, чем она не была – великого поэта, великой души, – а олицетворение великой женственности не во внешнем ее проявлении. Женщина – не мать, не жена, не любовница, а вечно женственная суть и образ. Это тот феномен, который появился в двадцатом веке, разбившийся на множество кинозвезд, топ-моделей – выражающих тот же архетип вечной внешней женственности. Первоисточником, получившим мировую славу, которую она не там искала, могла бы быть Анна Ахматова.
Галина Вишневская по определению челки не носила. И ей казалось, что если бы она была худенькая, не напудренная и без челки, то можно бы было скрыть, что она непорядочная. И было бы не так стыдно и страшно… (А.П. Чехов. Хористка). Вишневская была не из хористок.
Происхождение обеих прозаично. Ахматова придумывает татарскую княжну, монгольскую царевну, островных греков и великого князя Владимира Михайловича, а Вишневская прямо и даже по своей царственности без вызова пишет, что мать ее была цыганка.
О своем даре догадались рано. Трехлетняя Галя пела для гостей из-под покрытого скатертью стола – так казалось театральнее, волшебнее, поприще было намечено конкретное, Аня нашла огромный гриб – И вот тогда я вкусила настоящей славы, Я сказала маме, что на нашем доме будет набита памятная доска. Дело жизни, таким образом, выбралось: «снискание все равно какой известности».
Обе рано вышли замуж первый раз за коллегу по цеху, без большой любви. Расчет Галины был более простодушен – в артели для простоты производственного процесса легче быть замужем за собственным импресарио, Анны – стратегическим, на славу мужа работала потом всю жизнь, чтобы не подумали, что у нее не было самых роскошных вариантов в юности.
Обе были блокадницами – …пришла весна 1942 года, и стали ходить по квартирам искать уже тех, кто остался в живых. Такая комиссия из трех женщин пришла ко мне. «Эй, кто живой?» Слышу – из коридора кричат, а я дремлю и отвечать неохота. «Смотри, девчонка здесь! Ты живая?» – «Живая». Открыла глаза – три женщины возле дивана моего. «Живая». – «А с кем ты здесь?» – «Одна…» – «Одна?! Что же ты здесь делаешь?» – «Живу…» Если б они тогда не пришли – был бы мне конец. (Г. Вишневская. Галина. Стр. 45.)
Ахматова звание это носит потому, что вовремя (неделей раньше) не успела сбежать, потом вывозили на специальном самолете, давали медали, блокадников в Ташкенте презирала, вернувшись в Ленинград и увидев не сцены античных трагедий, а грань, на которую можно поставить человека и даже столкнуть за нее, но смотреть на это (особенно с поджатыми губами) не подобает, – стала ненавидеть.
Вырвавшись из блокады, Ахматова отправилась с почетом в Ташкент, в свое бесславное «война все спишет», шестнадцатилетняя Галя Иванова – в зенитчицы. У Ахматовой возраст был действительно непризывной, но, странное дело, и в годы ее юности, во время Первой мировой, она тоже заслужила упреки в бездействии и трусоватости, обрамленной воинственными стихотворными призывами.
У Вишневской случилось горе – умер первый, в нищете и голоде рожденный ребенок, Ахматова для живого писала «Реквием» – не пропадать же таким редким эмоциогенерирующим ситуациям.
Обе перенесли туберкулез, Вишневская более достоверный.
Обе женщины были очень красивы, и обе использовали красоту по назначению, не закопали свой талант в землю.
Обе были царственны. Ахматову по-царски себя вести научили, она часто трусила и оглядывалась, как самозванка, была очень чувствительна к отпору, Вишневской – если б дать волю, она б запорола разбойников – за дело, конечно!
У Вишневской был реальный, влюбившийся, богатый и знаменитый муж, метавший ей под ноги величье, и славу, и власть, Ахматова жила в чужих семьях и беспардонно приписывала посторонним мужчинам анекдотические passiones.
Семейство Ростроповичей – Вишневских в расцвете лет и удачных карьер, когда на кону было слишком много – приютили в своем доме опального Солженицына, Анна Ахматова не ударила палец о палец в защиту Бродского, потому что перед нею маячила загранкомандировка в Италию.
В Галину Вишневскую был влюблен председатель Совета Министров Булганин. Помог получить квартиру. К Анне Ахматовой, по ее словам, весь мир ревновал Сталин. Начал за нее холодную войну.
Вишневская стала самой молодой солисткой Большого театра. Ахматова – единственным всех пережившим свидетелем Серебряного века. Записала себя в четверку великих поэтов.
Галина Вишневская много работала и за свой талант и работоспособность получила всемирное признание.
Жизнь Анны Ахматовой сложилась иначе. Она построила карточный домик своих желаний и заставила сначала современников, а потом потомков наполнять его реальной силой.
Наследство доброты
«Предыстория» (стихотворение о матери)
И женщина с прозрачными глазами
(Такой глубокой синевы, что море
Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),
С редчайшим именем и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство
Я от нее как будто получила,
Ненужный дар моей жестокой жизни…
Размеры наследств, как правило, сильно преувеличивают. Наследники поджидают фантастических фортун, и завистники, чтоб подогнать базу под свои переживания, тоже уверены в достоверности россказней о сказочном везении. Доброты Анне Ахматовой перепало, однако, судя по всему, немного.
Шапорина как-то говорила об Анне Андреевне при Гаршине, сказала об отсутствии у Анны Андреевны доброты, что та живет только самой собой. (Л.А. Мандрыкина. Сборник «Владимир Георгиевич Гаршин». Стр. 12.)
Очень часто – и другими. Но тут уж о доброте точно речи не идет. Вспомним хотя бы оклеветанную невесту сына.
Гаяна, дочь Елизаветы Кузьминой-Караваевой, матери Марии, коммунистка, вернулась из эмиграции, из Парижа, в Советский Союз. У Алексея Толстого, который соблазнил ее вернуться, ей было очень плохо, она должна была от него выехать и через несколько дней умерла в больнице якобы от тифа, но ведь от тифа так быстро не умирают… Алексей Толстой был на все способен. (А.Н. Варламов. Алексей Толстой. ЖЗЛ. Стр. 474.) Публикатор сопровождает это воспоминание комментарием: на самом деле это такая же ахматовщина… Разрозненным, таким ремаркам дозволяют появляться. Стоит собрать покучнее – закричат: клевета…
[Вячеславу Иванову]…ему разрешено все, вплоть до кровосмешения. (А. Ахматова. Т. 3. Стр. 256.) Сожительствовать (и жениться) с падчерицей (овдовев) – это, возможно, не самое добропорядочное поведение. Но все-таки не кровосмешение. В его личной семье – например, его родные дочери – считали ситуацию нормальной, подлежащей только его личному суду. Но ведь всем сплетницам платок не накинешь…
Борис Пастернак, писавший Сталину в защиту сына Ахматовой, выдвигавший ее на Сталинскую премию, когда она была в немилости, ссужавший деньгами – сам подвергся травле за историю с «Доктором Живаго».
Сказала, что собирается съездить с Ниной Антоновной к Борису Леонидовичу на дачу. «Это будет визит соболезнования, но без выражения соболезнования. Оставлю такси ждать и просижу полчаса. Не более. О его делах ни слова – о погоде, о природе, о чем хочет. Если же его не будет дома, оставлю ему записку, и дело с концом».
Л.К. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1952–1962. Стр. 340
Она считает себя единственной, кто понимает Пастернака. Уровень понимания – о погоде, о природе, о чем хочет – это имеется в виду, что Пастернак будет тараторить, суть его речений будет бессмысленна, ничего нового, никакой тайны она от него не дождется, но готова выслушивать все, что тот захочет выболтать (о его делах говорить не стоит – тогда ведь надо будет заявить свою позицию, объяснять, почему не хочет вступиться за него и прочее). Чуковскую не стесняется. И понимание Пастернака, и оценку понятого, и неудовольствие тем, что ее, ахматовское, бесценное время надо из-за светских условностей тратить на всякие визиты – все Чуковской вываливает.
Представим себе сейчас такой же монолог – Пастернака, собравшегося навестить Анну Андреевну после ЕЕ несчастья (счастья), постановления. Вот он готовится, в компании со знакомым, из приличия навестить ее, опальную. «Это будет визит соболезнования, но без выражения соболезнования. Оставлю такси ждать и просижу полчаса. Не более. О ее делах ни слова – о тайнах, о зазеркалье, о невстречах, о чем хочет. Если же ее не будет дома, оставлю ей записку, и дело с концом». Впечатляет?
[Ахматова]. Так любившая и ценившая архитектуру, научила меня замечать изуродованные надстройками старые дома – и в Петербурге, и в Москве.
М. Ардов. Возвращение на Ордынку. Стр. 31
Архитектуру она знала поверхностно, так, что даже другие дилетанты, просто более знающие, говорили об этом; любила – и того меньше. Естественно – она ведь ничего и никого не любила. Все ее высказывания об архитектуре – негативные! Не люблю Петербург – образы застывшего страдания.
Однажды ей рассказали, что в какой-то компании кто-то предложил тост за А. и Заболоцкий поставил свой бокал на стол: «За А. я пить не буду». Она не прощала таких вещей, хотя если бы он просил прощения, она бы ответила: «Бог простит». (Н. Роскина. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 395.) Знать, Роскина не видела, как отвечает Анна Ахматова на просьбы о прощении, хоть предсмертные.
Со мной он [Заболоцкий] никогда не встречался, потому что мои стихи он люто ненавидел. (В. Франк. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 395.) Это не самая непочтенная причина, чтобы не встречаться. Ахматова люто ненавидела людей – за то, что им просто не нравились ее стихи, или они неправильно понимали причину ее развода, или ошибались в порядке очередности, кто этот развод попросил.
Встречался ли я с его подругой Ольгой Ивинской? Нет? Так вот, жена Пастернака, Зинаида, и его любовница одинаково невыносимы. (И. Берлин. Разговоры с Ахматовой и Пастернаком. Стр. 662.) В момент разговора Ахматовой с Берлиным обе дамы были еще живы. Пастернак – нет. Когда сэр Берлин читал лекцию оксфордским студентам и произносил эти слова, жива была Ольга Ивинская. У нее были сын, дочь, зять. Она считала, что скрасила последние пятнадцать лет жизни Пастернака. Пастернак, несомненно, присоединялся к такой точке зрения и был благодарен ей. Студенты старательно записывают за профессором. Кто просил Анну Ахматову высказаться на данную тему? Какое кому дело до личных достоинств жены и любовницы Пастернака? Если б, напротив, одна была приятнее другой – что это изменило бы в ходе литературного процесса, о котором велась беседа? Исайя Берлин, очевидно, подбирает слова достаточно точно – то ли по памяти, то ли по свежим конспектам, то ли просто по памятной логике разговора. Вы знакомы с его ПОДРУГОЙ? Может быть, знаком. Может, попал под ее обаяние, может, признает ее непризнанной супругой. Нет? Ну так вот эта ЛЮБОВНИЦА…
Иногда, с теми, кто на сравнение с нею претендовать никогда не сможет, она проявляет доброту. Поэтесса Ида Моисеевна Наппельбаум <…> пришла к ней в 1950-е годы, отбыв лагерный срок. Она просила читать стихи, привезенные «оттуда» <…> Она слушала внимательно и даже удивленно, говорила: «Нет, она никогда не смогла бы так написать, если бы не побывала там…» Говорила обо мне «она» прямо в лицо, будто говорила заочно. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 398.) Это она желала показать заинтересованность. Говорит, будто забывшись. Интереса нет, слов, его изображающих, искать не хочет, берет грубоватый, но действенный прием: мэтр рубит правду-матку, трепещущая поэтесса не знает, как и понять. «Она» – это хорошо, значит, она все-таки достойна разговора о себе – Ахматовой. Никогда бы не смогла так написать, если б не побывала там… Но она побывала. Не смогла бы – «так», а по-другому, но тоже хорошо – смогла бы? В чем смысл высказывания Анны Андреевны?
Она презрительно отзывалась и о популярных молодых поэтах, которым покровительствуют советские власти. Один из самых знаменитых из них <…> прислал ей в Оксфорд телеграмму с поздравлением по случаю присвоения ей степени почетного доктора. Я находился с ней рядом, когда принесли телеграмму. Она прочла ее и с гневом бросила в мусорную корзину. (И. Берлин. Разговоры с Ахматовой и Пастернаком. Стр. 660.) Свидетельству И. Берлина нельзя не доверять. Роман Тименчик пишет все, как есть (как всегда, без комментариев, хотя и без них есть от чего раскрыть рот. По свидетельству И. Берлина, телеграмма при нем была брошена в корзину; но, по-видимому, потом вынута. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 697.) Телеграмма прекрасно сохранилась в архиве Ахматовой. Впрочем, …я находился рядом с ней, когда принесли телеграмму… Надо же, какое совпадение. Раз в этом доме не погнушались вытащить телеграмму из корзины для мусора, то сказать: «Аннушка, когда придет тот господин – ты уж занеси телеграмму» – это совсем пустяк. Ахматова лазит по чужим шкафам, по мусорным корзинам в гостинице. В шкаф Пунина залезть послала Леву, покопаться в корзине – тоже, возможно, не сама. Ты зацелованные пальцы брезгливо прячешь под платок – шарившие по мусорным корзинам пальцы тоже можно спрятать от брезгливых взглядов под черную вуаль.
О Евтушенко и Вознесенском: Я восхищаюсь их эстрадным мастерством. Я даже немного завидую им. Но при чем тут поэзия? <…> Брюсова я просто не считаю поэтом. <…> Вяч. Иванова она не любила.<…> А вот недружелюбие к Кузмину, который написал предисловие к «Вечеру» (и немножко на нее повлиял вначале), меня очень удивило, даже огорчило (С.А. Риттенберг. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 490.)
Каждый, естественно, судит по себе. Добрый видит во всех доброту, злой ожидает злодейства, скупец убежден, что все хотят оттяпать у него хоть копеечку, завистник чувствует гомеопатический след зависти в мотивации чужих поступков. Тщеславного урода видит только тот, кто тщеславен (урод, может, и справедливо – красавица Анна Андреевна не могла удержаться, чтобы не передернуть плечами, ведь действительно, у Толстого нос широкий, брови кустом, глаза-бусинки, вихры). И все-то у нее языков не знают, образования не имеют, происхождения низкого. М<ожет> б<ыть>, то, что Бунин не окончил гимназии, и не играло большой роли в его жизни. Но это объяснение очень характерно для А., она чеканила такие изречения, как медали, причем с большой простотой». (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 490.)
О Бунине: Вот всю жизнь меня ругал, всю жизнь меня травил, а из-за меня его косточки не успокоились в русской земле». (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 642.) Так вот что б его не простить, правда? А Бунин всего и «натравил», «наругал» ее за жизнь, что сочинил две эпиграммы (одну – недостоверно) и написал в письме (частном, ей неизвестном): И такую дуру прославили замечательной поэтессой! (Р. Тименчик. Стр. 643.) (О стихотворении «Читая Гамлета»). Ее ругательств Бунину Роман Тименчик набирает на убористую страницу. Да и одного бы, про косточки, хватило, чтобы взлетела чаша весов.
Хотя все-таки, скорее всего, и не из-за нее. Нам ли судить.
– Конечно, она в ту пору была уже старая толстая бабища, так что никакие зефиры и амуры тут ни при чем. Ей просто захотелось дружески побеседовать с человеком, который убил ее мужа и оставил сиротами ее четверых детей. (Л.К. Чуковская. Т. 2. Стр. 55.) Старуха Ланская дожила только до 51 года и до конца не слишком долгой жизни была стройна.
Печатный текст, конечно, не в состоянии передать звука голоса и интонации говорящего, но невозможно не услышать в этой фразе злорадной ненависти.
С. Куняев. Наш современник
Вернемся, впрочем, к суждениям Ахматовой. Непереносимость ею сплетен в свой адрес, ее ненависть, вполне понятная, к примешиванию досужей болтовни в описания ее жизни и анализ биографической подоплеки ее стихотворений прекрасно уживались с ее собственной личной жаждой комментария того или иного произведения классика или современника в контексте той или иной негативной информации из личной жизни писателя.
С. Куняев. Наш современник
Модница
Для чужой славы было спасительное слово: мода.
Царское возвращение Цветаевой в Москву.
Вход в Москву фиксировала обличительница т. н. современного мещанства (журналистка – не названная, по обычаю), описав разговорчивую молодую покупательницу из очереди в книжном магазине: «У нее облегченная мебель, торшер, подвесные керамические вазочки, магнитофон с записью песенок Булата Окуджавы, „абстрактные занавесочки“ <…> Энергичная устроительница „модернизированного уюта“ приобрела сразу десять книжек только что вышедшего однотомника Марины Цветаевой. „Для всех наших, – пояснила она и озабоченно прибавила: – На днях должен поступить в продажу Пастернак, не прозевать бы!..“ Эта публика зачитывалась сначала Ремарком, потом Сэлинджером. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 144.) Модницей, впрочем, была и сама Анна Андреевна, но о ней – нельзя.
Однажды мы с дочкой куда-то уходили, и дочка задерживала меня, долго собираясь. «Вы ведь небось смолоду не красили ресницы?» – воззвала я к Анне Андреевне. – «Я всю жизнь делала с собой все, что было модно», – с некоторым вызовом призналась Анна Андреевна.
М. Алигер. Воспоминания. Стр. 365
Ресничками не ограничась, бежать за всем, что модно, не прекратила до старости. Цветаевское «Избранное» и подоспевший альманах «Тарусские страницы» вызвали к жизни стихотворение-разговор с Цветаевой, «Комаровские наброски», затем расширившиеся голосами Мандельштама (тоже как раз собрались издавать, Анна Андреевна входила в редколлегию, но сама идея издать Мандельштама казалась ей ненужной – «он малопонятен») и Пастернака и получившие название «Нас четверо». (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 144–145.) А мы-то гадали, что вызвало громогласное «Нас четверо!», что помешало раньше взяться за руки с друзьями?
Мода на то и мода, что ей следуют все. Покупательницы – покупают, поэтессы – слагают стихи. А ведь скоро выйдет и Мандельштам! Ахматова сделает все, что в ее силах, чтобы он не вышел: он не нужен, его никто не понимает, но чувствует, что стала слабовата, может не сдюжить, запишем в реестр и его.
В Ленинграде состоялась конференция Европейского сообщества писателей, посвященная проблемам романа. «Я боюсь, что ко мне приедет Сартр. Но, я думаю, меня здесь не найдут. Меня так хорошо научились прятать. Скажут, что я на „Северном полюсе – 6“. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 192.)
«Северный полюс – 6», очевидно, прозвучал, потому что в это время Анна Андреевна работала над сценарием о летчиках. Боюсь, проблематика этой прозы г-на Сартра не заинтересовала бы.
Я спрашиваю о Зигмунде Фрейде. А<хматова> медлит. Потом говорит – скорее как бы самой себе: «Все здания здесь шатаются». Рита переводит дважды подряд и беспомощно смотрит на меня: «Все здания здесь шатаются». Она ничего не поняла. А А<хматова> грустно улыбается.
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 224
В письме 1925 года к ней [Шилейко] вручает ей цитату <…> из той элегии Овидия о борении чувств (Amores, III, XIb). Откуда А<нна> А<хматова>, будто бы не зная источника, а позаимствовав фразу из эпиграфа к роману Габриеле д’Аннунцио «Торжество смерти» <…> взяла эпиграф к «Anno Domini»
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 662
Почему не знает будто бы? Уж действительно всего ли Овидия Анна Андреевна знает наизусть? Если – знает, то почему бы знание свое и не предъявить, обозначив, как это принято в цивилизованном мире, откуда взята цитата? Зачем писать, что чужой эпиграф так понравился, что решила для себя использовать?
Но когда цитата ей даже ПРИСЫЛАЕТСЯ – предположение может быть даже еще худшим. Ахматова оценила вкус д’Аннунцио и использованный им эпиграф взяла и себе, а письмо Шилейки просто не читала. Посмотрела, что он пишет ей личного, а все заумности читать и не стала. Подарком любовника ей вовсе не зазорно было бы воспользоваться – и никто бы не догадался, что это не сама Анна Андреевна всю античную литературу в голове держит.
В письме Шилейки указания на источник тоже нет, но раз нашел он эти строки – значит, прочитал и весь стих, увидел слова, взятые Ахматовой в эпиграф.
Кстати, в самом «вручении цитаты», к которой в примечании дается и очень прочувствованный перевод – (о лице, приближающем к божеству, о глазах, похищающих в плен) (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 662), нет ничего для Шилейки удивительного: У него есть два излюбленных приема <…> – использование длинных стихотворных цитат из древней или старинной поэзии на разных, преимущественно не общеизвестных языках. <…> Длинные фрагменты текстов на разных языках встречаются и в письмах Шилейко к Ахматовой, хотя и в меньшем числе, чем в переписке с Андреевой (второй, ученой, страстно любимой и, в сущности – единственной настоящей женой). Иногда обеим посылаются отрывки одинакового свойства <…> (не надеясь на филологические познания Ахматовой, ей – в отличие от Андреевой – Шилейко посылает не только старофранцузский текст, но и перевод…) (В. Вс. Иванов. Предисловие к книге Владимир Шилейко, Последняя любовь. Стр. 6, 9.)
Модно писать мистификации, буффонады, карнавалы масок. Все, что отрицает традиционные русские формы. Модно, правда, было в начале двадцатого века. Когда в июне 41 г. я прочла <…> первый <…> кусок Марине Цветаевой, она не без язвительности сказала: «Надо обладать большой смелостью, чтобы в 1941 г. писать о Коломбине, Пьеро и Арлекине». (А. Ахматова. Т. 3. Стр. 240–241.) Но ей хотелось напомнить, что она ко всему этому была причастна и она красиво, ритмично и в склад – музыка, музыка! – о них все-таки написала. Сказать нового не удалось.
Стал бешено моден Булгаков, и она – читавшая его еще в тридцатых, с ужасом обнаружившая, что вот, есть другой строй, другая литература, отмахнулась, отмолчалась, было не обнародовано, кто знает, может, пронесет, рукописи бесследно исчезнут, как сгорят. Время вроде бы не поджимало, и в шестидесятых начала выводить «свой» бал у Сатаны: И я не поручусь, что там, в углу, не поблескивают очки Розанова и не клубится борода Распутина. <…> А уж добриковский Маяковский, наверно, курит у камина. Себя я не вижу, но я, наверно, где-то спряталась, если я не я эта Нефертити работы Модильяни… (А. Ахматова. Т. 3. Стр. 267.)
За кузминскую строфу требовала патент себе, за чертовню – тоже. Не Булгакову же!
Я не поручусь, что сценаристы «Маленькой Веры» не читали «Из балета „Тринадцатый год“…Маленькая Вера держит свечку „Ma chandelle est morte“/ Силуэт Коломбины за тюлевой занавеской. (А. Ахматова. Т. 3. Стр. 291.) В застойные времена было много досуга, можно было занять себя тем, что раздобыть «листочки» Ахматовой и вчитываться.
…И.М. Смоктуновский, которого А.А. представляла себе будущим исполнителем в фильме по ее сценарию о летчиках. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 279.) Сценаристка так и пишет в ремарках: Наплыв – Настоящий Игорь (Алеша Баталов) входит… Вася (Смоктуновский)… Соседка… Толстая женщина – все как в настоящем кино. Пастернак Цветаевой: Ты полюбишь колхозы! (Цветаева М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 7. Стр. 552) – разговор с П. в Париже – наверное, в ее письме.) С Цветаевой все могло случиться, а вот Ахматова действительно, без экзальтации и надрыва, очень ловко и быстро подхватила моду (тот, кто слишком много рассуждает, никогда не может быть по-настоящему «актуальным») на кино и сценарии, на физиков и летчиков, на Смоктуновского и Райкина. Вот Андрею бы Тарковскому, раз он был такой поклонник Ахматовой, за этот сценарий было и взяться.
Кино – самое массовое искусство, «из всех искусств…». Ахматовой все подвластно. Вот и сочный народный язык.
– И как она Бога не боится, ведь грех какой.
– Убивица! Своего ребеночка…
– Вы слышали, наш-то – герой! Бюст ставить будем посередь сквера у вокзала.
– Надо же!
– А как же Васютка?
– А она его сплавила. Полковника ждет – губа не дура.
А. Ахматова. Т. 3. Стр. 296
На «сценарий» имеется и серьезная критика.
«О летчиках, или Слепая мать» – незавершенное произведение (три страницы), попытка киносценария типа психологического детектива. Современный кинематограф с его возможностями ретроспекции, «наплывов», ухода в будущее, потоком сознания и проникновения в глубины подсознательного привлекал Ахматову как художественная система, близкая условно-ассоциативному мышлению поэзии. <…> Разрозненные наброски незавершенного киносценария были написаны после 31 марта 1963 г. В это время (до? после? в день 31 марта?) Ахматова была занята трагедией «Энума Элиш» и театрализацией «Поэмы без героя» (результаты занятий, правда, не впечатляют), оставив работу над киносценарием. (А. Ахматова. Т. 3. Стр. 732–733.)
Чрезвычайно интересно отношение Ахматовой к главной книге Булгакова – роману «Мастер и Маргарита». Уже в октябре 1933 года она слушала у Булгакова отрывки из романа в авторском чтении. Елена Сергеевна записала тогда: «Ахматова весь вечер молчала». Ведь обычно Ахматова говорила с Булгаковым о Пастернаке, Мандельштаме, о своей книге и несчастьях, то есть о своей литературе. И вдруг она поняла, что иная, новая литература не только возможна, она уже есть и ничуть не уступает литературе прежних лет. Поэтесса сразу познакомилась с одной из главных книг этой литературы. На нее обрушились непривычные образы романа. <…> после смерти Булгакова, в ташкентской эвакуации, она перечитала полученную от вдовы писателя рукопись «Мастера и Маргариты», нарушила величественное молчание и сказала актрисе Раневской: «Фаина, ведь это гениально, он гений». <…> Она задумалась серьезно и надолго. (В.И. Сахаров. «АА и МБ». Ахматовские чтения. Вып. 1. Стр. 205.)
Безошибочно определив респектабельность Кафки, Джойса, Пруста, она почему-то поддержала и Булгакова.
Объяснения могут быть разными.
Во-первых, предчувствовала, что «Мастер и Маргарита» станет модным, бери выше – культовым (на самом деле этим словом обозначается понятие более скромное, а именно – «очень модный»). Но – это во-вторых – Анне Андреевне и самой роман понравился чрезвычайно: вкус был не там, где Джойс и Кафка – а все-таки среди описаний писательских ресторанов и служебных тягот патрициев. А в-третьих, – и это перечеркивает все вышесказанное, но тоже возможно – Анна Андреевна снайперской интуицией чувствовала, что роман Булгакова – вовсе не ровня титанам литературы ХХ века, будет просто хитом прекрасного традиционного, талантливого, вкусного и яркого, но местного значения писателя – и о нем можно, не вонзая тесак себе в сердце, сказать: «Он гений, Фаина».
Хотя как знать. Она признавала только общепризнанное (если не считать возведение в ранг гениев – каждого в своей сфере – Гумилева, Лурье, Берлина, Наймана). Она обожала и изучала Пушкина, потому что это была самая процветающая отрасль литературоведения – но не интересовалась Баратынским. Была достоверно проинформирована, что Пруст, Кафка, Джойс – главные герои мировой литературы ХХ века. А с Булгаковым ей предоставили разбираться самостоятельно. В меру собственного вкуса.
Бродский: Этот господин производит на меня куда меньшее впечатление, чем кто-либо <…> из известных русских прозаиков. <…> Что касается евангельских дел, то это у него в сильной степени перефраз <…> вообще литературы того времени. (Книга интервью. Стр. 605.) <…> Это все (Булгаков, Пильняк, Замятин, Бабель) были совершенно замечательные стилисты, но литература – это не только стилистика, но еще и субстанция. С субстанцией у них дела обстояли <…> несколько менее существенным образом. (Книга интервью. Стр. 347.)
Если б при Бродском, нарушив величественное молчание, она сказала бы: «Это гениально, он гений, Иосиф» – и задумалась бы серьезно и надолго, он, боюсь, откровенной насмешкой ее из задумчивости бы вывел. А впрочем, раз так все мирно у них было до конца – может, и не стал бы рассеивать ее иллюзий.
Есть вечная молодость души, есть инфантилизм. Кого только Ахматова не пыталась поразить новизной и глубиной своих очень модных воззрений: дохристианская Русь, сценарии, диссертации. Вскоре, приехав на дачу, я познакомилась с женой Солженицына – Наташей Решетовской. <…> Бывает такой тип женщин в России, тип вечной невесты из провинциального дворянского гнезда <…> В тот вечер мы сидели за столом, увлеченные беседой (с самим Солженицыным!), – и вдруг Наташа упорхнула от нас в комнату рядом и бездарно заиграла на рояле что-то Рахманинова, Шопена, нещадно колотя по клавишам… Александра Исаевича передернуло, он опустил глаза, как бы стараясь сдержаться, потом посмотрел на Славу: «Ну, уж при тебе-то могла бы и не играть, а?» Я тогда подумала, что не такая уж беда, если женщина, из желания быть «интересной, в присутствии знаменитого музыканта садится за рояль музицировать. Но если мужу ее от этого становится неловко – другое дело. (Г. Вишневская. Галина. Стр. 429.)
В этом стихотворении с «двойным дном», написанном, или, во всяком случае, датированном восьмым августа 1945 года, днем известия о Хиросиме… (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 103.):
там все – и старички с негетевской судьбой,
шарманщики, и менялы, и букинисты…
…и выли трубы, зазывая смерть…
…и очертанья Фауста вдали…
Когда какой-то странный инструмент
Предупредил, и женский голос сразу
Ответствовал, и я тогда проснулась…
Это к тому, что Жаль, что Гете не знал о существовании атомной бомбы: он бы ее вставил в «Фауста», там есть место для этого. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 103.) Ахматова «Фауста» и дописывает. Читать нельзя. Поставить дату – с большим удовольствием. Вот потомки провидчеству удивятся-то!
Анна Ахматова очень современна. Она пишет о летчиках, о ядерщиках, о космонавтах.
В больнице А.А. много занималась дописыванием «Поэмы без героя». Опять ее поэтическая урожайность вторила обнадеживающим переменам «в верхах». <…> Волею случая тема запретной русской поэзии на некоторое время связалась с темой советских космических успехов, когда астроном И.С. Шкловский, откликаясь на запуск ракеты к Венере, назвал в центральной печати стихотворение Гумилева <…>. А.А. стала выписывать «космические мотивы» в стихах Гумилева, «отсутствующего героя своей поэмы», и в одной из больничных записей назвала свою поэму «опытной космонавткой», которая «так вот и спустилась с неба». (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 145–146.)
Балетом она занималась, когда было модно. Переделывала Блока в балет – когда можно было небрежно сказать: Дягилев поставит в Париже.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.