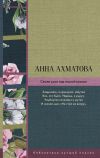Текст книги "Отмена рабства. Анти-Ахматова-2"
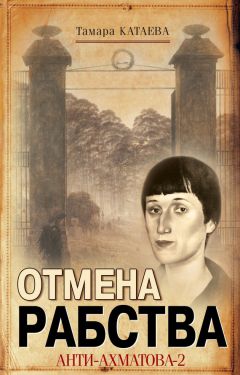
Автор книги: Тамара Катаева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Слава
Сокрушается о Солженицыне. Славы не боится. Наверное, не знает, какая она страшная (ну, уже недолго осталось только одной Анне Андреевне это знать. Да и к СТРАХУ можно привыкнуть. Так бывалые пассажиры учат аэрофобов: «А ты не думай – и не будет страшно») и что влечет за собой. (Записные книжки. Стр. 589.) С тех пор, как Анна Андреевна обеспокоенно записывала свои предвидения, Солженицын прожил почти пятьдесят лет. Если славой не любоваться, забыв все дела, она, оказывается, ничему не мешает.
Запись А.К. Гладкова: Вернулась А.А. Ахматова, объездившая всю Италию (говорили так), измученная, усталая, объевшаяся славы. (Летопись. Стр. 667.) Это ведь не по-доброму? Это ведь о том, кто ел, жаждал, алкал, насыщался, набивал утробу, запихивал в себя больше, чем мог, – но не мог остановиться?
Вводя имя автора «Петрушки» в наброски к «Поэме», А.А. поделилась с ним мандельштамовским комплиментом (или он поделился с ней, вернее – она одолжилась у него дважды: хорошо сказав мандельштамовскими словами за своей подписью и напомнив читателям бессмертный мандельштамовский комплимент), души расковывает недра:
…театр Мариинский
Он предчувствует, что Стравинский,
[С мировою славой в руке]
Расковавший недра души…
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 542
Анна Андреевна боялась Евтушенко, Ахмадулину, Вознесенского. Вознесенскому не разрешила присутствовать на наградной церемонии в Оксфорде, Ахмадулиной три раза отказала принять ее под надуманным предлогом, Евтушенко – всех принимала, его – не буду.
Слава всегда привлекала ее, интересовала смолоду, с первого сборничка. После войны она узнала про новый феномен, которого не могло быть в мире без средств массовой – всемирной – коммуникации, – мировую славу. Эта мировая слава кочует из стихотворения в стихотворение, из разговора в разговор – с насмешкой, с издевкой, с озлоблением. У Евтушенко слава, мировая – в той степени, какая вполне бы удовлетворила А.А., – была. Что она могла преподать ему? Всех принимала – его не приняла. А чем он хуже тех – ведь она же общалась, принимала и наносила визиты – даже тем, которых всем аттестовала как стукачей (Наталья Ильина, С.К. Островская). Общалась с такими, о которых с содроганием пишут ее совестливые друзья. Евтушенко был их нисколько не хуже, разве что доставлял совершенно разъедающие порции зависти. Оставалось подтравить этим маринадом его: если три раза позвонит «через две недели» – можно будет подавить его вживую при свидании.
О ПЕРЕДОВЫХ эстрадных поэтах: «Я всех пускаю. Только Евтушенку не пустила. Сказала, чтобы позвонил через две недели» (А. Сергеев. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 548.) Она его боялась – он был чересчур в силе. С Бродским поначалу не бодалась, никаких стихов. Только потом, когда приручила, – стала показывать величие. С Евтушенко боялась, что тот времени терять не станет и сразу сцепится – а ей будет не по зубам.
Слушая бемоли
«<Гумилев> говорил мне, что не может слушать музыку, потому что она ему напоминает меня».
А. Ахматова. Т. 5. Стр. 90
Она записывает это в 1962 году. Раз «помнит» такие слова, должна помнить, что в музыке ее муж Гумилев был полный профан. Ср. в воспоминаниях И.М. Наппельбаум слова Гумилева: «Что такое музыка? Большой шум!» (Нева. 1987. № 12. Стр. 200.)
Георгий Иванов, которому доверия нету – но рассказанный им анекдот, вероятно, как-то гумилевскую позицию отражает:
«Гумилев утверждал, что музыка вся построена на нутре, никаких законов у нее нет и не может быть. Нельзя писать о поэзии или живописи, будучи профаном. О музыке же сколько угодно. Я усомнился.
– Хочешь пари? Я сейчас заговорю о Шопене с Б. (известным музыкальным критиком), и он будет слушать меня вполне серьезно и даже соглашаться со мной.
– Отлично, только зачем же о Шопене? Говори о каком-нибудь модернисте. Ну, о Метнере. (Он был модернистом только по понятиям говорившего, ибо стилистика и структурное мышление Метнера было целиком в девятнадцатом веке.)
Гумилев заставил меня побожиться, что Метнер действительно существует. Он был настолько далек от музыкальных дел, что думал, что я его дурачу.
Во «Всемирной литературе» Гумилев завел с Б. обещанный разговор. Он говорил о византийстве Метнера (Б. спорил) и об анархизме метнеровского миропонимания (Б. соглашался). В конце беседы Б. сказал:
– Николай Степанович, а не написали ли бы вы нам для «Музыкального современника» статейку, уж не поленитесь – очень было бы интересно».
В браваде Гумилева было много нарочитости. Музыка, конечно, занимала известное место в его лирическом универсуме. Она для него отождествлялась с женственностью.
Б. Кац, Р. Тименчик. Ахматова и музыка
Логично предположить, что и о женственности у него такие же профанные представления. Не зря его имидж – любовника-победителя. Победитель не может без славы, победы – для славы, а уж всякие тонкости с женственностью здесь не так уж и важны. Вот из двух вещей – музыки, о которой он знал только то, что некоторые люди ею интересуются и много о ней говорят, и женщины, в женственности которой его занимали, последовательно, привычка к победам самолюбия и, затем, ее публичный статус – он и создал свою знаменитую фразу.
Столько же допустим вариант, что фразу Анна Андреевна выдумала – у нее кто только ее голосом не говорит.
Кочуя по апологетическим статьям, она вводила своего читателя в заблуждение – и по поводу любви к себе, и по поводу значения музыки в системе ценностей Гумилева. Какая бы причина того, что он не мог слушать музыку, ни была: напоминала она ему бывшую жену или какую другую даму – не важно, музыки он все равно не любил, прекрасно мог без нее обойтись. Равнодушна к музыке была и Ахматова и поначалу не скрывала этого:
…сказывалось влияние Гумилева, бравировавшего своим равнодушием к музыке.
Б. Кац, Р. Тименчик. Ахматова и музыка
В чем Ахматова разбиралась – это в иерархии. Ставшие ей известными интересы Осипа Мандельштама она сразу распознала как более весомые, чем самодовольное невежество Гумилева.
Лурье вспоминал о его [Мандельштама] отношении к музыке, возможно, противопоставляя его не названной прямо Ахматовой – такой, какой Лурье знал ее в 1914–1922 годах: «<…> живая музыка была для него необходимостью. Стихия музыки питала его поэтическое сознание, как и пафос государственности, насыщавший его поэзию». При этом очень существенно упоминание <…> о том, что разговоров на собственно музыкальные темы Мандельштам в 1910-е годы не вел: «Мандельштам страстно любил музыку, но никогда об этом не говорил. У него было к музыке какое-то целомудренное отношение, глубоко им скрываемое». (Б. Кац, Р. Тименчик. Ахматова и музыка). А не так, чтобы при первых звуках – заплакала – что действительно, не слишком целомудренно, даже наоборот – будто кто-то неуместно раскрылся.
Ахматова очень рано начала высоко ценить Мандельштама как поэта и внимательно присматриваться к его внутреннему миру.
Она внимательно составляла себе еще в десятых годах «незыблемую скалу» культурных ценностей, а потом и государственная политика в области пропаганды классической музыки закрепила назначенное ею самой. Наверное, человек без музыки и сам не может – но для Анны Ахматовой директивы были решающи. Иосиф Бродский отметил, что и ее пушкинские студии велись, потому что это была единственная процветающая отрасль литературоведения, а ведь здесь был и ее личный, более искренний интерес. А уж взять под козырек по отношению к рассудочно и умозрительно воспринимаемой музыке – это легче легкого.
В последнее десятилетие жизни Ахматовой музыка становится неотъемлемой частью ее повседневного существования: на страницах многих черновиков мы встречаем не только записи о прослушанных пластинках, но и расписание музыкальных передач.
Б. Кац, Р. Тименчик. Ахматова и музыка
…Анна Ахматова, человек совершенно глухой к музыке…Георгий Адамович.
Б. Кац, Р. Тименчик. Ахматова и музыка
…о музыке писать, будучи профаном, можно сколько угодно.
Б. Кац, Р. Тименчик. Ахматова и музыка
Начинает записывать свои суждения о музыке и Ахматова.
Слушаю до-минор Моцарта. Сен-Санс. Лебедь. Вечерняя серенада Шуберта. Лист: фа-минор.
Летопись. Стр. 526
От такой записи можно испытать легкий шок. Уж не отслушивает ли человек в силу каких-то особых причин все произведения Моцарта, написанные в до-миноре? Потом, имея досуг, возьмется за – соль минор, ре-минор, ля-минор и далее по квинтовому кругу?
Слушать «до-миноры Моцарта» довольно затруднительно. В этой тональности им написано порядка 100 произведений. Одного вечерка у патефона не хватит.
Впрочем, дальнейший репертуар этого концерта по заявкам трудящихся такое предположение полностью снимает. После «Лебедя» и «Вечерней серенады» слушателю, на которого рассчитан дивертисмент, неплохо бы прокрутить полонез Огинского или бессмертную Fur Elise.
Ну а Моцарта она слушает, скорее всего, фантазию для фортепиано – ее чаще всего крутят по радио по праздникам, самый растиражированный моцартовский «до-минор», или вторую часть концертной симфонии для альта и скрипок с оркестром. Или фортепианный концерт, хотя вряд ли – здесь этот самый слушатель «Рабочего полдня» может соскучиться.
Та же самая история с Листом: скорее всего, какой-нибудь известный фортепианный этюд.
Хотя, при чувствительности Анны Андреевны, как знать, может, именно тональность являлась для нее самым важным в музыкальном произведении? Не форма, не инструментовка, не характер, не история, не исполнитель – а именно тональность. Особо продвинутые в музыкальном отношении личности могут увидеть у тональностей самих по себе какое-то неведомое миру простаков собственное лицо, свою характеристику. Или бывает, например, цветной слух – как у Скрябина…
Короткий, чем-то похожий на смычок в Ad<agio> Viv<aldi> разговор о Риме и Архангельском крае.
А. Ахматова. Т. 6. Стр. 313
Пиццикато в адажио – Вивальди написал их миллион, каждое не без пиццикато, в нашем случае, очевидно, речь идет о массово прослушиваемом адажио из «Времен года», – действительно, настолько выразительны, что хозяйственный слушатель сразу приметит, что это готовая метафора для чего-то пунктирного, короткого. Это то, что лежит на поверхности, важно только держать это в памяти и не перепутать названия. Впечатление мышления музыкальными образами гарантировано.
Прелюдия и фуга (играет Л. Ройзман). Вот он, колокольный звон из 17-го века. Как все близко! – (и страшно…).
А. Ахматова. Т. 6. Стр. 325
Страшно у нас все. И ведь пугаются же!
Боже мой… Сама Чакона! Играет Игорь Безродный.
Записные книжки. Стр. 644
В больнице. Вчера ночью слушала «Наваждение» Прокофьева. Играл Рихтер. Это чудо, я до сих пор не могу опомниться. (Записные книжки. Стр. 708.) Их четыре женщины в палате, к тому же она серьезно глуховата, так что радио не работало вполсилы.
Адажио Вивальди. 29 авг. Успенье. (Записные книжки. Стр. 539). Успенье у нас как будто всегда 28-го.
Расписание радиопередач с классической музыкой. Не ленится переписывать. Не достаточно ли записать сетку передач, чтобы подстраиваться под нее, раз уж такая тяга к самообразованию? Так ли уж обязательно записывать полные названия произведений, которые будут транслироваться? Ведь она их не знает, чтобы предвкушать и готовиться. Тем не менее «листки из дневника» – пестрят. Для человека, страдающего аграфией настолько, что ни малолетнему сыну, воспитывающемуся у родственников, ни ему же в тюрьму не ответить – более чем похвальное усердие.
25 декабря. Сейчас <…> слушала струнный квартет fa minor Бетховена!!! (Летопись. Стр. 571.) Для ее стиля в конце предложений больше подходит ставить точки или, конечно, горькие многоточия. Институтские восклицательные знаки, разумеется, говорят о пылкой восприимчивости Анны Андреевны, но уровень трагичности немного снижают.
Тональность тоже корректнее было бы написать по-русски, или – тут все не для дилетантов – f-moll.
25 августа. 22.30. Бетховен, VII симфония. Правильнее – 7-я.
Моцарт: Соната для двух фортепиано, слушала 2 дек. 1961 в 8 вечера. Наконец-то более развернута запись о музыкальном произведении, о Моцарте: «2 дек. 1961 в 8 ч. вечера». Вторник ли, четверг? Знаток Ахматовой сразу увидит связь с ее поэзией: Я сошла с ума, о мальчик странный,/ В понедельник, в 3 часа, или Я пришла к поэту в гости./ Ровно в полдень, в воскресенье.
Слушаю: Моцарт. Конц<ерт> la-maj<eur> для скрипки с оркестром. (Летопись. Стр. 526.) Если она записывает все, что слушает – а регистрационный характер записи говорит именно об этом, – то музыки слушает она немного. Тональность называет по-французски – наверно, имеет в своем распоряжении для слушания французскую пластинку (по-французски партитуры расписывают только французы разве что иногда – партитуры французских композиторов, чтобы подчеркнуть их национальную принадлежность. Весь остальной мир, кроме было введших в моду немецкий язык немецких же романтиков – пользуется для записи музыки Моцарта итальянским, как и сам автор). Переписывая этикетку на пластинке, Анна Андреевна сократила по своему разумению правильное название произведения. Правильно – Концерт № 5 для скрипки с оркестром ля-мажор. И самое корректное – написать № по Кехелю, раз уж больше о Моцарте поэту сказать нечего.
В записных книжках А.А. нет записей о музыке, которую она бы услышала случайно, когда не знала, что это за произведение, но звуки ее потрясли. Ведь она же часто слушала музыку по радио – случайно услышала Вишневскую – разве не могло случиться, что услышанная музыка, при всей необъятной музыкальной эрудиции Анны Андреевны, была бы все-таки ей неизвестной – вот услышала, понравилось – а что это было? Как жаль, что не знаю… Нет, если Анна Андреевна что-то слышит, то непременно знает – ми-минор это или ля-мажор было. И уж конечно – кто играет. Музыка, которая не прописана в программе теле– и радиопередач, для нее не существует. Да и рискованное это дело, можно попасть впросак – похвалить за глубину или «страшность» какую-то пьесу – «Это сам сатана!» или что-то в этом роде, – а окажется какой-нибудь Лятошинский.
Из дневника: А сейчас слушаю Шотландскую симфонию Мендельсона, где мелькает образ той же несчастной королевы. (А. Ахматова. Т. 5. Стр. 327.) Все верно, он мелькает во всем шотландском, если о нем надо сказать многозначительно.
III соната Прокофьева. (А. Ахматова. Т. 6. 291–340.) Нумерацию сонат также ведут «простыми», арабскими цифрами.
…в программе воспоминаний В.С. Срезневской об Ахматовой значится: «Мраморный дворец. <…> Белые ночи и Бетховен». Из Примечаний. «Воспоминания», как известно, надиктованы Анной Андреевной. Отдельные, самые эффектные куски написаны рукой Ахматовой, как бесстрастно отмечают комментаторы – «от имени Срезневской».
Музыкой полна жизнь.
В вошедшем в стихоряд транзисторе тем летом была особая надобность. Купленная Михаилом Ардовым рижская «Спидола» стала для А.А. «наглядным доказательством того, что весь мир пронизан радиоволнами и беззвучия как такового не существует». Я помню, как А.А. произнесла: «Я больше ни одного слова не напишу о тишине» (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 269). Мысль какая-то… не для поэта. Для школьника, идущего после уроков домой и на досуге обдумывающего пройденную на физике тему. В голову приходит: вот, весь мир пронизан радиоволнами, я иду между радиоволн, я пробираюсь через них, как в густом лесу… Школьник так класса шестого-седьмого.
У «Поэмы без героя» есть видимая, явная всем сторона, есть и другая, тайная…слушая «Другую», т. е. слушая Время… (А. Ахматова. Т. 3. Стр. 242–243.) Анна Андреевна обрывает себя сама, не в силах продолжать. Ну, на такой ноте действительно неизвестно, чем заканчивать. Примечание: «Другой» <…> Ахматова называла музыку, изначально, по ее утверждению, звучавшую в поэме, подтекст, переходящий в текст по мере развития внутренней музыкальной темы (А. Ахматова. Т. 3. Стр. 216). О музыкальности «Поэмы без героя» – вернее, «музыкальность» – слишком сниженного порядка слово – о «музыке», которой каким-то особым образом «Поэма» сама является, – существует бесконечное количество ахматовских отрывочных, исступленных, прямо-таки не совсем нормальных заклинаний. На самом деле от музыки здесь только то, что в строфике «Поэмы» (заимствованной у М. Кузмина, в чем она не признавалась), есть соответствующий ей четкий ритм и самой формой, а также фонетикой русского языка данная мелодичность.
Но, во всяком случае, ясно, что быть лично причастной к музыкальному искусству, войти в круг музыкантов, как вошла она к пушкинистам, ей очень сильно хотелось.
Почти не бывало случая, чтобы, придя ко мне, Анна Андреевна не попросила музыки <…>. Ей достаточно было нашего убогого проигрывателя и заигранных пластинок.<…> И почти как правило, чтобы играл Рихтер. Он ее не только восхищал как музыкант, но и как личность интересовал ее чрезвычайно; она меня часто о нем расспрашивала, зная о нашей давней дружбе. (В. Виленкин. В сто первом зеркале. Стр. 72.) Никто не был ее другом – ни Рихтер, ни Юдина, ни Галина Вишневская, ни Прокофьев, ни Стравинский (когда он приехал в Советский Союз, Анна Андреевна всего лишь раздраженно отметила, что не была знакома с его женой, «мадам», а ведь это был ее круг в обществе начала века), ни Шостакович, никому из них не звонила она с требованием прийти немедленно и спуститься вниз купить ей газету, ни с кем не пила пиво и никому не читала стихов: Те, кого и не звали, в Италии…
Честный труженик, выдающийся врач Гаршин дружил с Шостаковичем. В таланте врача и музыканта есть сходство. Они не поют таинственным песенным даром, они обязательно должны серьезно учиться, – и гуляка праздный учится с самых нежных лет, тогда они и становятся гениями. Так они воплощают заповедь о труде в поте лица.
Она много под конец жизни работала над повышением рейтинга Николая Гумилева, чтобы возвысить свою позицию, по той же причине вспомнила и об Артуре Лурье.
В прозаических ремарках к драме «Пролог», написанных от лица некоего «композитора», Ахматова высказалась об «апокалипсической судьбе» (как точно сказано!) неназванного композитора, за которым недвусмысленно угадывается Лурье: «Кажется, что всё (всё! всё!) общество разделилось на две равные части. Первая вставляет его имя в самые блистательные перечисления, говорит о нем слова, или, вернее, сочетания слов (а ведь можно поспорить – что вернее: «слова» или «сочетания слов»), не знающие равных; вторая считает, что из его попыток ничего не вышло… Tertium quid, которое неизбежно образуется при разделе на две равные части, пожимает плечами и – tertium quid всегда отлично воспитан – спрашивает: «Вы уверены, что когда-то был такой композитор?» – и считает его чем-то вроде поручика Киже» (Р. Тименчик). Это ее хвалёная – самохваленая – самоирония. «Само» – в описании бывшего любовника – потому что она щедра как к себе самой, когда лощит образы СВОЕГО изысканного окружения.
Я спросил: встречались ли на ее жизненном пути гениальные люди?
– Шаляпин, – ответила она не задумываясь. – Во всех петербургских гостиных и салонах без умолку говорили о Шаляпине. Из какого-то глупого снобизма (именно так Анна Андреевна и выразилась. – Е. Д.) я на его спектакли и концерты не ходила. В 1922 году Шаляпин уезжал за границу на гастроли. И меня убедили пойти на прощальный спектакль: «Больше его не увидишь». Давали «Бориса Годунова». Шаляпин появился на сцене, еще не начал петь. Только повел плечом, глянул царственно – и сразу стало видно: гений». (Е.С. Добин. Поэзия Анны Ахматовой. Облик поэта.)
Понятно.
В автобиографическом очерке Пастернака «Люди и положения» есть эпизод из его раннего детства, о котором он рассказывает, предварительно процитировав книгу Н. Родионова «Москва в жизни и творчестве Л.Н. Толстого»: 23 ноября <1894 года> Толстой с дочерьми ездил к художнику Л.О. Пастернаку <…> на концерт, в котором принимали участие жена Пастернака и профессора Консерватории скрипач И.В. Гржимали и виолончелист А.А. Брандуков. Маленький Боря в тот вечер видел Толстого. Разумеется, у А.А. был свой вариант (совсем непохожий) эпизода, рассказанного Пастернаком в его автобиографии. Рассказывала она его так… (Л. Гинзбург. Ахматова. Стр. 139.)
Собственно, разительного несоответствия в сюжетах личного воспоминания Пастернака и только на собственном недоброжелательном воображении построенного рассказа Анны Ахматовой нет. В доме музицировали, ребенок проснулся, увидел гостей. Среди них был расчувствовавшийся старик. Все так – отсутствует только музыка (в версии Ахматовой). В воспоминаниях Пастернака главное – какое впечатление произвела на него музыка, он описывает свое впечатление от игры струнных. Вероятно, играли знаменитое трио <Чайковского>. Ахматова трио этого, очевидно, не знала. Во всем мире на камерных концертах часто исполняются трио различных композиторов, и считается это легким услаждающим времяпрепровождением. А знаменитые трио русских композиторов, Чайковского и Рахманинова, – так сложилось, – это какой-то тяжелый, трагический, мрачный и величественный жанр. Для небольших помещений, где обычно играют камерную музыку, где почти интимная атмосфера, открытые платья, – довольно неуместный характер. Русских трио в мире обычно не играют. Играют по русским домам. Записанную Родионовым ночь я прекрасно помню. Посреди нее я проснулся от сладкой щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. <…> Отчего же я плакал так и так памятно мне мое страдание? К звуку фортепьяно в доме я привык, на нем артистически играла моя мать. Голос рояля казался мне неотъемлемой принадлежностью самой музыки. Тембры струнных, особенно в камерном соединении, были мне непривычны и встревожили, как действительные, в форточку снаружи донесшиеся зовы на помощь и вести о несчастье. (Б. Пастернак. Люди и положения.) Анна Ахматова по прочтении пастернаковских воспоминаний ни в какие такие чувства не поверила и разозлилась. Все было совершенно не так. Не было никакой музыки, никакого божественного впечатления, никаких струн по нервам и прочего. Смысл всего – «Боренька знал, когда проснуться», – добавляла Анна Андреевна. (Л. Гинзбург. Ахматова. Стр. 139.)
Что Толстой заплакал (как насмешничала она) – так и сама Ахматова: заплакала при первых звуках «Марсельезы».
Начинающий поэт Александр Кушнер преподносит ей свою первую книгу с надписью «Моему любимому поэту Анне Ахматовой. А. Кушнер». Надпись оценена. Ахматова раскрыла книжку, прочла надпись, сказала: «Вы хорошо написали». Какой молодому поэту извлекать урок? На всякий случай он великие слова записывает. Она продолжает учить: Но мне было сделано замечание: «Вы хорошо написали, но почему наискосок? Так только тенора пишут». (А.С. Кушнер. У Ахматовой. Ахматовские чтения. Вып. 3. Стр. 136.) Тенора – это очень, очень плохо, это поклонницы, контрамарки, корзины цветов – Александр Блок, одним словом. Тенора, впрочем, бывали разными. Галина Вишневская, например, драматическим сопрано, стояла на одной сцене с тенорами в те времена, когда успех значил вовсе не овации курсисток и подписки от нижегородских купцов: успешным давали ордена, Государственные премии и назначали народными депутатами. Анна Андреевна была само внимание. К тому же Вишневская была и женщиной несуетливого королевского формата – и Ахматова, услышав ее пение единожды в жизни, по радио, воспользовалась предлогом и написала трескучее банальное стихотворение.
Ташкентские встречи с музыкантами (среди них необходимо назвать и игравшую для Ахматовой ленинградскую пианистку И.Д. Ханцин, отметившую, что Ахматова «музыку понимала по-своему»), видимо, существенно активизировали интерес поэта к музыке.
Б. Кац, Р. Тименчик. Ахматова и музыка
Была знакома с Г.Г. Нейгаузом, который произвел на нее большое впечатление своей игрой и рассказал ей «все об этой сонате». (В. Виленкин. В сто первом зеркале. Стр. 73.) С которой она написала стихи (сама придумать впечатление о музыке не в состоянии). Такие мужья доставались «Зине».
И ведь откуда-то взялись злые языки, утверждавшие, что говорила она о музыке только с чужих слов.
Некоторое время она говорила о музыке, о величии и красоте трех последних фортепианных сонат Бетховена. Пастернак считал, что они выше, чем его посмертные квартеты, и она была с ним согласна. Все ее существо отзывалось на эту музыку с ее внезапной сменой лирического чувства внутри частей. Параллели, которые Пастернак проводил между Бахом и Шопеном, казались ей странными и удивительными. Вообще, ей было легче говорить с ним о музыке, чем о поэзии». (Б. Кац, Р. Тименчик. Ахматова и музыка.) Что она может сказать о сонатах ему, Пастернаку, который прожил, всю жизнь слушая музыку, выросши при матери-музыкантше, собираясь стать композитором, учась у Скрябина, женившись на пианистке, продружив всю жизнь с Генрихом Нейгаузом, имея пасынком Стасика Нейгауза, лежав в гробу под игру Юдиной и Рихтера? Это – его консерватории. Ее – репертуар Бродячей собаки, наставник – недоучившийся студент Петербургской консерватории Артур Лурье, слушание Седьмой симфонии Шостаковича в первом ряду рядом с Алексеем Толстым и Тимошей Пешковой. ГОВОРИЛА о музыке, как научил ее Гумилев и послушав, что скажут другие. Что она говорила Пастернаку о Бетховене? Бетховен – это страшно. Это – сон во сне. Он гонится за тобой. При первых звуках – заплакала.
И наконец, как известно, на склоне лет Ахматова стала писать балетное либретто по поэме. По-видимому, первая фиксация этого замысла обнаруживается в прозаическом наброске «Вместо предисловия (к балету „Триптих“)», снабженном эпиграфом из Апокалипсиса: «Ангел поклялся живущим, что времени больше не будет». (Б. Кац, Р. Тименчик. Ахматова и музыка.) Чем бы еще украсить балетное либретто? Его первую фиксацию? Что ж тогда останется для второй?
…балет в России всегда существовал скорее для экспортного потребления. А внутри страны балетом увлекались очень немногие, составляя при этом изолированный, а для многих невероятно эксцентричный островок. (С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. Стр. 296.) Именно то, что нужно.
Балетный замысел Ахматовой включал и еще одну ассоциативную сферу, связанную с музыкальными впечатлениями 1910-х годов. Это линия «башенной» (то есть задуманной и разработанной на «башне» Вяч. Иванова) «языческой Руси»: «Городецкий – „Ярь“ – Стравинский – „Весна священная“ – Толстой – „За синими реками“ – Хлебников (идеолог) – Рерих, Лядов, Прокофьев». Предполагалось, что в балете по «Поэме без героя» художники этой ориентации пройдут в «хороводе».
Б. Кац, Р. Тименчик. Ахматова и музыка.
Кому было дело до шуток 10-х годов – людям той Европы, которые будто бы ждали какого-то реквиема?
Свой круг:
Если можно шекспировскую трагедию и пушкинскую поэму («Ромео и Джульетта» и «Мавра») переделывать в балет (соответственно Прокофьева и Стравинского), то я не вижу препятствия, чтобы сделать то же с «Поэмой без героя». (А. Ахматова. Т. 3. Стр. 218.)
Так, о том балете Игоря Стравинского, с которым постоянно соотносила свою поэму Ахматова… (Б. Кац, Р. Тименчик. Ахматова и музыка). Как бы ни было велико, престижно, малодоступно профанам, элитно произведение смежной сферы искусств, постоянно сравнивать собственное произведение с чужим – это неуважение к своему детищу.
Два дня слушала грандиозный квартет Шостаковича <…>. Близость этого квартета R<equiem’>у и «Прологу».
А. Ахматова. Т. 6. Стр. 308
Шостаковича, как видим, ценила немало.
Появление Седьмой симфонии, упомянутой в «Поэме без героя», некоторое сходство биографий и творческих судеб (почти одновременная – с разницей в один день – эвакуация из блокированного Ленинграда; близкие по времени – с разницей в полтора года – погромные атаки, обрушивавшиеся в конце 1940-х годов и на поэта, и на композитора) могли быть стимулами все усиливающегося интереса Ахматовой к творчеству своего великого современника. В 1958 году Ахматова посвящает Д. Д. Шостаковичу стихотворение «Музыка». (Б. Кац, Р. Тименчик. Ахматова и музыка.) Вот – на одной неделе улетели – и интерес все усиливался, усиливался и через семнадцать лет вылился в стихотворение.
Л.К. Чуковская записывает ее слова об Одиннадцатой симфонии: «Там песни пролетают по черному страшному небу как ангелы, как птицы, как белые облака!» Слово страшный у Ахматовой не значит почти ничего – у нее все страшное.
Другая мемуаристка – Э.Г. Герштейн – свидетельствует: Некоторые слушатели не принимали Одиннадцатую симфонию Шостаковича. Но Ахматова горячо защищала новый опус композитора: «У него революционные песни то возникают где-то рядом, то проплывают далеко в небе… вспыхивают, как зарницы… Так и было в 1905 году. Я помню». Наивным, детски-прямолинейным Я помню она дает понять, что ей доступна осязаемость и реальность музыкальных образов композитора, гений всегда поймет гения.
В ноябре 1961 года среди ахматовских записей возникает такая: Слушала стрекозиный вальс из балетной сюиты Шостаковича. Это чудо. Кажется, его танцует само изящество. Можно ли сделать такое со словом, что он делает с звуком?»
Надпись на сборнике «Стихи разных лет»: «Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, в чью эпоху я живу на земле. Ахматова. 22 декабря, 1958. Москва».
Получила договор на «Бег времени». <…> Впрочем, это уже все равно. Сейчас слушала Восьмой квартет Шостаковича. Это не все равно.
Записные книжки. Стр. 487
Просят дать статью о Шостаковиче. Я – о музыке? Забавно…
Записные книжки. Стр. 710
…я действовал так же, как миллионы мужеского и особенно женского пола учащихся без хорошего учителя, без истинного призвания и без малейшего понятия о том, что может дать искусство <…> Вообразив себе, что классическая музыка легче, и отчасти для оригинальности, я решил вдруг, что люблю ученую классическую музыку, стал приходить в восторг, когда Любочка играла «Sonate Pathetique». <…> Для меня музыка <…> была средство прельщать девиц своими чувствами.
Л. Толстой. Юность
Что-то вроде этого и происходило – к сожалению, не в ранней юности – и с нашей героиней.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.