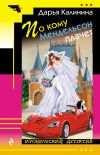Текст книги "Дитя дорог"
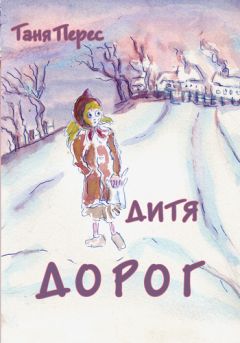
Автор книги: Таня Перес
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
23
С этого злосчастного дня, я поняла, как это быть «парией» – отбросом общества. Другими словами, как это быть «гоем» среди евреев. Они презирали меня точно так же, как «гои» презирали меня за то, что я еврейка. Никто не знал, кто я на самом деле. Никто не хотел знать. Никто ничего не хотел. Не разговаривать со мной, не делиться со мной, не дать мне место для сна на полу в комнате. Несколько ночей я спала между стеной и людской массой, которая лежала и храпела. Анюта спала на моих руках, а больничное одеяло укрывало нас обеих. Эта людская масса была мне неизвестна. Они говорили на идиш. Я не понимала их, только несколько слов, которые я знала от бабушки и дедушки. Они меня также не понимали. Они презирали меня за то, что я притворилась «гойкой», чтобы получить все льготы и довольства, которые «гои» могут дать. Мой юный возраст не вызывал у них ни малейшего сочувствия. Ненависть ко мне была очень сильной. Конечно же, и по отношению к Анюте тоже.
Я была очень обижена и сердита. Я думала, что если это мой народ, то мне лучше умереть. Я стыдилась их. Как избавиться от них, как сбежать? Я была готова на все, лишь бы выбраться оттуда. Позже, после нескольких месяцев пыток и голода, мне стало известно, что Петя и сестры из больницы не раз останавливались у этого закрытого места и просили разрешения войти и увидеть меня и Анюту, чтобы передать нам еду. Но охранники им не разрешали. «Мы не даем еду собакам» – говорили они.
Приближалась зима. В это время меня взяли на работы. Я должна была таскать ведра с водой из колодца на кухню охранников. Ручки ведер были железные и очень тонкие. Они резали мне руки. Ручку колодца, с помощью которой опускали ведро в колодец и поднимали его, было очень трудно крутить. Я приносила на кухню одно ведро за другим. Никогда у меня не получалось принести оба. Для меня это было слишком тяжело. На мое счастье надо было принести перед обедом только четыре ведра. После обеда эту работу выполнял какой-то пожилой еврей. Если я выполняла работу до одиннадцати, то мне давали чистить картошку, резать овощи и хлеб. Это все было не просто для моих рук, но я хотя бы сидела на стуле в теплом месте, даже очень теплом. Печь работала день и ночь. Довольно скоро я понравилась повару и его помощникам. Из сострадания, они давали мне все меньше и меньше заданий. В двенадцать с половиной я ходила в соседний дом, «швейная». Две проститутки управляли швейной. Здесь занимались и этой древней профессией. Они взяли на себя еще одну обязанность – раздавать хлеб семидесяти евреям, которые жили в двух других домах. У швей было очень важное выражение лица, когда они резали рассыпающийся хлеб и раздавали его по своему усмотрению. Я брала хлеб для Анюты. Хлеб рассыпался и его нельзя было удержать в руках. Я принесла железную тарелку из кухни. Два кусочка, каждый по сантиметру толщиной. Как только он касался тарелки – сразу же рассыпался. Хлеб делали из кукурузы, которую мололи вместе с кожурой, и, возможно, добавляли немного муки. Этого нам должно было хватить на день и ночь, до следующего обеда. Я возвращалась на кухню. Повар и его помощники смеялись надо мной, спрашивая, хочу ли я заниматься тем же, чем занимаются швеи. Несмотря на то, что я понимала их «добрые» намеки, я отвечала:
– Но я не умею шить.
Почти каждый день они смеялись, задавая вопрос и получая ответ на их глупую шутку. К моему счастью, ко мне относились с симпатией, без задних мыслей, и щедро наполняли мою тарелку борщом с мясом. Я, однажды, сделала большую ошибку, спросив у повара, не русский ли он. Он обиделся и сказал:
– Я?! Ни в коем случае! Я румын! А почему ты спрашиваешь?
– Я думала, что румыны не умеют готовить борщ.
– Борщ – это румынское блюдо! Вы научились от нас! вы тянете из нас все, что у нас есть.
– Кто? Кто тянет?
– Жиды и русские.
– Я не знала. – Наивно ответила я.
– Теперь ты знаешь правду!
Более мягким тоном он добавил:
– Если бы я не знал, что ты пожертвовала своей жизнью ради этой жидовки, я бы не давал тебе еду.
Несмотря на все ругательства, повар и помощники меня любили. Наполняли мою тарелку остатками супа и даже провожали меня до большой комнаты. Они следили за тем, чтобы Анюта съедала все, что ей принесли. Даже, иногда, гладили ее по щеке. Евреи, которые находились в комнате, ненавидели нас еще больше.
Неожиданно пришла зима. Дождь и слякоть сменились снегом и морозом. На мое счастье у меня были валенки, которые мне дали в больнице и теплые вещи, которые мне передал Петя через «заднюю дверь», с помощью сержанта Василиу. Симпатия этих людей грела меня изнутри. А записки, которые мне передавали из больницы, были моим единственным утешением.
Неожиданности омрачали мое счастье. Мороз. Мороз! Мороз. У меня не было перчаток. Я не могла приносить воду. Ручки ведер прилипали к моим рукам и оставляли раны. Мокрое железо прилипало к коже и тут же замерзало. Результатом стала кровь, раненая кожа и слезы. Да, слезы, я признаюсь. До сего момента я сдерживалась. Однажды, когда повар увидел мои руки все в крови, он испугался и позвал помощника посоветоваться, что же теперь со мной делать.
– Ты принесешь воду, для тебя это не сложно.
Лицо помощника перекосило:
– Ты защищаешь жидовку?
Повар прошептал ему на ухо:
– Дурак, она вовсе не жидовка. Ты видел крест, который у нее на шее? Настоящая жидовка превратится в метлу, если посмеет повесить такой крест себе на шею.
Помощник побледнел и сказал:
– А если она ведьма?
– Тупица, эта девочка похожа на ангела, а не на беса. Те не видишь?! У тебя нет глаз? Эта девочка страдает из-за малышки! Ты должен был сам догадаться. Все это понимают, но не могут ничего сделать. Плутоньер решил, что она заслуживает наказание за свою ложь. Мы все замечаем и должны помочь девочке. Бог нам в помощь!
Второй повар перекрестился.
– Какое преступление! Какой грех!
– Тихо. Молчи! Дурак, никогда не повторяй этого. Если до него дойдет – пуля в лоб! Следи за собой.
– Что будем делать?
– Сделаем просто. Сначала найдем ей варежки.
– Варежки? Вы думаете, что вы в Бухаресте? Пойдете в магазин и купите варежки?
– Не волнуйся, я пойду к швее и попрошу, чтобы она сшила варежки из теплого материала. Для меня она все сделает.
– Ах, швея, швея… Сделала бы она что-нибудь для меня.
А здесь должны быть несколько слов, которые мне не позволила цензура.
Я слышала разговор и сказала про себя, как мне повезло с этими людьми, несмотря на то, что они румыны. Я вспомнила, слова папы, что есть разные люди в мире. К этому надо привыкать. Да, папа, ты прав. Раньше я этого не замечала. Для меня все разделялись на плохих и хороших.
Через несколько дней появились варежки.
– Таня, у меня есть для тебя новости. Плутоньер хочет тебя видеть. Послезавтра рождество.
– Уже? В этом году зима началась поздно.
– К нашему счастью. – Сказал повар. – Но кто знает, что она нам принесет.
– Что Плутоньер хочет от меня?
– Не бойся, кое-что хорошее.
– Что?
– Я думаю, но я говорю тебе это по секрету, никому не рассказывай. Я думаю, что он хочет, чтобы ты украсила елку. Покажи свои руки.
– Руки еще не зажили.
– Не показывай ему. Я дам тебе большие ножницы, будешь держать их в правой руке, в левой оставь перчатку.
– Для чего ножницы?
– Для бумаги, глупая, для бумаги.
– Вы хотите сказать, что у вас есть цветная бумага?
– Да. Но работа должна быть сделана секретно! Это сюрприз.
– Но как мы это сделаем?
– Положись на меня. Никто тебя не увидит, пока ты будешь готовить украшения.
– Но нужен клей.
– Клей не нужен. Есть мука и вода.
– А, я слышала об этом. Дома я делала с настоящим клеем.
– У вас была елка? Вы не жиды?
– Я с самого начала говорила, что нет. Но никто мне не поверил.
Оба повара перекрестились и перешептывались о моей горькой судьбе. С ними у меня получилось. С Плутоньером будет сложнее. На следующий день я попала в «святая святых» – в комнату самого Плутоньера. Я испуганно вошла и дрожащим голосом спросила:
– Господин Плутоньер, вы меня вызывали? Я здесь.
Плутоньер посмотрел на меня и сказал:
– А, маленькая жидовка, маленькая лгунья. Пришло время платить за грехи.
Я заметила лицо Василиу за спиной Плутоньера и успокоилась. Я поняла, что надо мной шутят.
– Рождество! – провозгласил Плутоньер. – Рождественская елка! Ты ее украсишь!
– Я? Как я это сделаю? У вас есть стеклянные игрушки?
– Что? Мы на войне! Нет у нас никаких стеклянных игрушек.
– Тогда что повесим?
– То, что ты сделаешь.
– У вас есть фотография?
– Фотография кого?
– Вас!
– Для чего?
– Я нарисую вам с него большой портрет. Но для этого мне нужны цветные карандаши, картон и бумага.
– Ты можешь это сделать?
– Я надеюсь, что выйдет хорошо. Мы повесим его под звезду, которую я сделаю из фольги.
– Где мы возьмем фольгу?
– У вас нет пачек сигарет с фольгой?
– Эта девочка – гений! – закричал Плутоньер. – Я всегда это знал. Но если не получится, ты знаешь, что тебя ждет?
Я замерла. Василиу рассмеялся и сказал:
– Не бойся. Мы тебя любим и не причиним тебе вреда.
Плутоньер произнес несколько гортанных звуков.
– Скажите мне, господин Плутоньер, у вас есть яблоки?
– Много!
– Мы окунем их в сахарный сироп и повесим вместо игрушек.
Сзади я услышала удивленные голоса. Повар, который держал меня за плечи, громко заявил:
– Я беру на себя это! Выйдет чудесная елка!
Все получили приказы, готовить для меня все для важного дня.
В тот день мы с Анютой не ели. О нас забыли и не дали еды. Ночью, во время работы, принесли много еды и оставили для Анюты на утро. Солдаты помогали мне готовить цепочки. Я показала им, как это делается. Некоторые уже знали. Я приклеила фольгу на картон. Я попросила, чтобы повесили звезду на самую последнюю ветку. Звезда блестела в свете свечей. Мы повесили их со всех сторон елки. На следующий день должны были повесить яблоки, и елка была бы превосходной! Но, боже мой, как я смогу нарисовать портрет?
В ту ночь я не спала. На следующее утро я не оставляла работу. Я села в запертой комнате с фотографией Плутоньера, на которой он выглядел еще глупее, чем в действительности. Я взяла картон и приклеила на него белую бумагу. Разделила фотографию и бумагу на квадраты. Так делают карты. Я попытала свое счастье и у меня получилось! Я покрасила щеки в розовый цвет. И подбородок тоже. Его лоб я заполнила черными кудрями, которых у него не было. Черные усы. Когда я закончила, то поставила портрет около стены и постучала в дверь. Вошли все. Офицеры, за ними охранники и повара.
– Зажгите свечи. – Говорю я приказным тоном.
Свечи зажжены.
– О, какая красота! – сказали все.
Начали хлопать в ладоши и… Плутоньер поцеловал меня в щеки. Страх усиливался. Я боялась, что он заколет меня своими усами. Но усы были мягкие. Сержант Василиу обнял меня и сообщил:
– Есть еще сюрприз!
Он поднял портрет над головами и произнес:
– Я очень красивый парень! Я пошлю это своей жене в Румынию. Чтобы она меня не забыла.
Так закончился мой рождественский художественный опыт в полиции.
24.
Время течет. Дни проходят без больших изменений до весны 1943-го года. Однажды меня заставили пойти убирать картошку на поле, а потом на железнодорожный вокзал Любашевки. Поварам пришлось один день обходиться без меня. Работа была не совсем трудной, мужчины делали более трудную работу. Они бросали картошку прямо на платформу, а мы женщины, наполняли ящики, которые были предназначены для армии. С особой осторожностью мы клали одну картошку на другую и вытирали влажные. Сидели на платформе. Было еще холодно и очень мокро. Над нами была крыша, которая защищала от дождя картошку, которая была предназначена для фронта. Нам разрешали брать поврежденную картошку домой. Конечно, была недостаточно хорошая картошка, но ее все-таки можно было варить на кострах, которые мы разводили в лагере. Мне нравилось смотреть на поезда. Я радовалась каждому мгновению! Холод мне не мешал и даже влага. Ничего мне не мешало. Я дышала чистым воздухом, даже запах паровозного дыма мне ужасно нравился! Я видела себя и маму в элегантном поезде, когда мы ехали за границу. Я высовывала свой нос, чтобы нюхать паровозный дом. Я радовалась золотистым искрам и вытаскивала свою голову настолько далеко, что моя мама боялась.
– Засунь свой нос внутрь! Что за невоспитанная девочка!
Насколько ясно я вижу лицо моей мамы. Как я скучаю по ней. Как же она меня любила! Я никогда на нее не сердилась!
Вечером мы возвращались пешком, это занимало час или два, точно не помню. Почему-то снег стал мокрым. Мои валенки пропускали воду. Когда я вошла в комнату с моим узлом с картошкой, я должна была поскорее разуться, мои ноги были мокры и холодные. Анюта жалуется:
– Целый день я одна! Холодно мне, скучно мне, все уходят на работу, и ты меня оставляешь! Я не хочу оставаться одна. Останься со мной. Скажи им, что я тебя просила!
– Да, да, – говорю ей. – Начни надевать чулки и твои туфли как большая.
– Туфли, которые мне принес Петя, такие большие, я не могу их надеть!
– Давай мы их заполним бумагой. Иди сюда, я тебя причешу. Ну, иди сюда, сейчас же!
– Я не хочу быть причесана. Ты мне найдешь вшей, как всегда. А потом я должна буду мыть голову холодной водой и керосином!
– Если ты мне не дашь тебя расчесать, я постригу тебя, так как тогда тебя постригли в больнице!
– Не хочу! Я не хочу быть похожей на мальчика! Моя мама говорит мне, что у меня красивые волосы.
«Странно первый раз я слышу, что она вспоминает свою маму!» – думаю я.
– Анюта, есть у тебя счастье.
Когда я закончила работу над ее головой.
– Нет у тебя вшей, они не любят твою красную голову.
Мы обе хохочем.
На следующее утро мы варили нашу картошку. Фактически мы ее не варили, а пекли. Разводили огонь, ждали, пока он потухнет, а потом засыпали картошку горячими углями, накрывали ее и ждали, иногда даже больше часа. А потом вытаскивали ее таким образом: выбрасывали палкой из костра и старались, чтобы она упала на кусок материи, которую мы расстелили на земле для этой цели. Картошка разваливалась, и ее можно было сразу же есть, и даже обжигаться, жалко не было соли. Анюта не чувствовала этого. Я обожала эту картошку.
Анюта выросла. Ее ножки стали длинными, но продолжали быть маленькими. Не было никаких следов обморожения. Я обмотала ее ножки тряпками и смогла их засунуть в туфли, которые Петя принес ей неделю назад. Я боялась, что она может простудиться. По вечерам еще были заморозки.
В один прекрасный день, когда я вернулась с вокзала, и в руках у меня был узелок с картошкой, Анюта не пришла меня встречать. У дверей стояла старуха, жена кузнеца и плакала.
– Что случилось? – спрашиваю я.
– Забрали Анюточку!
Я вся похолодела.
– Кто? Как? Когда?
– Сегодня утром, приехала коляска на двух лошадях, не одна лошадь! Сидит там румынский офицер, чтоб он сгорел, возле него расфуфыренная и раскрашенная баба в шубе. Настоящий мех! Он не слез из коляски, только она. Она побежала вовнутрь и заорала: «Анюта, Анюта!». Ты знаешь, Таня, она была раскрашена как швеи-проститутки! Красные щеки, помада на губах и ужасно, ужасно! Она схватила нашу маленькую Анюточку, потащила ее в коляску, солдаты попробовали ее остановить, но офицер, наверно, он большого звания, приказал им не трогать ребенка и оставить ее в покое, они отошли и отдали честь. Не смотря ни на рев, ни крики ребенка, эта расфуфыренная баба сунула ее в коляску. Она положила ее между подушками, завязала ее голову платком и сказала офицеру: «Давай, укатывай скорей». – «Я не хочу тебя! Ты не моя мама! Мама моя умерла. Я хочу Таню! Таня, Таня, Таня!» – так она кричала пока эта странная, раскрашенная баба не сказала: «Посмотри на меня! Я твоя мама! Я твоя мама». Офицер хлестнул своих лошадей, и они уехали. Издалека мы еще слышали детские крики: «Таня! Таня! Таня!…»
Я стою у дверей в моих руках узелок с картошкой, который я принесла для нашего пира, я теряю что-то очень дорогое. Может это моя судьба, терять все, что мне дорого?
Я пошла в мой угол. Накрылась моим тонким одеялом. Пустота. Холод. Отчаяние. Конец света.
25.
Я осталась одна. Настолько одна, что я просто перестала говорить. Перестала ходить брать хлеб у «швеек». Я довольствовалась тем, что мне давал повар, и тянула время, чтобы как можно позже возвращаться в наши общие конуры.
Март. Мне очень трудно доходить до «дому», снег растаял и были большие лужи, мои валенки насквозь промокали, несмотря на то, что я их наполняла газетой, бумагой и тряпками.
Сегодня произошла очень странная история. Сержант Василиу увидел меня сидящей на ступеньках у входа на кухню и наполняющую мои валенки бумагой. Я чувствую, что на меня кто-то смотрит, поднимаю глаза и вижу, что он смотрит на мои маленькие ноги. О, чудо! У него слезы на глазах.
– Так ты ходишь все время?
– Да.
Я краснею как свекла.
– У тебя нет никаких других туфель?
– Нет. – Шепчу я, – были. Украли, забрали…
– Завтра я тебе принесу резиновые сапоги.
Он уходит. Ему неприятно показывать свою мягкотелость. Солдат – это солдат.
Я запомнила ужасною сцену умирающих евреев, двигающихся медленно в конвоях или лежащих у стены. А я лежу около столба, несколько мужчин, среди них евреи, снимают мои красивые сапожки и таким образом приговаривают меня к смерти. Счастье. Я вижу передо мной раскосые глаза моего Мишки-узбека. Что с ним случилось? Кто знает. От всей души я надеюсь, что он остался в живых. Когда я дошла до той комнаты, где я спала с моей маленькой Анютой, ждал меня неожиданный «сюрприз»!
– Возьми свое шматье в комнату кузнеца и его жены в другом доме. Нет у тебя никакого права оставаться здесь. Когда взяли маленькую, ты потеряла свое право оставаться в этой комнате.
Несколько еврейских женщин повернули меня силой и выбросили меня из комнаты и за мной все мои узлы и узелки Анюты, и закрыли «теплую» комнату, в которой я жила раньше по праву. Опять я надеваю свои сапоги, беру свои грязные узлы, и выхожу во двор. Темнота. Я шлепаю между лужами. Меня ничего не интересует. Все меня выбрасывают.
Второй дом. Я толкаю дверь. Ее очень трудно открыть. Еще труднее ее закрыть. Она висит только на одной петле. Чтоб ее открыть надо ее приподнять. Она очень тяжела – для меня. Я вхожу вовнутрь. Тяжелый запах плесени, пота, немытых тел, и вонь от диареи маленького ребенка. Я чуть не задохнулась от этих запахов. В этом доме были две комнаты. Одна, большая, в которой были нары вдоль стен и на них 25 мужчин и женщин готовые ко сну, накрытые рваными одеялами румынской армии. Я их не знала, я их никогда не видела. Они работали за Любашевкой на полях и обслуживали румынских солдат. У правой стены, передо мной, под окном закрытым бумагой – стекла не было – лежала женщина, большой красоты, с впадающими щеками красными от лихорадки. На ее руках лежал маленький ребенок, который беспощадно орал.
– Слава богу,– говорит она. – Этого нам не хватало! Девчонка-солдат. Здесь нет ей места! Убирайся к солдатам!
К моему счастью входят два старика, мужчина и женщина, берут меня за руки и вводят меня в жалкую крошечную комнатушку. Глухая стена без окна. В углу широкие нары. Их «спальня»! они меня спасли, думаю я. Эти обозленные собаки меня бы убили. Дед взял несколько досок, которые он вытащил из своей кровати и положил у ног своего топчана.
– Положи на эти доски все мягкое, что у тебя есть, и хорошенько укройся, потому что у этой комнаты нет крыши.
Я смотрю наверх и вижу балки крыши, никакого следа потолка!
– Ты видишь? Если был бы потолок, тепло бы не убегало.
– И окна нет?
– Я его заложил кирпичами. Я сделал это очень хорошо. – Говорит старик с большим удовольствием.
– Вы кузнец?
– Да.
– А я вас раньше не видела.
– Целый день я работаю в кузнице, и моя жена там со мной. Там тепло. Поздно вечером мы приходим сюда спать.
Они мне помогли устроить мои тряпки и мои доски. Я легла на живот и укрылась своим серым пальто. Пришло время надеть мою красную шапочку. Старики расхохотались, она им очень понравилась. Они были очень добрые старички. Несмотря на тяжелые условия, они были замечательными людьми. Отнеслись ко мне с любовью. В первую ночь я поняла, что у меня слишком длинные ноги и что мое серое пальто не доходит до ног или до плеч. Я натягиваю пальто на свои голые ноги, а плечи на дворе. Вот дилемма. В эту ночь у меня был приступ астмы, наверно от холода.
26.
Так прошел месяц. Даже больше. Сержант Василиу принес мне пару сапог из кожи! Не из резины! Они даже почти хороши на меня, чуть-чуть большие. Чулок не было, но вместо них были бумаги. Я опять могу ходить! Мое настроение тоже исправилось благодаря повару, который давал мне гораздо больше еды и утром и в обед. Я не нуждалась в этом крошащемся хлебе, которые мне давали швейки-проститутки. Я даже могла найти немного еды для моих стариков. Я всегда приносила им свечи. Они зажигали эти свечи перед сном и чувствовали какое-то облегчение, когда смотрели на дрожащий свет свечей. Иногда старичок рассказывал мне какую-нибудь историю. Его рассказы были фантастические сказки о евреях, христианах, русских украинцах и даже татарах. Все рассказы кончались хорошо. Я стала к ним привыкать. Называла их дедушка и бабушка. Они меня называли красная шапочка. Я слышу голос моего папы! Я открываю, что наш повар не умеет читать письма своей жены. Письма написаны по-румынски, как будто их писал какой-то «писатель» из деревни, а может быть и учитель. Я ему их читаю, пять-шесть раз каждое, он их знает наизусть. Я не смею его спрашивать, кто написал эти письма и почему он не может их читать. Раз он мне сказал, что он очень плохо видит. Он любил слышать из моих уст эти красивые слова. Эти письма были подписаны «твоя жена, любящая и верная». Звали ее Мария. Но имя моего повара было мне не известно. Я его называла «господин повар». Он был очень этим доволен. Он давал мне кусочки сахара, которые он держал в маленьком узелке в своем кармане. Его борщ был каждый день все лучше и лучше (под моим влиянием). В одну из пятниц, прежде чем я оставила теплую и пахучую кухню, он спросил меня, что я делаю в воскресенье утром.
– Как всегда, – говорю я. – Приношу воду из колодца, а потом сажусь в угол и жду, пока день закончится.
– Завтра праздник!
– А! А! Да.
Понятия не имею что за праздник, попробую не открывать свое незнание.
– Я сам принесу воду! – героически заявляет он. – Ты красиво оденься и пойди проведать свою акушерку.
Я ему рассказала о ней только хорошие вещи.
– Я знаю, что ты не жидовка, – говорит он потихоньку. – Ты не должна быть тут в лагере. Все это знают, но нельзя, чтобы это вылетело изо рта, понимаешь?! Плутоньер не может признаться в своей ошибке. Ты можешь идти, я тебя прикрою, даже завтра и послезавтра. Иди туда, чтобы тебя помыли, постригли и сделали все, что тебе надо. Но помни, что с темнотой ты должна вернуться. Если наши полицейские, которые следят за жидами, тебя не найдут это очень плохо кончится, поняла?
– Поняла!
На следующий день я встаю очень рано и направляюсь к акушерке. Еще темно. Никто меня не видит. Снег почти совсем растаял. Но земля, еще замерзшая как камень. После часа дороги я дохожу до дома акушерки. Никого нет во дворе, а печка на дворе конечно не горит. Наверно печка горит внутри, я чувствую запах дыма. Я ищу комнату Стасика. Смотрю через окно. Стасик не спит. Я стучу ногтем по стеклу окна.
– Стась, Стась! Станислав! Открой уже, наконец, окно!
Стас прилипает носом к стеклу, его глаза выходят из орбит, рот у него открыт и он шепчет, но я не слышу, хотя понимаю:
– Боже Матка Стаховенска!
– Это я, Таня! Открой уже окно!
Он читает по моим губам, открывает окно, затаскивает меня за воротник, и ставит посреди комнаты.
– Ой! – говорит Стасик. – Ты наверно полна вшей, блох и всякой другой грязи, от тебя идет ужасный запах, моя бедняжка! Я тебе сейчас же сделаю ванну и дам тебе одежду этой страшной старухи.
– Что ее здесь нет?
– Нет, нет! Она спит в одной деревне. Там две роженицы. Ты можешь здесь остаться даже на два дня.
– Я не могу. Я должна быть вечером дома.
– «Дома»?! Что такое «дома»?
– Ну, в лагере, я там сплю на полу.
– Ты выглядишь ужасно, пойдем на кухню, я подогрею тебе молоко и большой кусок хлеба.
Мы заходим на кухню, это и столовая, и кухня, и гостиная и даже «библиотека», все в одной комнате. Без церемоний Стасик меня раздевает, с большим удовлетворением он бросает все мое «белье» прямо в мусор на дворе. Осматривает свои руки, а потом кладет мое верхнее пальто, мой шерстяной свитер, не знаю, как он у меня появился, и мою длинную юбку прямо в горячую печь. Стасик смотрит на меня с удовлетворением, пока я стояла в «натуре».
– Это убьет вшей и все остальное! – торжественно заявляет Стасик.
– Я надеюсь, что это не убьет мое пальто!
– Не бойся! Я уже делал так, это все мне известно! – заявляет мой ближайший друг. – Залезай в горячую воду.
Без стыда я залезаю в большое корыто, наполненное горячей водой. Стасик не смотрит на меня, но бросает большой кусок мыла прямо в воду. Я плескаюсь в корыте долгое время. Чувствую себя изумительно.
– Не выходи из воды. Возьми ножницы и состриги свои длинные волосы, я не хочу их трогать.
– Я не хочу стричь волосы. – Умоляю я.
– Стриги, дура!
Я стрегу. Волосы падают в корыто. Стасик следит за мной орлиными глазами. Когда я заканчиваю, он бросает мне простыню, которая должна заменить банный халат. Я выхожу из воды. Он тащит корыто медленно-медленно через двор и осторожно выливает воду. Он стоит во дворе и ждет пока, я оденусь в белье нашего общего врага. О, чулки из шерсти!!! Как я удивлена! Эта маленькая одежда точно на меня!
– Ты можешь зайти. – Кричу.
Стасик входит, открывает рот и смотрит на меня с удивлением.
– Я не верю. Это ты, Танька? Ты похожа на мальчишку!
– Почему тебе вдруг стало важно, на кого я похожа? Перестань смеяться надо мной!
– Ну, пошли пить молоко, я тебе нагрею.
– Стась, скажи, а мое пальто и шапочка не сгорят в печке?
– Если и сгорят, то я тебе дам другие.
– Что? Эти вещи принадлежат акушерке? Она толста как корова!
– Да, нет! Конечно нет, это не ее, не волнуйся. Она получает мешки одежды для нуждающихся. Я тебе дам еще «домой», как ты называешь эту противную дыру, в которой ты живешь.
– А она то не заметит, что ей чего-то не хватает?
– А, нет, тут лежат мешки на мешках с вещами. Сиди, пей молоко, а я дам тебе хлеб прямо из печки.
Стасик принес сливочного масла, он мажет мне его на хлеб и смотрит, как я его с удовольствием поедаю.
Я наслаждалась всем, у меня нет слов, чтобы объяснит мое чувство облегчения.
– Она не вернется вдруг?
– Я же говорю тебе, что она ушла вчера и будет там, по крайней мере, три дня.
– А если вдруг роженица все сделала в одну ночь и она вдруг вернется?
– Как ты глупа. Осталась дурой, как и раньше. После родов, два или три дня, надо заниматься ребенком, забыла!
Стасик смотрит на меня и смеется.
– Стасик, ты знаешь, я забыла, что ты такой красивый…
– Ты что с ума сошла? Я красивый? Ты красивая!
– Я красивая? Ты делаешься дураком все больше и больше из-за этой акушерки. Если я красивая, то ты совершенно сумасшедший!
Стасик смеется очень громко и приносит мне зеркало. Мы оба смотрим в маленькое зеркало. Стасик – он Стасик. А я … не я! Чужая девушка, не может быть, я же девочка, ребенок. Стасик, безусловно, ничего не понимает, он мальчик.
– Ой, – говорит Стасик. – Ой, ой, ой! Ты даже не знаешь, насколько ты красива! Это твое счастье.
– Мое счастье, что я красива или что я этого не знаю!
– Замолчи! Мне надоело вообще с тобой разговаривать. Я ненавижу девочек.
Стасик, наконец, вспомнил мое несчастное пальто, которое почти сгорело в печке. Запах горящей шерсти начал распространятся по комнате. Очень осторожно, Стасик вытащил палкой мое серое пальто «уменьшилось» в печи, а моя красная шапочка превратилась в шапочку младенца.
– Ты не бойся. – Сказал он, в ответ на мое жалкое выражение лица. – Все будет так, как и было.
– Как?
– Сейчас увидишь, я это делаю со всеми вещами, которые она приносит.
Стасик берет вешалку. Представьте себе – вешалку! Я смотрю на нее с большим уважением. «Наверно, акушерка очень богатая» – говорю я про себя. Он очень красиво вешает мое измученное коротенькое пальто на вешалку. Над ним вешает красную шапочку, выносит все во двор и вешает все на веревку. – Ай, ай, ай, на улице ведь все это замерзнет. А что произойдет, если из этого ничего не выйдет?
– Ты не бойся, вот сейчас ты увидишь, мы оба прилипли носами к стеклу и смотрим на мое пальто, от которого идет пар. Стасик улыбается с уверенностью.
– От тяжести влаги оно вернется к себе. – Говорит он с уверенностью.
У меня было чувство, что он не так уж и уверен в себе, но я молчу. Мы сидим у стола и пьем чай из морковки.
– Расскажи мне, как там у жидов?
– Ужасно!
– А Анюта?
– Ее мама приехала и забрала ее…
– А ты, дурочка, попала в ловушку, когда пошла ее освобождать. Я тогда говорил тебе это!
– Не было другого выхода, она была малютка!
Я ему рассказываю, что происходит в лагере.
– А, я понимаю… в Варшаве это называлось гетто…
– Гетто? Это что за слово?
– Я думаю, что это старинное немецкое слово. Они пользовались этим словом, чтобы указать место заключение евреев.
– Расскажи мне о гетто.
– А тебе это зачем нужно? Это тяжелая история.
– А мне не мешает, расскажи.
– Хорошо.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.