Текст книги "Самолет улетит без меня (сборник)"
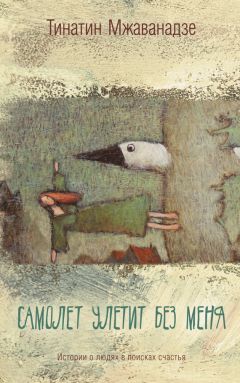
Автор книги: Тинатин Мжаванадзе
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Деревня
Если спросить родителей, дом есть.
Вот же он – дом в деревне, и они в нем живут. Живи с нами, это и твой дом, что может быть лучше – жить вместе с родителями! Были бы живы наши родители…
Лика побыла с ними пару месяцев. Думала, что так и надо: жить, как в сказке, в высоком терему и ждать чуда.
Стоит только вспомнить это время – время без своего города, и смирение как рукой снимает.
У вас обязательно есть деревня неподалеку, в которой вы проводили в детстве все выходные и каникулы, и она казалась вам раем, а сейчас вы едва можете выдержать там хотя бы полчаса.
Зима насыпала так много снега, что дороги временно умерли, и до деревни Лика добиралась пешком, набрав полные сапоги слякоти.
Впереди был Новый год, и вся семья собралась вместе, проводя дни у камина.
Лика ни о чем не думала, наслаждаясь мирной пустотой: ничего не надо решать, некуда бежать, добротная первобытная скука давала покой и крепкий сон.
Где-то очень далеко остались мечты, сражения, встречи, победы, танцы, легкие платья, Италия. Время округлилось и медленно, плавно катилось на одном месте.
Иногда она думала о Генрихе и представляла себе его лицо при виде ее сегодняшней. Он не придет ее спасать, и хватит об этом.
Лечь спать в гремящую крахмалом ледяную постель, не раздеваясь, как мамонт, и все пропахло дымом, утром встать, только когда точно будет гореть огонь, кое-как умыться, принести свою долю дров и сесть наконец на свое место у камина.
Там целыми днями сидела вся семья, волею обстоятельств и беспощадного времени утратившая безмятежность вечной любви. Болтали, вспоминая прошлое, перечитывали принесенные с заброшенного этажа книги, слушали мамины рассказы, много смеялись, а Лика еще и вязала.
– Где ты такие нитки нашла? – ехидно спрашивала сестра.
– Где надо, – огрызалась Лика и потом сама же и хохотала: нитки были чистой шерсти, болотного цвета, но с вкраплениями белого пуха, и при вязании получался странный эффект – как будто юбку валяли в овчарне.
– Пусть вяжет, что тебе, – вступалась мама и длинно рассказывала, как их учили в школе всевозможным рукоделиям.
Лика спешила доделать юбку к Новому году – пусть все рухнет, но нарушать традицию – надеть в новогоднюю ночь хотя бы одну новую вещь – она не хотела.
Так наступил тот самый вечер, и он ничем особенным не отличался от остальных – мама стучала пестиком, размалывая орехи в ступке, племянницы хихикали, обсуждая соседей, сестра читала обрывок столетней газеты, папа дремал.
Лика вдруг выпрямилась и громко сказала:
– Хочу купаться.
Все вздрогнули.
– Хорошее желание, – зевнула сестра. – Главное – своевременное и исполнимое!
– Может, голову помоешь? – нерешительно предложила мама. – Не простудиться бы, холод какой.
– Я. Хочу. Вымыться. Целиком, – отчеканила Лика. – Может у меня быть хоть одно желание?!
И мама отложила ступку.
– Вставай, – железным тоном приказала она папе. Он только снял очки и изумленно воззрился на жену.
Мама натаскала дров и воды.
Мама запалила пожар, с гулом рвавшийся из пасти камина до дверей.
Мама нагрела в закопченных котлах столько воды, что хватило бы выкупать того самого мамонта.
Мама отправила папу с топором в сад за дополнительными дровами, поставила прямо перед камином длинное жестяное корыто, полное горячей воды, и велела Лике в него залезть.
О, великие боги!
Лика сидела в корыте, как младенец, и мама решительно намыливала ей волосы хозяйственным мылом и лила воду ковшиком безостановочно, потому что если сидеть лицом к огню, то мерзла спина, и наоборот.
Лика фыркала и визжала, и что-то мерзкое и сальное внутри растапливалось и уходило вместе с грязной водой. Как будто солнце выглянуло одним глазом из-за пелены свинцовых туч, и стало понятно, что Лика совсем молодая, и легкие платья наденет, и начнет воплощать великие идеи – а как же иначе?!
Кто там брился каждый день на льдине?
Она уже сидела в десяти полотенцах и халатах, и ее преображение волнами шло по комнате и по всему дому.
Нет ничего невозможного.
Мама и папа ее любят – и они сделали для дочери такую классную штуку, порубили деревья в саду и отдали ей все запасы воды, и теперь в мире чисто, спокойно и весело.
Лика встретила Новый год в странной новой юбке и полная надежд. Родители делают все, что могут, просто могут они очень мало, и не надо на них за это обижаться.
Через пару дней она собрала вещи, расцеловала родителей и уехала туда, где ждала развороченная жизнь.
Там ее встретила внезапная сногсшибательная новость: шеф Наталья пристроила Лику на новую работу!
Нелюбовь
Вы ходите на Приморский бульвар не для того, чтобы погулять, а для того, чтобы встретить «одного мальчика».
На новой работе у Лики мгновенно завелся поклонник, развязный режиссер по кличке Феллини.
– Он ни одной юбки не пропускает, даже не думай, – шипела машинистка Ламара, главный информатор телевидения.
Ну и что, мстительно думала Лика, буду делать все, что нельзя!
Уже через неделю после знакомства она пошла в бар с Феллини, захватив для безопасности Басю.
В полумраке при свечах играли пианист и скрипач, сигаретный дым можно было резать ножом, и Лика с интересом наблюдала, как благосклонно ее поклонник отвечал на провокативный флирт Баси.
– Он очень даже, – прогудела в ухо подруга.
– Непрочный, как лодка из промокашки, – невозмутимо отозвалась Лика и оглядела зал.
– Ба, Ликуша?! – К ней шел старый приятель, пьяный в дрова, раскинув руки для объятий.
Лика пошла с ним танцевать, чтобы ненадолго оставить флиртующую парочку вдвоем.
– Одни мы с тобой остались в этом болоте, – причитал приятель, спотыкаясь и наступая ей на туфли. – И Генрих, сука, умотал и про нас забыл!
Лика оторопела, но не подала виду.
– Тварь он все-таки, – продолжал приятель, постепенно погружаясь в полудрему. – Столько лет трепал тебе мозги, а сам уехал! Да никогда он тебя не любил!
– Что ты говоришь, – похолодела Лика, но продолжила танцевать. – Он тебе что, говорил об этом?
– Никогда не любил, – с удовольствием подтвердил пьяный и кивнул в сторону поклонника: – А этот тебе нравится? Жалко тебя ему отдавать, ты заслужила получше.
Лика пожала плечами, вырвалась из пьяных лап и села на место. Феллини посмотрел внимательно, но не сердито.
Приятеля уволокли.
Так-так, значит, за ее спиной все обсуждали ее и Генриха. Скорее всего, даже вместе с ним. Наверное, он сокрушался: жаль ее, но у него другие планы. Ах ты, тварь!
Где-то внутри начался процесс оживления мертвой зоны, а это всегда больно, как оттирать снегом обмороженное место.
Как же, как же все это золотистое, облачное, цветущее, как ласточки над нашей улицей, освещенной вечерним солнцем, – это все ничего не значило?! Наш снежный день, чистый белый берег, наши долгие разговоры, молчание, смех, моя верность, ожидание, переписанные от руки песни, нарисованный общий дом с башенками и фонтанами – что же все это было?
Наши перекидывания записками, держания за руки, медленные танцы, поедание одной мандаринки на двоих и общие тайны – зачем же все это было?
Лика пила согревшееся шампанское, поддерживала легкий разговор, а сама думала – да прав он во всем, этот Генрих. Что во мне любить? Кучу проблем? Бездомность? Никому не нужную работу? Все, конец, прощай, мой дорогой.
– Отвезешь меня домой, – неожиданно сказала она Феллини, и подруга недоуменно воззрилась на нее – ничего, перебьется, пусть этот легкомысленный парень будет при мне, все равно других для меня нет.
Ночью Лика долго курила в окно и думала все о том же – нужен дом.
Нужен дом, и точка. Свой собственный, хоть какой. Невозможно мотаться, как перекати-поле, если кто-то захочет ее найти – даже адреса нет. Нужна точка отсчета, в которой будут кров, почва и корни.
На первое время пусть будет родной дом, хоть он и зарос плесенью. Надо сделать попытку вернуть его к жизни.
Лика выпускала горький дым в холодный город, который был таким родным и так ее обманул. Как странно оказаться в нем взрослой, пустой и беззащитной.
Вместе с домом и планами на жизнь исчезли все камни, на которых держался ее мир: ни любимого, ни семьи, ни бабушки, ни самой родной подруги. А надо продолжать прыгать и всем видом изображать непотопляемого клоуна – чтоб никто не заподозрил, как близко она от края.
Ночью ей приснился Генрих – пустынный морской берег, изогнутый луком, два цвета – серая галька и бирюзовая вода, а он стоит, завернувшись в одеяло, и швыряет в море гладкие камни. Светит солнце, но в нем недостаточно тепла, Лика стоит рядом с Генрихом, и ей так хорошо, только холодно, и он молча накрывает ее краем одеяла.
Тепла вокруг не было, приходилось его добывать из снов.
Неужели вся жизнь пройдет вот так – испытывать счастье только во сне?
Дневник.
Такое-то число такого-то месяца. Давид Исаевич
Как меня угораздило наконец-то попасть в свое, правильное место?!
Я создана для этой работы. И люди кругом, хоть и негодяи, – мои негодяи. Понятные.
Наконец-то познакомилась с Давидом Исаевичем – там самым гадающим карликом.
Вообще-то он очень трогательный всезнайка, и никто его ни разу не видел полностью трезвым. Он сидит на вахте и ведет журнал прибытия-отбытия сотрудников.
Часто рассказывает про своего лучшего друга, олигарха: они оба запойные книгофилы-собиратели, и, если хочется зависнуть, надо попросить Давида Исаевича рассказать, как воры грабили знаменитую библиотеку его друга, похватали довольно обычные книги в кожаных переплетах с застежками из драгоценных камней, а настоящую ценность – невзрачное рукописное Евангелие – профукали. Безумно дорогое, написанное на пергаменте, скукоженном от времени, оно лежало на столе на самом видном месте и никакого интереса не вызвало.
– Невежество грабителей суть спасение, – Давид Исаевич выражался витиевато и церемонно.
Если бы он еще делал паузы в своих повествованиях, цены б ему не было.
В один прекрасный день он притащил на работу свои знаменитые карты, и всех охватила лихорадка гадания. Давид Исаевич расцвел, сидел на своем стуле важный, как министр, но его ножки, болтавшиеся в воздухе, сбивали весь пафос.
– Вам неинтересно, Лика? – спросил он, глядя снизу вверх глазками старого пса.
– Интересно, почему же нет, – смутилась я. – Но к вам столько народу записалось, мне неловко.
– Об этом не беспокойтесь, – поклонился карлик. – Я сам приду.
Давид Исаевич разложил карты три раза.
Все расклады он с дотошностью гомеопата проверял по шпаргалке. Рассказывал прошлое, настоящее и будущее – без лишней воды, четко и сухо.
– Всю жизнь вас будут обсуждать, – не поднимая глаз от картонки с наклеенной на ней журнальной вырезкой, медленно выговаривал Давид Исаевич. – Будет много предательств, много разочарований. Вы можете так и не найти своего настоящего занятия. Но с вами вскоре окажется тот человек, которому вы доверитесь. Это не ваш выбор, но он вам предназначен.
Я слушала и очень хотела снова развеселиться, чтобы вечером обсудить гадание вместе с подругами. Но почему-то было странно тихо и немного грустно.
Неужели от меня вообще ни черта не зависит?! За каким лешим меня родили на этот свет? Что я должна сделать – я ведь просто выживаю!
– Но – видите? Вот это означает вашу победу. Вам понадобится много лет, но все-таки вы победите.
– Кого? – спросила я карлика.
Давид Исаевич сверился с шифровками, аккуратно поправил крайнюю карту и поднял глазки:
– Откуда мне знать. Но самое важное – помощь придет от людей, которых вы вообще пока не рассматриваете.
В тот же вечер мы отправились всей компанией в бар, ночью Феллини снова подвез меня домой.
Не знаю, что там будет с гаданием, но доверия он у меня пока не вызывает.
Наверное, я разучилась верить, что меня можно по-настоящему полюбить.
Такое-то число такого-то месяца.
Анатолий и Шукри
Мы знали о нем так мало, что оставалось только самим додумывать за него легенду.
Откуда он взялся посреди войны и разрухи в стране, из которой не то что чужие – свои сбежали? Если чужой появился сейчас в нашем городе по своей воле – значит, либо помешанный, либо с недобрым умыслом.
На помешанного Анатолий не тянул – правда, немного заторможенный, но и только, а недобрый умысел был невозможен. Никто не мог этого объяснить, но он был слишком слаб для недоброго умысла – зло требует колоссальной энергии, а он был совершенно обесточен, и рядом с ним всегда слегка пахло пылью и было прохладно.
Мы знали, что его зовут Анатолий, что он годится нам в отцы, что он работал где-то в военных органах – черт его знает, что это значит, что он из Украины – конкретно из Донецка.
Нет, из Днепропетровска.
А может, из Харькова?
В общем, точно не из Киева.
И здесь он появился не по своей воле.
Скорее всего.
И еще он знал много языков: сколько именно, могли уверенно сказать девицы из отдела кадров – то ли восемь, то ли двенадцать, но это враки, совершенно точно – он переводил «евроньюсы» с английского, немецкого и французского.
Мы его тут же зацапали в свои лапы и уговорили учить нас английскому в перерывах между монтажами, и даже успели с увлечением пробалдеть пару уроков и приколоться, какой же все-таки смешной прононс у совковой школы, но язык он знал, знал безусловно, и блестяще, и педантично – он был вообще педант.
Очки, усы, одет в серое; на нашем безбашенном молодежном телевидении он смотрелся как ворона в снегу, хотя специально старался быть неприметным: ну как же, шпионские навыки, легенда диверсанта – надо сливаться с толпой.
Но у нас же толпа совсем другая – вот в чем его прокол.
Никаких чувств, кроме любопытства и жалости, он не вызывал: любопытства – потому что был слишком образованным и не на своем месте, жалости – потому что жена и дети, двое, его бросили – так говорили девицы из кадров.
Но он был сломлен еще и по-другому, не из-за семьи, – как-то серьезнее, страшнее: это когда мужчину обвинят в предательстве и сделают изгоем, а он не может себя защитить, потому что его подставили.
Или его смоет с корабля, и он окажется на чужом берегу среди людей другой расы.
Какой-то потерянный он был.
Может, на самом деле все было совсем не так. Мы хотели думать, что он именно такой. Тихий и сутулый, дни и ночи работал в наушниках и переводил ньюсы.
И когда нам сказали в одно утро, что Анатолия нашли мертвым в монтажной – вроде бы сердце остановилось, мы, одно дело, что ахнули и расстроились – все-таки привыкли к нему, да и не каждый день такое происходит, чтобы человек умер прямо на работе, но главным образом причитали: что же с ним будет? Что же будет с его… телом? Куда сообщать о его смерти, и сколько времени пройдет, пока за ним приедут, а это все сейчас так сложно, живые-то еле ездят, а его – куда повезут мертвым и кто, главное?! Дети же вроде от него отказались и после смерти вряд ли озаботятся.
За этими разговорами прошло несколько дней, и мы все думали собирать деньги, что ли, чтобы его как-то… а что с ним делать, никто не знал, и тут нам сказали, что будут похороны, будут – у кого он снимал дом, тот и взялся Анатолия хоронить.
Мы пошли, конечно.
Зима была, ясное дело, снежная и холодная, я не помню, чтобы кого-то хоронили зимой и чтоб зима была приличная, а уж сырые они у нас всегда, и света же нет почти никогда – но мы уже привыкли, и пойти на похороны загадочного одинокого Анатолия было почти праздником, прости меня, Господи, потому что мы молодые и нам хочется что-то делать, куда-то ходить, а дни проходят в ожидании – дадут свет или не дадут.
И мы пошли все-все, и никто не хотел оставаться дежурить – зачем в эфир выходить, если у половины страны нет света, но все-таки пара обиженных дежурных остались, а везунчики на специальном автобусе добирались долго – оказалось, что жил он в военном городке, и мы приготовились к бедности и сиротству, потому что хоронить Анатолия предстояло нам, его единственным оставшимся друзьям.
Мы пришли и увидели, что гроб стоит посреди главной комнаты, мир вашему дому, и женщины в черном сидят вокруг – правда, тихо сидят, не голосят, а у дверей стоит хозяин – такой высокий, в длинном черном кожаном плаще, он, наверное, в молодости любил ковбойские фильмы, потому что на нем был настоящий черный «стетсон», и мы робко зашли, ослепленные светом, бьющим из его глаз.
Женщины были родственницы и соседки хозяина: жена, и сестры, и кузины, и дочери, это уж обязательно надо, чтобы всякого порядочного покойника оплакали женщины, много женщин, много женщин в черном, много скорбящих женщин в черном, и они были, и чинно сидели с платками в смуглых пальцах, и тихо переговаривались, что не повезло человеку с женой – потому что разве хорошая жена допустит, чтобы человека похоронили без нее.
И мы тоже сели на свободные стулья, и мальчики встали вместе с хозяином возле входа, потому что у любого уважающего себя покойника должны быть в карауле сильные мужчины, которые стоят строем у входа, принимают соболезнования приходящих, курят и тихо переговариваются, посылают младших по всяким поручениям – подготовить машину, проверить вино и быть готовыми нести гроб.
В положенное время Анатолия подняли и понесли хоронить, и хозяин взялся нести правый передний угол гроба, и шел до конца бессменно, а наши мальчики сменяли друг друга, потому что они еще не такие сильные, и – да, снег же, мокрый и ноздреватый, и каменистая дорога под ним, и овраги, и место было выбрано на крутом пригорке – уж какое удалось найти, наверное.
Все стояли на разной высоте, зато видели все одинаково хорошо, как в амфитеатре, и хозяин снял шляпу с черных волос и сказал о том, что они с Анатолием мальчишками дружили – это же военный городок, и его отец служил здесь, а потом они уехали, и спустя столько лет Анатолий приехал и попросил сдать ему комнату, жил два месяца, все его полюбили, хоть он почти ничего не рассказывал, такой тихий, спокойный, вежливый человек, и тут случилось такое несчастье, а связаться ни с кем не получилось, но все мы люди, и надо проводить человека достойно, потому что больше это некому сделать.
И Давид Исаевич стоял с непокрытой головой, его тоже бросила жена, торжественный и даже как будто высокий, и тот, кто мне нравится, тоже, и наконец появилась настоящая нежность к нему, и, наверное, я его буду любить, потому что мы сейчас пережили одно и то же.
И потом был настоящий, правильный «келех» – и с лобио, и с рыбой, и с вином, и мы все съели и выпили, и на наши души легла странная тяжелая тьма пополам с радостью, и никому уже не хотелось ни дружбы, ни работы, ни денег – одна только голая бесприютная любовь могла приютиться рядом с нами.
Хозяин ходил между столами – много людей пришло, и строго наклонялся и спрашивал, всего ли достаточно, и мы бормотали какие-то слова благодарности, и он покачивал головой и отходил, и мы все выпили много вина, даже эта мямля-дикторша, и никому не стало плохо, потому что человек умер, а рядом с ним не было никого из семьи, ни одного родственника по крови, и надо было чем-то латать дыру в пространстве, а не то нас всех затянуло бы туда.
Наш молодой директор церемонно поблагодарил хозяина и попросил разрешения разделить с ним расходы. Хозяин поклонился и сказал, что нет необходимости, но если таким образом хотят почтить память Анатолия, то он согласится, потому что еще надо будет сделать приличную ограду на могиле.
Перед уходом, осмелев, мы жали руки хозяину и обнимали его, на что он по-прежнему чинно просил нас связаться с семьей Анатолия, потому мы телевидение и нам проще.
Обратно мы ехали опять в этом раздолбанном «пазике» – как я их ненавижу, кто бы знал, – и у нас был праздник.
– Положи мне голову на плечо, – сказал Феллини, и я послушно приникла, закрыла глаза, все мягко плыло и кружилось, и впервые за долгое время мне было дано ощущение полного тепла.
– Ты плакала?
– Ты же видел, – сказала я, – а ты?
– И я, немного, – он погладил мою голову. – Я думал, ты всегда веселая и не умеешь плакать.
Мы были пьяны и счастливы, и говорили, что этот день – один из самых удивительных дней в нашей жизни, потому что, даже если мы больше ничего никогда не сделаем хорошего, на том свете нам зачтутся похороны Анатолия.
Мы обещали друг другу, что будем приходить на могилу Анатолия каждый год. И навещать этого сверхчеловека – как его, Шукри.
Мы ни разу там больше не были.
У вас обязательно есть полный комплект черной одежды. Во-первых, для пристойного посещения похорон, во-вторых, это красиво.
Такое-то число такого-то месяца.
Шавлиси
Устроила на работу этого милого мальчика – Мирандиного соседа.
Он с головы до пят творческий – пишет стихи, рисует и почти все вечера проводит у нас. Ну, то есть у Миранды. Еще точнее – у Клары. Как-то мы подружились втроем, хотя компания более чем странная: юная статная красавица, похожий на эльфа мальчик вдвое тоньше нее, и я, старше их обоих на поколение.
Шавлиси изящный, как японские аниме, неудивительно, что ему приятнее общаться с девочками, чем с мальчишками. Кажется, у него очень мало друзей даже в собственном доме.
– Папу я разочаровал, – спокойно сообщил он. – Его бесит, что у него такой сын-задрот. Зато моя сестра его любимица. Мама меня всегда защищает, но я все равно уеду отсюда.
– Куда? – Я спрашиваю просто так, куда он уедет, в самом деле, такой нежный, того гляди переломится.
– Куда угодно, – твердо говорит мальчик, закрыв глаза, и жеманным жестом поправляет очочки.
Сомневаюсь, что он про себя понимает правду: мне кажется, его к этой мысли все подталкивают, словно назло. Ты не такой, ты не такой.
Все-таки он вполне здравомыслящий и прагматичный, а не то бы украшал улицы города каким-нибудь перформансом.
Вообще-то о нем рассказывать особенно нечего: просто он мой друг и не считает меня отверженной.
Вероятно, потому что сам такой.
Однажды к нам спустилась его мать, красивая тонкая женщина с родинкой на щеке. Она украдкой меня рассматривала – видимо, он прожужжал ей все уши, и она встревожилась.
Даже у этого полудурка есть дом и встревоженная мама. А я почему-то сразу взрослая – и мне все надо решать самой.
– Вы снимаете у Миранды комнату? – осторожно спросила она вскользь.
– Нет, просто так живу, временно. – И вдруг меня осенило: – В моей квартире ремонт, крыша протекает. Скоро перейду обратно.
Кажется, она вздохнула с облегчением.
Если вы мать мальчика, то, значит, очень важная персона. Все женщины нацелены отнять его у вас, даже если он только что родился.
Такое-то число такого-то месяца. Заброшенный дом
Отмыла и отчистила свой заброшенный дом. Живу в нем почти как Робинзон.
Когда в городе льет дождь, в моем доме он льет почти точно так же, как за окнами, но не сплошь, а местами, поэтому наводнение можно локализовать тазиками.
А из крана, как это ни парадоксально, вода не идет! Поэтому надеваю резиновые боты, плащ, беру два ведра и спускаюсь во двор.
Набирая воду под струями щедрого штормового ливня, я вспоминаю, как маленькой пила воду из-под этого крана из горячей перемазанной ладошки в перерывах между партиями азартной игры «мяч в кругу».
Тогда в конце двора цвела акация розовыми шариками, ласточки черкали небо хвостами-ножницами, тетя Соня ругала нас и гнала прочь от своих окон, сердце раздувалось, как воздушный шар, и неизвестно какие силы удерживали меня на земле: еще немного, и я поднимусь вверх, к огромным закатным облакам, и даже бабушкины оклики с балкона «Домой!» только вдували больше воздуха в этот золотистый шар.
Я поднимаю ведра на четвертый этаж, опустошаю полные тазики, ставлю их в стратегических местах под протекающим потолком, и они снова заводят свою звонкую музыку: так, так-так, так-так-так, потом пауза, потом крупный та-ак.
Пол в лоджии давно прогнил и провалился, но я даже в темноте точно попадаю на целые куски досок.
Не забыть посмотреться в буфетное зеркало: в нем я намного стройнее и тоньше, чем на самом деле, и так удачно, что телефон стоит здесь же, – видя свою красоту в зеркале, так легко быть в телефонном разговоре надменной и раскованной.
В ванную приходится брать зонтик: там потолок вообще как дуршлаг, и очень весело сидеть на унитазе под черным разлетом зонта, в который барабанят тугие холодные капли. Ветер снова отодрал пленку, которой я завесила оконный проем: какое счастье, что, когда во двор вылетела рама вместе со стеклами, внизу никто не сидел!
Это редкость – чтобы на дворовой скамейке никто не сидел. Но повезло: мы с Басей разгребали столетний мусор, я пыталась вымыть окно в ванной, а оно просто раскрошилось под пальцами и полетело вниз. Несколько секунд ужаса в ожидании крика снизу – нет-нет, обошлось, никого не было. Счастье.
А как я принимаю душ! Господи, как я принимаю душ: это экзотика, это песня и поэзия. На улице зима, холод промозглый и собачий, а я стою в ванной с целлофановой пленкой – вместо стекла! – закрывающей дырку – вместо окна! – и лью на себя горячую воду ковшиками – вместо душа.
Что за проклятие на мне замысловатое: чтобы мыться вечно в холоде и ковшиками.
В маленькой комнатке раньше был мамин кабинет. Полки, стол, микроскоп. Мамины книги – биология, химия, зоология, ботаника, анатомия и физиология, генетика, атласы… Старые гербарии, кипы научных журналов, а сверху навалены мои ненавистные ноты. Я уже все протерла, но пыль, как назло, ежедневно садится такая, как будто ее не трогали целый месяц.
Дом Эшеров.
Я – Женщина в песках.
А наш сервиз? Белый, в тончайшей золотистой росписи. Я нигде больше не видела такого изящного сервиза. Моя мама не покупала драгоценности – но наши книги и красивую посуду можно было продавать на аукционах.
В доме все старое и поломанное, все на подпорках. Но все чистое – я каждый день чищу, мою, вытряхиваю, стираю, я стараюсь продлить жизнь дому моего детства.
А может быть, он уже давно мертв? Здесь бродят воспоминания о счастливом прошлом, и они создают иллюзию надежды, что когда-нибудь этот дом снова станет молодым, светлым, полным шума, вкусных запахов, топота гостей, детских воплей, и кто-нибудь новый, так же как я когда-то, будет смотреть на полоску моря, цветущие китайские розы вдоль тротуаров и надуваться счастьем.
Я не хочу сдаваться. Дом, ты слышишь меня?! Мы с тобой вдвоем все преодолеем, не отвергай меня! Я так люблю тебя, я так была здесь счастлива. Больше нигде и никогда я не буду так счастлива, потому что нигде не будет этого двора с акацией, цветущей розовыми пушистыми шариками, а со стороны улицы – армянской церкви и магнолий, полных галдящих воробьев.
Ночью проснулась в мокрой постели.
Нет, я не описалась. С потолка начало лить и в спальне, и крышу я не починю. Прощай, дом, окончательно и бесповоротно. И не проси прощения – ты меня предал.
У вас дома есть павлинье перо, выдранное из хвоста несчастной птицы на бульваре. Но балконе стоит сушилка для белья – или натянута веревка под навесом, но кухне есть противень для ачмы, а по всему дому стоят антикомариные средства, доже зимой.
Такое-то число такого-то месяца.
Фламинго
Флирт с Феллини приобрел размах и стабильность.
Этот Феллини меня так бесит, что каждый вечер я ему подробно объясняю, почему нам не стоит встречаться. Он меня вроде бы слушает, насвистывая и доводя до полного озверения, я выхожу вон и так хлопаю дверцей, что машина приседает и крякает.
Однако же наутро я ищу его глазами, и он тут как тут: все-таки мы работаем вместе, и все повторяется заново.
На работе все кипит и потрескивает, бегают толпы молодежи с кассетами, платят нам опять гроши, но магия экрана снимает все вопросы: только бы не отнимали эти чудесные бдения в монтажной, волшебные минуты в студии, каждый выход в эфир – как полет на Луну!
С таким энтузиазмом можно было и «Парамаунт Пикчерс» основать.
Феллини – особый случай среди сотрудников. Он мэтр и сноб, его не очень любят, но все хотят с ним работать. С Генрихом, например, все хотели дружить, а вот насчет его работы я ничего не помню.
На днях прибежала на работу взмыленная, думала, что опоздала, ан нет – никому до меня нет дела, потому что скандал: одну из наших журналисток изнасиловал начальник охраны Бабуина.
Весь коллектив собрался на лестнице и многоглаво и многогласно трубит призывы куда-то идти и что-то взорвать.
Подруга несчастной жертвы насилия в сотый раз художественно рассказывает, что та почти сошла с ума и уже на грани суицида, и сама же и голосит навзрыд.
Женщины взвывают.
Мужчины курят и покачивают головами – кто на ней, бедной, теперь женится?!
Работа встала колом, иду в кабинет к Феллини.
Он сидит, задрав ноги на стол, и задумчиво курит, перебирая бумажки.
– Ты в курсе, что происходит?! – возбужденно расколошмачиваю его уединение.
Он смотрит не видя, весь где-то в хитросплетениях монтажа.
– Изнасиловали твою журналистку, которая сюжеты делала по порту, – с упреком сообщаю я.
Феллини, чтоб ты оглох.
– Отличная репортерша, в два счета все освоила, – роняет он, я в полном бессилии беру из его пачки сигарету.
Что это за человек такой?!
Эрос, насилие, страсти! А ему хоть бы что.
Ночью мне приснился сон: я лечу над вечерним морем, небо еще слегка окрашено лососевым с западного края, берегов не видно – кругом вода, гладкая, как пруд, я лечу невысоко – примерно в трех метрах над водой, с бешеной скоростью, меня распирает чувство радости и предвкушения чего-то важного, что должно вот-вот случиться.
И вдруг я на корабле, старинной резной каравелле, экипажа нет, я одна, нужно как-то двигаться вперед, и с небес на палубу внезапно опускается стая фламинго. У меня в руках ворох шелковых лент, я швыряю их, как лассо, они разворачиваются и захлестывают этих фламинго, как верховых лошадей.
Птицы разом раскрывают крылья, испуская мягкий розовый свет, взлетают в небо и тянут мой корабль вперед с невероятной скоростью.
Где-то там, на краю неба, меня ждет долгожданное счастье, и я скольжу над темной водой, наполненная предчувствием, как парус, и, проснувшись, я думаю о Феллини. Впервые за много лет – не о Генрихе! Почему я называю их по кличкам?!
Дельфины – ваши любимые животные, даже если вы никогда не видели их живьем.
Такое-то число такого-то месяца.
Феноменология городка Б.
Сколько ни составляй списки, все равно остаются темы, которые требуют развернутого ответа.
Например – классификация женщин городка Б.
С того момента, как я в полной мере осознала собственную гендерную принадлежность, я стала разделять представительниц своего пола на две категории (дихотомия вообще самая удобная штука для классификации): те, кто легко выходит замуж, и те, кто выходит замуж с трудом.
Базис, как совершенно очевидно, составляет нерушимая логическая схема: женщина плюс неизбежность равно замуж. Альтернативы нет.
Вернее, есть, но она за пределами социальной адаптации – если женщина не выходит замуж и даже не стремится к этому, то ее будущее:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































