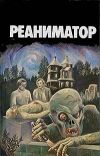Текст книги "Свет в августе. Деревушка. Осквернитель праха (сборник)"
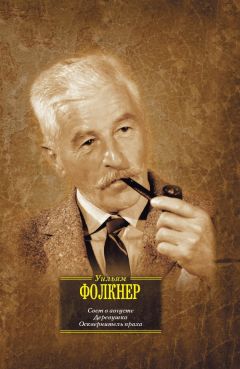
Автор книги: Уильям Фолкнер
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 68 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
– Да, – сказала она. – Тебя примут. Любая из них примет. За мой счет. Можешь выбрать из них любую. Нам даже не придется платить.
– В школу, – повторил его язык. – В школу для нигеров. Мне.
– Да. А потом поедешь в Мемфис. Можешь изучать право в конторе Пиблса. Он тебя обучит. Тогда ты сможешь взять на себя все юридические дела. Все, что вот здесь, – все, чем занимается он, Пиблс.
– А потом изучать право в конторе нигера-адвоката, – сказал его язык.
– Да. Тогда я передам тебе все дела, все деньги. Целиком. Так что когда тебе самому понадобятся деньги, ты сможешь… ты сумеешь распорядиться; юристы знают, как это сделать, чтобы… ты поведешь их к свету, и никто не сможет обвинить или упрекнуть тебя, даже если узнают… даже если бы ты не вернул… но ты бы мог вернуть деньги, и никто бы даже не узнал…
– Нет – в негритянский колледж? к нигеру-адвокату? – произнес его голос спокойно и не как возражение даже – просто напоминая. Они не глядели друг на друга; она ни разу не взглянула на него с тех пор, как он вошел.
– Скажи им.
– Сказать нигерам, что я сам нигер?
Наконец она посмотрела на него. Лицо у нее было спокойное. Теперь это было лицо пожилой женщины.
– Да. Придется. Чтобы с тебя не брали денег. За мой счет.
Тут он будто приказал своему языку: «Хватит. Хватит молоть. Дай мне сказать». Он наклонился к ней. Она не шевелилась. Их лица почти соприкасались: одно – холодное, мертвенно-бледное, фанатичное, безумное; другое – пергаментное, издевательски и беззвучно ощерившееся. Он тихо сказал:
– Ты старая. Раньше я не замечал. Старуха. У тебя седина в волосах. – Она ударила его сразу, ладонью, не меняя позы. На шлепок пощечины его удар отозвался как эхо. Он ударил кулаком, потом под вновь налетевшим на него протяжным ветром сдернул ее со стула, притянул к себе, глядя в неподвижное, бестрепетное лицо – и понимание рушилось на него протяжным ветром. – Нет у тебя никакого ребенка, – сказал он. – И никогда не было. Ничего с тобой не случилось, кроме старости. Ты просто стала старая, и у тебя кончилось – и ни на что ты больше не годишься. Вот и вся твоя неисправность. – Он отпустил ее и ударил снова. Она повалилась на кровать, глядя на него, а он снова ударил ее по лицу и стоял над ней, выплевывая слова, которые она так любила когда-то слушать и говорила, что ощущает их там – шепотную, непотребную ласку. – Вот и все. Ты просто сносилась. Ты больше ни на что не годна. Вот и все.
Она лежала на боку, повернув к нему лицо с окровавленным ртом, и глядела на него.
– Лучше бы нам обоим умереть, – сказала она.
Он видел записку на одеяле, как только открывал дверь. Потом он подходил, брал ее и разворачивал. Полый заборный столб теперь вспоминался как что-то из чужих рассказов, как что-то из другой жизни, которой он никогда не жил. Потому что бумага, чернила, форма и вид были те же. Записки никогда не были длинными; не были длинными и теперь. Но теперь ничто не напоминало в них о немом обещании, о радостях, не облачимых в слова. Теперь они были кратки, как эпитафии, и сжаты, как команды.
Первое его побуждение было – не идти. Он думал, что у него не хватает духу пойти. Потом понял, что у него не хватает духу не пойти. Теперь он не переодевался. В пропотевшем комбинезоне он нырял в поздние майские сумерки и появлялся на кухне. Стол для него больше не накрывали. Иногда он смотрел на него, проходя мимо, и думал: «Господи. Когда же я мог сесть и спокойно поужинать?» И не мог вспомнить.
Он входил в дом и поднимался по лестнице. Еще по дороге слышал ее голос. Голос становился громче по мере того, как он поднимался и подходил к двери в спальню. Дверь – закрыта, заперта; монотонный голос слышался из-за нее. Он не мог разобрать слов; только монотонное гудение. У него не хватало духу разобрать слова. У него не хватало духу понять, чем она занята. И он стоял и ждал, и немного погодя голос обрывался, она отпирала дверь, и он входил. Проходя мимо кровати, он бросал взгляд на пол, ему казалось, что он различает отпечатки колен, и он сразу отводил глаза, как будто увидел смерть.
Обычно лампа еще не горела. Они не садились. Они опять разговаривали стоя, как два года назад – стоя в потемках, и голос ее заводил старую песню: «…ну тогда не в школу, если ты не хочешь… Можно обойтись без этого… О своей душе. Искупление…» И он, холодный, неподвижный, ждал, когда она закончит: «…ад… вечные, вечные муки…»
– Нет, – говорил он. И она выслушивала его так же спокойно, а он знал, что не переубедил ее, и она знала, что не переубедила его. Но ни он, ни она не сдавались; хуже того: не оставляли друг друга в покое; он даже не уходил. И стояли в тихой полутьме, населенной, словно потомством их, несметными тенями былых грехов и наслаждений, обратив друг к другу неподвижные, съедаемые мраком лица, усталые, опустошенные и непокорные.
Потом он уходил. И пока не хлопнула дверь, не лязгнул засов за спиной, до него доносился голос, монотонный, спокойный, отчаянный, говоривший о том и с тем, о чем и о ком у него не хватало духу узнать и догадаться. И три месяца спустя, в ту августовскую ночь, когда он сидел под деревьями заглохшего парка и слышал, как часы на суде в двух милях отсюда пробили десять, а потом одиннадцать, ум его уже был опрокинут спокойным убеждением, что он – безропотный слуга рока, в который, как ему казалось, он не верил. Он говорил себе Я должен был это сделать – уже в прошедшем времени – Я должен был это сделать. Она сама так сказала
Она сказала это две ночи назад. Он нашел записку и отправился к ней. По мере того как он поднимался по лестнице, монотонный голос делался громче, звучал громче и яснее, чем обычно. Когда он взошел наверх, он увидел почему. Дверь на этот раз была раскрыта, а она продолжала стоять на коленях у кровати и не поднялась при его появлении. Она не шелохнулась; голос ее не смолк. Головы она не склонила. Ее лицо было поднято почти гордо, словно сама эта каноническая поза унижения родилась из гордости, и голос ее в сумерках звучал спокойно – спокойно, невозмутимо, самоотреченно. Она как будто не замечала, что он вошел, покуда не закончила фразы. Тогда она обернулась.
– Стань со мной на колени, – сказала она.
– Нет, – сказал он.
– Стань на колени, – сказала она. – Тебе даже не надо будет говорить с Ним самому. Только стань на колени. Сделай только первый шаг.
– Нет, – сказал он. – Я ухожу.
Она не пошевелилась, смотрела на него снизу, через плечо.
– Джо, – сказала она, – ты останешься? Хоть это ты сделаешь?
– Да, – сказал он. – Я останусь. Только давай быстрее.
Она снова стала молиться. Она говорила тихо, все с той же гордостью унижения. Когда нужно было употребить особые слова, которым научил ее он, она их употребляла – произносила решительно и без запинки, разговаривая с Богом, как будто Он мужчина и находится в компании двух других мужчин. Она говорила о себе и о нем, как о двух посторонних людях, – голосом спокойным, монотонным, бесполым. Потом умолкла. Тихо поднялась. Они стояли в сумерках лицом к лицу. На этот раз она даже не задала вопроса; ему даже не пришлось отвечать. Немного погодя она тихо сказала:
– Тогда остается только одно.
– Остается только одно, – отозвался он.
«Теперь все сделано, все кончено», – спокойно думал он, сидя в черном кустарнике и слушая, как замирает вдали последний удар часов. Это было место, где он поймал ее, нашел два года назад, в одну из тех безумных ночей. Но то было в другие времена, в другой жизни. Теперь здесь была тишь, покой, и тучная земля дышала прохладой. В тишине роились несметные голоса из всех времен, которые он пережил – словно все прошлое было однообразным узором. С продолжением: в завтрашнюю ночь, во все завтра, которые улягутся в однообразный узор, станут его продолжением. Он думал об этом, тихо изумляясь: продолжению, несметным повторам – ибо все, что когда-либо было, было таким же, как все, что будет, ибо будет и было завтра будут – одно и то же. Пора настала.
Он поднялся с земли. Вышел из тени, обогнул дом и вошел на кухню. Дом был темен. Он не заходил в хибарку с раннего утра и не знал, оставила ли она ему записку, ждет его или нет. Однако о тишине он не заботился. Он как будто не думал о сне, спит она или нет. Он не спеша поднялся по лестнице и вошел в спальню. Почти сразу послышался ее голос с кровати:
– Зажги лампу.
– Для этого света не понадобится, – сказал он.
– Зажги лампу.
– Нет, – сказал он. Он стоял над кроватью. Бритву держал в руке. Но еще не открытую. А она больше ничего не сказала, и тогда его тело словно ушло от него. Оно подошло к столу, руки положили бритву на стол, отыскали лампу, зажгли спичку. Она сидела на кровати, спиной к изголовью. Поверх ночной рубашки на ней была шаль, стянутая на груди. Руки сложены поверх шали, прячутся в складках. Он стоял у стола. Они смотрели друг на друга.
– Ты станешь со мной на колени? – сказала она. – Я не прошу.
– Нет, – сказал он.
– Я не прошу. Это не я тебя прошу. Стань со мной на колени.
– Нет.
Они смотрели друг на друга.
– Джо, – сказала она, – в последний раз. Я не прошу. Запомни это. Стань на колени.
– Нет, – сказал он. И тут увидел, как руки ее разошлись и правая рука вынырнула из-под шали. Она держала старинный, простого действия капсюльный револьвер, длиной почти с небольшое ружье, только более тяжелый. Но его тень и тень ее руки на стене нисколько не колебались – обе чудовищные, и над ними чудовищная тень взведенного курка, загнутого назад и злобно настороженного, как головка змеи; курок тоже не колебался. И в глазах ее не было колебания. Они застыли, как черное кольцо револьверного дула. Но жару, ярости в них не было. Они были недвижны и спокойны, как сама жалость, как само отчаяние, как сама убежденность. Но он за ними не следил. Он следил за тенью револьвера на стене; следил, когда настороженная тень курка спорхнула.
Стоя посреди дороги с поднятой рукой в лучах приближающихся фар, он тем не менее не ожидал, что машина остановится. Но она остановилась – с почти комичной внезапностью, взвизгнув и клюнув носом. Машина была маленькая, старая и помятая. Когда он подошел к ней, ему показалось, что два молодых лица в отраженном свете фар плавают, как два блеклых и оторопелых воздушных шара – ближнее, девичье, бессильно откачнулось в ужасе. Но тогда Кристмас этого не заметил.
– Ну что, подвезете, куда сами едете? – сказал он. Они не произнесли ни звука, глядели на него с немым и непонятным ужасом, которого он не замечал. Тогда он открыл заднюю дверь и влез.
Когда он сел, девушка начала сдавленно подвывать, и вой с минуты на минуту обещал стать громче – когда страх, так сказать, наберется храбрости. Машина уже ехала; она словно прыгнула вперед, а юноша, не снимая рук с руля, не поворачивая головы, шипел девушке: «Тише! Замолчи! Это единственное спасение. Ты замолчишь или нет?» Кристмас и этого не слышал. Он сидел сзади и даже не подозревал, что впереди него царит ужас. Только мелькнула мысль, что больно лихо гонит парень по такому узкому проселку.
– Куда эта дорога? – сказал он.
Юноша ответил ему, назвав тот же город, который назвал ему негритянский парнишка три года назад, когда он впервые увидел Джефферсон. Голос у юноши был какой-то пустой, шелестящий.
– Вам туда, начальник?
– Ладно, – сказал Кристмас. – Да. Да. Годится. Мне это подходит. Вы туда?
– Конечно, – сказал юноша пустым, глухим голосом. – Куда скажете. – Снова девушка рядом с ним начала придушенно, вполголоса подвывать, как маленькое животное; снова юноша зашипел на нее, деревянно глядя вперед на дорогу, по которой мчалась, подскакивая, машина: – Тс-с! Тише. Тс-с! Тс-с! – Но Кристмас и тут ничего не заметил. Он видел только два молодых одеревенелых затылка на фоне яркого света, в который влетала, мелькая и болтаясь, лента дороги. Но и на них и на мелькающую дорогу он смотрел без всякого интереса; даже когда до него дошло, что юноша уже довольно давно разговаривает с ним, он остался безучастен; много ли они проехали и где находятся, он не знал. Теперь юноша говорил медленно, повторяя одно и то же, подыскивая слова попроще и стараясь произносить их раздельно и ясно, как будто объяснялся с иностранцем.
– Послушайте, начальник. Когда я тут сверну. Это просто короткая дорога. Срежем – и на хорошую дорогу. Я поеду напрямик. Тут можно срезать. Там дорога лучше. Чтобы нам быстрее доехать. Понимаете?
– Ладно, – сказал Кристмас. Машина неслась и подскакивала, кренясь на поворотах, взлетала на пригорки и низвергалась с них так, как будто из-под нее уходила земля. Столбы с почтовыми ящиками влетали в свет фар и мелькали мимо. Изредка попадался темный дом. Юноша говорил:
– Вот сейчас этот поворот, про который я вам говорил. Вот прямо здесь. Я туда сверну. Но это не значит, что мы съезжаем с дороги. Я просто возьму наискосок, там дорога лучше. Понимаете?
– Ладно, – отозвался Кристмас. Потом, неизвестно почему, сказал: – Вы, наверно, где-нибудь здесь живете.
Теперь заговорила девушка. Она резко обернулась – ее маленькое личико было серым от тревоги и ужаса, слепого крысиного отчаяния.
– Да! – крикнула она. – Мы оба! Вон там! И когда мой папа и братья… – Ее голос смолк, оборвался; Кристмас увидел, что ладонь юноши зажала ей рот, а она пытается отодрать ее; под ладонью придушенно булькал ее голос. Кристмас подался вперед.
– Здесь, – сказал он. – Здесь выйду. Здесь меня можете высадить.
– Это все ты! – тоже взвизгнул юноша, так же исступленно и отчаянно. – Если бы ты молчала…
– Останови машину, – сказал Кристмас. – Я вам ничего не сделаю. Я просто хочу выйти. – Снова машина резко затормозила, присев на передние колеса. Но мотор продолжал реветь, и машина прыгнула вперед раньше, чем он сошел с подножки; ему самому пришлось прыгнуть и пробежать несколько шагов, чтобы не упасть. При этом что-то тяжелое и твердое ударило его в бок. Машина уходила на предельной скорости, исчезала. До него долетал пронзительный вой девушки. Наконец машина пропала; снова опустилась темнота, и уже неосязаемая пыль, и тишина под летними звездами. Удар в бок, нанесенный неизвестным предметом, оказался довольно чувствительным; теперь Кристмас обнаружил, что предмет этот соединен с правой рукой. Он поднял руку и увидел, что в ней зажат старинный, тяжелый револьвер. Он не знал, что держит его; не помнил, как взял его и зачем. Но он был тут. «А я махал машине правой рукой, – подумал он. – Неудивительно, что они…» Он замахнулся, чтобы бросить револьвер, лежавший на ладони. Потом передумал, зажег спичку и осмотрел его под слабым, замирающим светом. Спичка догорела и погасла, но он как будто еще видел эту старинную штуку с двумя заряженными камерами: той, по которой курок ударил, но не взорвал заряда, и той, до которой очередь не дошла. «Для нее и для меня», – сказал он. Рука развернулась и бросила. Он услышал, как хрустнуло в кустах. Опять стало тихо. «Для нее и для меня».
13
Не прошло и пяти минут с тех пор, как деревенский заметил пожар, а люди уже начали собираться. Те, кто тоже ехал на субботу в город, тоже останавливались. Те, кто жил по соседству, приходили пешком. Это был район негритянских халуп, истощенных, замаянных полей, где целый наряд сыщиков не выискал бы и десятка людей любого пола и возраста – и тем не менее вот уже полчаса люди возникали как из-под земли, партиями и группами, от одного человека до целых семей. И все новые приезжали из города на блеющих разгоряченных машинах. Среди них прибыл и окружной шериф – толстый уютный человек добродушного вида и хитрого трезвого ума – и растолкал зевак, которые столпились вокруг трупа на простыне и глядели на него оторопело, с тем детским изумлением, с каким взрослые созерцают свой будущий портрет. Среди них попадались и янки, и белая голь, и даже южане, которые пожили на Севере и рассуждали вслух, что это – натуральное негритянское преступление, совершенное не негром, но неграми, и знали, верили и надеялись, что она вдобавок изнасилована: по меньшей мере раз до того, как ей перерезали горло, и по меньшей мере раз – после. Шериф подошел, взглянул на тело, а затем велел его убрать, спрятать несчастную от чужих глаз.
И теперь им смотреть было не на что – кроме как на место, где лежало тело, и на пожар. А вскоре никто уже не мог вспомнить точно, где лежала простыня, какой клочок земли закрывала, и смотреть оставалось только на пожар. Вот они и смотрели на пожар – с первобытным изумлением, которое пронесли с собой от зловонных пещер, где родилось знание, – словно вид огня был так же нов для них, как вид смерти. Затем браво прикатила пожарная машина, с шумом, звоном и свистками. Она была новенькая, красная, раззолоченная, с ручной сиреной и колоколом золотого цвета и невозмутимого, надменного, гордого тона. Мужчины и молодые люди без шляп висели на ней гроздьями – с тем поразительным пренебрежением к законам физики, которое отличает мух. Она была снабжена механическими лестницами, которые выскакивают на недосягаемую высоту при одном прикосновении руки, как шапокляки; только здесь им было некуда выскакивать. Ее пожарные рукава, свернутые чистенькими аккуратными кольцами, напоминали рекламы телефонного треста в ходовых журналах; но не на что было насадить их и нечего по ним качать. И мужчины без шляп, покинувшие свои прилавки и конторки, ссыпались с нее, включая даже того, который вертел сирену. Они подошли, им показали несколько разных мест, где якобы лежала простыня, и некоторые из них, уже с пистолетами в карманах, начали агитировать в том смысле, чтобы кого-нибудь казнить.
Но никого подходящего не было. Она жила так тихо, настолько не вмешивалась в чужие дела, что город, где она родилась и жила и умерла иноплеменницей, чужеземкой, был этим навсегда изумлен и оскорблен, и хотя она подарила им душевную масленицу, зрелище почище хлеба, они никак не могли простить ее, отпустить ее с миром, мертвую оставить в покое. Нет. Покой не так доступен. И вот они толклись, собирались кучками, веря, что пламя, кровь, тело, которое умерло три года назад и только что начало жить снова, вопиют об отмщении – не веря, что яростный восторг пламени и недвижность тела свидетельствуют, что достигнут берег, недоступный для человеческого вреда и боли. Нет. Потому что другое для веры слаще. Занятнее, чем полки и прилавки с давно знакомыми предметами, купленными не потому, что владелец мечтал о них, восхищался ими или радовался обладанию, а чтобы хитростью продать их ради барыша – а на предметы, которых еще не продал, и на людей, которые могли бы их купить, но еще не купили, поглядывает со злостью, а то и с негодованием, а то и с отчаянием. Занятнее, чем затхлые кабинеты, где ждут адвокаты, притаившись среди призраков давней лжи и вожделений, или где ждут доктора с хитрыми ножами и хитрыми снадобьями и внушают человеку – веря, что он им поверит, не обратившись к печатным наставлениям, – будто хлопочут только о том, чтобы в конце концов оставить себя без работы. Собирались и женщины, праздные, в яркой, а иногда и поспешно накинутой одежде, с потайным и горячим блеском в глазах и томящимися без пользы грудями (им смерть всегда была милей покоя), чтоб в неумолчный ропот Кто убил? Кто убил? впечатывать бесчисленными твердыми каблучками что-нибудь вроде Его еще не поймали? А-а. Не поймали? Не поймали?
Шериф тоже смотрел на пожар с удивлением и досадой: место преступления не доступно осмотру. Он еще не осознал, что обязан этой неудачей человеческому вмешательству. Виноват был огонь. Ему казалось, будто огонь самозародился специально для этой цели. Ему казалось, будто стихия, благодаря которой его предки смогли продержаться на земле так долго, что породили наконец его, вступила в сговор с преступлением. И вот он озадаченно и раздраженно расхаживал вокруг этого непростительного монумента, чьим цветом был цвет надежды и одновременно катастрофы, покуда не появился его помощник и не сказал ему, что обнаружил в хибарке недалеко от дома следы недавнего обитания. И тотчас же деревенский, который первым заметил пожар (он еще не доехал до города; его повозка не продвинулась ни на вершок с того места, где он слез с нее два часа назад, и теперь он толкался среди зрителей, встрепанный, с отупевшим, изнуренным и горячечным лицом, размахивая руками и не владея голосом, севшим почти до шепота), вспомнил, что, когда он ворвался в дом, там был человек.
– Белый? – спросил шериф.
– Да. Мотался по передней, как будто только что слетел с лестницы. Все не пускал меня наверх. Говорит, что уже ходил туда и никого там нет. А когда я спустился, его уже не было.
Шериф оглядел стоявших рядом.
– Кто жил в хибарке?
– Я и не знал, что там жили, – сказал помощник. – Нигеры небось. Послушать про нее – так она их, нигеров, и в дом могла пустить. Удивляюсь только, почему они раньше этого не сделали.
– Приведите мне нигера, – сказал шериф. Помощник и еще двое-трое привели ему нигера. – Кто жил в этой хибарке? – спросил шериф.
– Я не знаю, мистер Уатт, – сказал негр. – Я внимания не обращал. Я и не знал, что там люди жили.
– Давайте-ка его туда, – сказал шериф.
Вокруг шерифа, помощника и негра постепенно собирались неотличимые друг от друга лица с алчными глазами, в которых самые настоящие отпрыски пустого пламени уже подернулись дымком. Казалось, все пять их чувств соединились в одном органе глядения, как в апофеозе, а слова, носившиеся между ними, рождаются из ветра, воздуха Это он? Вот этот убил? Шериф поймал его. Шериф уже схватил его Шериф посмотрел на них.
– Уходите, – сказал он. – Все. Подите посмотрите на пожар. Если мне понадобится помощь, я вас позову. Давайте отсюда.
Он повернулся и повел помощников с негром к хибарке. Отвергнутые стояли кучкой позади и наблюдали, как трое белых с негром входят в хибарку и закрывают за собою дверь. А позади них, в свою очередь, пламя доедало дом, наполняя воздух гудением – не более громким, чем голоса, но совсем не таким ниоткудошным Если это он, то какого черта мы стоим и ждем. Убил белую женщину, черная сволочь… Ни один из них никогда не бывал в этом доме. При ее жизни они не позволяли женам к ней ходить. А когда были помоложе – мальчишками (кое у кого и отцы в свое время занимались тем же, кричали на улице ей вдогонку: «Негритянская хахальница! Негритянская хахальница!»
В хибарке шериф тяжело опустился на одну из коек. Вздохнул: человек-бочка, как бочка, грузный и неподвижный.
– Ну, я хочу знать, кто живет в этой хибарке, – сказал он.
– Я вам сказал, не знаю, – ответил негр. Он отвечал немного угрюмо, настороженно, с затаенной настороженностью. Он не спускал глаз с шерифа. Еще двое белых стояли у него за спиной, их он не видел. Он не оглядывался на них, даже украдкой. Он смотрел в лицо шерифа, как смотрят в зеркало. И, может быть, как в зеркале, увидел, что они начинают. А может, и не увидел, ибо если что и переменилось, мелькнуло в лице шерифа, то всего лишь мелькнуло. Но негр не оглянулся; только лицо его вдруг сморщилось, быстро и на один лишь миг, и вздернулись углы рта, оскалились, как в улыбке, зубы – когда ремень хлестнул его по спине. И тут же разгладилось, непроницаемое.
– Я вижу, ты не очень стараешься вспомнить, – сказал шериф.
– Я не могу вспомнить, потому что я не могу знать, – сказал негр. – Я живу-то совсем не тут. Вы же небось знаете, где у меня дом, белые люди.
– Мистер Бьюфорд говорит, что ты живешь вон там, прямо у дороги, – сказал шериф.
– У дороги мало ли кто живет. Мистер Бьюфорд, он же небось знает, где мой дом.
– Он врет, – сказал помощник. Это его звали Бьюфордом. Он и держал ремень – пряжкой наружу. Держал, изготовясь. Следя за лицом шерифа. Так легавая ждет приказа кинуться в воду.
– Может, врет; может, нет, – сказал шериф. Он созерцал негра. Под тяжестью его громадного, неповоротливого тела пружины кровати просели. – Он просто еще не понял, что я не шучу. Не говоря уже об этой публике, – у них ведь нет своей тюрьмы, чтобы спрятать его, если дело примет неприятный оборот. А если бы и была, они все равно не стали бы утруждаться.
Может быть, глаза его опять подали знак, сигнал; может быть – нет. Может быть, негр уловил это; может быть – нет. Ремень опять хлестнул, пряжка полоснула по спине.
– Еще не вспомнил? – сказал шериф.
– Там двое белых, – сказал негр. Голос у него был безучастный – ни угрюмости, ничего. – Не знаю, кто они такие и чего делали. Не наша это забота. Никогда их не видел. Просто слышал, люди говорили, что там живут двое белых. А кто они – нас не касается. Больше ничего не знаю. Хоть до смерти запорите. Больше ничего не знаю.
Шериф опять вздохнул.
– Хватит. Похоже, что так.
– Да это же, как его, Кристмас, который на фабрике работал, а другой – Браун, – сказал третий мужчина. – Да это бы вам в Джефферсоне кто угодно сказал – любого останови, от кого спиртным пахнет.
– И это похоже, что так, – сказал шериф.
Он вернулся в город. Когда толпа увидела, что шериф уезжает, начался общий исход. Как будто смотреть было больше не на что. Труп увезли, а теперь уезжал и шериф. Он будто увозил в себе, где-то внутри этой неповоротливой и вздыхающей туши, саму тайну: ту, что манила и воодушевляла их как бы намеком на что-то, кроме однообразной череды дней и разврата набитой утробы. И вот смотреть было больше не на что, кроме как на пожар; а его они уже наблюдали три часа. Они уже свыклись с ним, сроднились; он уже стал неотъемлемой частью их жизни, не только переживаний, – увенчанный в безветрии столбом дыма, неколебимым, как памятник, к которому можно вернуться в любую минуту. Поэтому, когда их караван достиг города, в нем было что-то от надменной чопорности похоронного кортежа: автомобиль шерифа – в голове, остальные – гудят и блеют позади, в тучах совместно поднятой пыли. На перекрестке возле площади их задержала на минуту повозка, остановившаяся, чтобы выпустить пассажира. Выглянув из окна, шериф увидел молодую женщину, вылезавшую из повозки медленно и осторожно – с неуклюжей осторожностью женщины на сносях. Затем повозка отъехала; караван двинулся дальше и пересек площадь, где кассир в банке уже вынул из сейфа конверт, который был оставлен ему на хранение покойной – с надписью: Открыть после моей смерти. Джоанна Берден. Когда шериф вошел к себе в кабинет, кассир уже ждал там с конвертом и его содержимым. Оно состояло из одного листка бумаги, на котором той же рукой, что и на конверте, было написано: Оповестить адвоката И. И. Пиблса – Бийл-стрит, Мемфис, Теннесси, и Натаниэля Беррингтона – Сент-Эксетер, Нью-Гемпшир. И больше ничего.
– Этот Пиблс – нигер-адвокат, – сказал кассир.
– Вон что? – сказал шериф.
– Ага. Что прикажете делать?
– Да, наверно, то, что в бумаге сказано, – ответил шериф. – Или, пожалуй, я сам это сделаю.
Он отправил две телеграммы. Ответ из Мемфиса был получен через полчаса. Другой пришел двумя часами позже; затем в течение десяти минут по городу разнесся слух, что нью-гемпширский племянник мисс Берден предлагает тысячу долларов за поимку убийцы. В девять вечера явился человек, которого увидел деревенский, когда вломился в горевший дом. Но они еще не знали, что он – тот самый. Он им этого не сказал. Они знали только, что человек, который недавно поселился в городе и был известен среди них как бутлегер Браун, да и бутлегер-то не первой руки, появился на площади очень взволнованный и спрашивал шерифа. И тогда все начало мало-помалу складываться. Шериф знал, что Браун как-то связан с другим человеком, другим приезжим – Кристмасом, о котором, хотя он прожил в Джефферсоне три года, было известно еще меньше, чем о Брауне; только теперь шериф выяснил, что Кристмас три года прожил в хибарке за домом мисс Берден. Браун желал высказаться, требовал, чтобы ему дали высказаться, громко и настойчиво; сразу стало ясно, что требует он, оказывается, тысячу долларов премии.
– Хочешь стать свидетелем обвинения? – спросил его шериф.
– Никем я не хочу стать, – возразил Браун грубо и хрипло, с несколько ошалелым видом. – Я знаю, кто убил, и скажу, когда получу деньги.
– Ты поймай того, кто убил, тогда получишь деньги, – сказал шериф. И Брауна отвели в тюрьму, для сохранности. – Только, думается, это лишнее, – сказал шериф. – Думается, пока тут пахнет этой тысячей, его отсюда не выкуришь. – Когда Брауна забрали – он все сипел, негодовал, размахивал руками, – шериф позвонил в соседний город, где держали пару ищеек. Собак обещали привезти ранним утренним поездом.
Когда печально забрезжило воскресное утро, над унылой платформой, где ждали тридцать или сорок человек, замелькали и, дрожа, остановились на несколько мгновений освещенные окна поезда. Поезд был скорый и не всегда останавливался в Джефферсоне. Он задержался ровно настолько, сколько надо было, чтобы выпустить двух собак: тысяча тонн дорогих и замысловатых изделий из металла со свирепым сверканием и грохотом ворвалась и уткнулась в почти оглушительную тишину, наполненную пустячными людскими звуками, чтобы изрыгнуть двух поджарых раболепных призраков, чьи вислоухие кроткие лица печально и приниженно смотрели на усталые, бледные лица людей, которые почти не спали с позапрошлой ночи и окружили собак в каком-то жутком и бессильном нетерпении. Казалось, скверна убийства распространилась и на все последующие действия, превратила их во что-то чудовищное, парадоксальное, противное и разуму и природе.
Когда шерифово ополчение миновало холодные головешки и золу пожарища и подошло к хибарке, солнце только что показалось. Собаки, то ли осмелев от солнечного света и тепла, то ли заразившись от людей лихорадкой погони, возле хибарки начали брехать и рваться. Нюхая шумно и в унисон, они взяли след и потащили на поводках человека. Пробежав бок о бок сотню метров, они остановились, начали яростно разрывать землю и отрыли ямку, где кто-то недавно закопал пустые консервные банки. Собак оттащили оттуда. Отвели подальше от хибарки и пустили снова. Собаки немного пометались, поскулили, а потом снова напали на след и припустили во весь дух, вывесив языки, капая слюной, таща, волоча за собой людей, которые бежали и честили их, – опять к хибарке, и там, расставя ноги, откинув головы, закатив глаза, залились перед пустой дверью страстно и самозабвенно, как два баритона в итальянской опере. Люди отвезли собак обратно в город – на машинах – и накормили. Когда они шли через площадь, в церквах уже медленно и мирно звонили колокола, а по улицам чинно двигались люди под светлыми зонтиками, с Библиями и молитвенниками в руках.
В эту ночь к шерифу приехал деревенский парень с отцом. Парень рассказал, как в пятницу ночью ехал на машине домой и как в нескольких милях от места преступления его остановил мужчина с пистолетом. Парень полагал, что его хотели ограбить и даже убить, и решил перехитрить этого человека – привезти его прямо к себе на двор, а там остановить машину, выскочить и позвать на помощь, но человек что-то заподозрил, велел остановить машину и вылез. Отец поинтересовался, сколько из этой тысячи долларов придется на их долю.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?