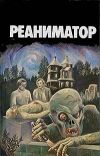Текст книги "Свет в августе. Деревушка. Осквернитель праха (сборник)"
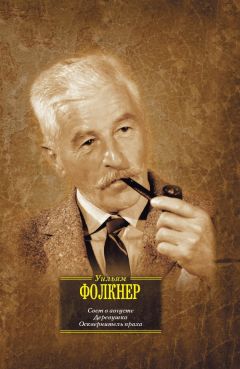
Автор книги: Уильям Фолкнер
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 68 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
14
– Там в хибарке кто-то есть, – сказал шерифу помощник. – Не прячется – живет там.
– Поди посмотри, – сказал шериф.
Помощник сходил и вернулся.
– Женщина. Молодая женщина. И расположилась, похоже, надолго. А Байрон Банч в палатке обосновался: от нее – как отсюда примерно до почты.
– Байрон Банч? – говорит шериф. – Что за женщина?
– Не знаю. Нездешняя. Молодая. Все мне рассказала. Я еще порога не переступил, как она начала рассказывать – словно речь заготовила. Словно уже привыкла рассказывать, втянулась. И думаю, правда привыкла, пока шла сюда откуда-то из Алабамы, мужа разыскивала. Он якобы вперед уехал устраиваться на работу, а она за ним собралась, и по дороге ей говорили, что он здесь. А в это время вошел Байрон, говорит – я вам все расскажу. Говорит, что вам собирался рассказать.
– Байрон Банч, – повторяет шериф.
– Да, – подтверждает помощник. – Говорит, она ждет ребенка. И ждать ей недолго.
– Ребенка? – говорит шериф. Он смотрит на помощника. – Из Алабамы. Да откуда угодно. Ты мне про Байрона Банча такого не рассказывай.
– А я и не собираюсь, – говорит помощник. – Я не говорю, что он от Байрона. По крайней мере Байрон не говорит, что от него. Я вам рассказываю то, что он мне сказал.
– А-а, – говорит шериф. – Понятно. Почему она тут. Так значит – от кого-то из этих двоих. От Кристмаса. Так?
– Нет. Байрон и про это рассказал. Увел меня из дому, чтобы она не слыхала, и все выложил. Говорит, что собирался пойти и рассказать вам. Это – от Брауна. Только фамилия его не Браун. Лукас Берч. Байрон мне все рассказал. Как этот Браун или Берч бросил ее в Алабаме. Сказал ей, что едет искать работу и жилье, а потом ее вызовет. Но срок уже подходит, а от него ничего нет – ни где он, ни что он, – и она решила больше не ждать. Отправилась пешком, по дороге спрашивала, не знает ли его кто. А потом кто-то сказал, что есть такой парень, не то Берч, не то Банч, не то еще как-то, работает на строгальной фабрике в Джефферсоне, и она явилась сюда. Приехала на телеге в субботу, когда мы были на месте убийства, пришла на фабрику, и оказывается, он – не Берч, а Банч. А Байрон говорит, он не подумавши сказал ей, что муж ее – в Джефферсоне. А потом, говорит, она приперла его к стенке и заставила сказать, где Браун живет. Но что Браун или Берч замешан с Кристмасом в этом убийстве, он ей не сказал. Сказал только, что Браун отлучился по делам. И правда – чем не дело? А уж работа-то – точно. В жизни не видел, чтобы человек так сильно хотел тысячу долларов и столько ради нее терпел. Словом, она сказала, что дом Брауна, наверно, и есть тот самый, который Лукас Берч обещал ей приготовить, и переехала сюда ждать, когда Браун освободится от этих самых дел, для которых он отлучился. Байрон говорит, он не мог ей помешать – не хотел ей правду говорить о Брауне после того, как, можно сказать, наврал. Он будто бы еще раньше хотел к вам прийти и сказать, только вы его опередили, он ее и устроить как следует не успел.
– Лукас Берч? – говорит шериф.
– Я и сам удивился, – отвечает помощник. – Что вы думаете с ними делать?
– Ничего, – говорит шериф. – Я думаю, они там никому не помешают. Дом не мой – не мне их и выгонять. И, как ей Байрон правильно сказал, Берч, или Браун, или как там его, пока что будет довольно сильно занят.
– А Брауну вы скажете про нее?
– Пожалуй, нет, – отвечает шериф. – Это не мое дело. Я не занимаюсь женами, которых он бросил в Алабаме или где-нибудь еще. Я мужем занимаюсь, которым он, кажется, обзавелся у нас в Джефферсоне.
Помощник гогочет.
– Вот ведь, действительно, – говорит он. Потом остывает, задумывается. – Если он свою тысячу не получит, ведь он, поди, просто умрет.
– Умрет – вряд ли, – отвечает шериф.
В три часа ночи, в среду, в город на неоседланном муле приехал негр. Он вошел к шерифу в дом и разбудил его. Явился он из негритянской церкви в двадцати милях отсюда, прямо с еженощного радения. Накануне вечером посреди гимна сзади раздался страшный грохот, и прихожане, обернувшись, увидели человека, стоявшего в дверях. Дверь была не заперта и даже не затворена, но человек, по-видимому, рванул за ручку и так хватил дверью о стену, что звук этот прорезал слаженное пение, как пистолетный выстрел. Затем он быстро двинулся по проходу между скамьями, где оборвалось пение, к кафедре, где священник замер, так и не разогнувшись, не опустив рук, не закрыв рта. Тогда они увидели, что он белый. В густом пещерном сумраке, еще более непроглядном от света двух керосиновых ламп, люди не могли рассмотреть пришельца, пока он не достиг середины прохода. Тут они увидели, что лицо у него не черное, и где-то завизжала женщина, а сзади люди повскакали и бросились к двери; другая женщина, на покаянной скамье[36]36
…на покаянной скамье… – В некоторых протестантских церквах скамьи в первом ряду молельного дома отводятся для тех, кто хочет публично покаяться в грехе.
[Закрыть], и так уже близкая к истерике, вскочила и, уставясь на него белыми выпученными глазами, завопила: «Это дьявол! Это сам сатана!» И побежала, не разбирая дороги. Побежала прямо к нему, а он на ходу сшиб ее кулаком, перешагнул и пошел дальше, среди ртов, разинутых для крика, среди пятящихся людей, прямо к кафедре и вцепился в священника.
«А его никто не задевал, даже тут, – рассказывал гонец. – Все очень быстро получилось, никто не знал, кто он такой, и откуда, и чего ему надо. Женщины кричат, визжат, а он как схватит брата Биденбери за глотку и – с кафедры его тащить. Мы видим, брат Биденбери говорит с ним, успокоить его хочет, а он брата Биденбери трясет и бьет по щекам. Женщины визжат, кричат, и даже не слыхать, чего ему брат Биденбери говорит – только сам он его не трогал, не ударил, ничего, – тут к нему старики, дьяконы подошли, хотели поговорить, и он брата Биденбери выпустил, развернулся и старого Папу Томпсона, восьмой десяток ему, сшиб прямо под покаянную скамью, а потом нагнулся, как схватит стул, как замахнется – они и отступили. В церкви кричат, визжат, к дверям бегут. А он повернулся, влез на кафедру – а брат Биденбери пока что с другого края слез – и встал, сам грязный с головы до ног, лицо черным волосом заросло, и руки поднял, как проповедник. И как начал оттуда Бога ругать, прямо криком ругается, громче, чем женщины визжат – а люди Роза Томпсона держат. Папы Томпсона дочки сына, в нем росту шесть футов, и бритва в руке открытая, а он кричит: «Убью. Пустите, братцы. Он дедушку ударил. Убью. Пустите. Прошу, пустите», – а люди на улицу лезут, по проходу бегут, топочут, в дверь прут, а он на кафедре ругает Бога, а люди Роза Томпсона оттаскивают, а Роз все просит: пустите! Но Роза мы все-таки из церкви вытащили и спрятались в кустах, а он все кричит и ругается на кафедре. Потом он замолчал, и мы видим – подошел к двери, стоит. Тут Роза опять пришлось держать. Он, видно, услышал галдеж, когда Роза не пускали, потому что засмеялся. Стоит там в дверях, свет загораживает и смеется во всю глотку, а потом обратно начал ругаться, и видим, схватил ножку от скамейки и замахнулся. И слышим, хрясь одна лампа, в церкви потемнело, а потом слышим, другая хрясь, и совсем темно, и самого его не видать. А там, где Роза держали, опять загалдели, кричат шепотом: «Вырвался», – и слышим, Роз обратно к церкви побежал – тут дьякон Вайнс мне и говорит: «Убьет его Роз. Сигай на мула и ехай за шерифом. Расскажи все, как видал». А его никто не задевал, начальник, – сказал негр. – Как его и звать-то – не знаем. Не видели его отродясь. А Роза держать старались. Да ведь Роз – большой, а он его дедушку – кулаком, а у Роза бритва в руке открытая, и он не очень смотрел, кто еще ему под руку попадется, когда обратно в церковь рвался, к белому. А держать Роза мы старались, ей-богу».
Вот что он рассказал шерифу – ибо рассказал то, что знал. Он ускакал сразу: он не знал, что, пока он рассказывает об этом, негр Роз лежит в хижине по соседству с церковью без сознания, ибо когда он кинулся в темную уже церковь, Кристмас из-за двери проломил ему ножкой скамьи череп. Он ударил только раз, сильно, с яростью, целясь по звуку бегущих ног и по широкой тени, ринувшейся в дверь, и сразу услышал, как она рухнула на опрокинутые скамейки и затихла. И сразу же выпрыгнул из церкви на землю и замер в свободной стойке, все еще держа ножку скамьи, спокойный, даже не запыхавшийся. Ему было прохладно, он не потел; темнота веяла на него прохладой. Церковный двор – белесый серп утоптанной земли – был окружен кустарниками и деревьями. Он знал, что кустарник кишит неграми: он ощущал их взгляды. «Смотрят и смотрят, – думал он. – И не знают даже, что не видят меня». Он дышал глубоко; он обнаружил, что прикидывает ножку на вес, как бы примеряясь, по руке ли, словно никогда ее не держал. «Завтра сделаем на ней зарубку», – подумал он. Потом аккуратно прислонил ножку к стене и вынул из кармана рубашки сигарету и спички. Чиркнув спичкой, он замер и стоял, чуть повернув голову, пока разгорался крохотный желтый огонек. Услышал стук копыт. Услышал, как он начался, затем участился и постепенно утих. «На муле, – сказал он негромко. – В город, с хорошими новостями». Он закурил, бросил спичку и стоял, вдыхая дым, чувствуя прикованные к крохотному живому угольку взгляды негров. Хотя он простоял там, пока не докурил сигарету, он был начеку. Прислонившись спиной к стене, он держал в правой руке ножку скамьи. Он докурил сигарету до самого конца и щелчком отбросил ее подальше к кустам, где чуял притаившихся негров. «Держите бычка, ребята», – вдруг раздался в тишине его громкий голос. Притаившись в кустах, они видели, как сигарета, мигая, упала на землю и продолжала там тлеть. Но как он ушел и куда направился, они не видели.
На другое утро, в восемь часов, приехал шериф со своим отрядом и ищейками. Один трофей они захватили сразу, хотя собаки не имели к этому отношения. Церковь была пуста; все негры куда-то пропали. Люди вошли в церковь и молча оглядели картину разгрома. Потом вышли. Собаки сразу напали на чей-то след, но прежде чем отправиться дальше, помощник заметил на стене засунутый в трещину доски клочок бумаги. Попал он сюда, по-видимому, не случайно и, когда его развернули, оказался разорванной оберткой от сигарет, на внутренней, белой стороне которой было что-то написано. Написано коряво – то ли неумелой рукой, то ли в темноте – и немного. Одна непечатная фраза, адресованная шерифу, без подписи. «Что я вам говорил?» – сказал один из спутников шерифа. Он был небрит и грязен, как и беглец, которого они до сих пор не видели, лицо – напряженное и ошалелое от возмущения и неудач, голос – хриплый, словно в последнее время он долго кричал или говорил без умолку.
– Я вам все время говорил! Говорил ведь!
– Что говорил? – произнес шериф холодным, спокойным тоном, обратив на него холодный, спокойный взгляд и не выпуская из руки записку. – Когда говорил? – Тот смотрел на шерифа возмущенно, с отчаянием, в таком расстройстве, когда уже нет человеческих сил терпеть; глядя на него, помощник подумал: «Ведь просто умрет, если не получит свою премию». Рот у того беззвучно открылся, и на озлобленном лице выразились озадаченность, изумление, будто он не мог поверить своим ушам. – И я тебе говорил, – продолжал шериф скучным, тихим голосом, – если тебе не нравится, как я веду дело, можешь подождать в городе. Тебе там есть где подождать. И охолонуть, а то ты больно разгорячился на солнце. Говорил я тебе или нет, а? Отвечай.
Тот закрыл рот. Отвел глаза, как будто с невероятным усилием; и с невероятным усилием выдавил из пересохшего горла:
– Да.
Шериф грузно повернулся и скомкал бумажку.
– Постарайся, чтобы это больше не вылетело у тебя из головы – сказал он. – Если только есть откуда вылететь. – Их окружали спокойные, внимательные лица, освещенные утренним солнцем. – А мне в этом, если хотите знать, сам Господь Бог велит сомневаться. – Кто-то гоготнул. – Ладно шуметь, – сказал шериф. – Пошли. Пускай собачек, Бьюф.
Пошли с собаками – по-прежнему на поводках. Они сразу взяли след. След был хороший, легко различимый из-за росы. Беглец, по-видимому, и не пытался его скрыть. Они разглядели даже отпечатки его колен и ладоней там, где он опустился, чтобы попить из родника.
– Сколько видел убийц, – сказал помощник, – хоть бы у одного было понятие о людях, которые за ним погонятся. А что собак можем взять, ему, болвану, и в голову не приходит.
– Мы каждый день напускаем на него собак, начиная с субботы, – сказал шериф. – И до сих пор не поймали.
– То были остывшие следы. До нынешнего дня у нас не было хорошего свежего следа. Но сегодня он дал маху. Сегодня будет наш. Может, еще до обеда.
– Поживем – увидим, – сказал шериф.
– Увидите, – сказал помощник. – След прямой, как железная дорога. Становись да иди по нему. Вон, глядите, даже подошвы видны. Этот болван не догадался даже сойти на дорогу, в пыль, где много других следов, и собаки бы его не учуяли. Часам к десяти собачки доберутся до конца этого следа.
Что они и сделали. Вскоре след резко повернул под прямым углом. Он вывел их на дорогу, собаки, пригнув головы, провели их немного по дороге и свернули на обочину, откуда шла тропинка к хлопковому сараю в поле неподалеку. Они забрехали громкими мягкими раскатистыми голосами, начали тянуть, кружить, рваться, скуля от нетерпения.
– Ну, болван! – сказал помощник. – Сел отдохнуть: вон его следы – каблуки эти рубчатые. Он не больше чем в миле от нас! Вперед, ребята!
Двинулись дальше: собаки – натянув ремни и гавкая, люди – за ними рысцой. Шериф обернулся к небритому.
– Ну, имеешь возможность отличиться: беги вперед, хватай его, и тысяча – твоя, – сказал он. – Чего же ты?
Тот не ответил; всем сейчас было не до разговоров, запыхались – особенно после того, как, пройдя с милю за собаками, которые по-прежнему тянули и гавкали, они свернули с дороги и по тропе, змейкой взбегавшей на холм, вышли на кукурузное поле. Здесь собаки умолкли, но прыти у них не убавилось, а даже наоборот; люди уже бежали. За высокой, в человеческий рост, кукурузой стояла негритянская хибарка.
– Он здесь, – сказал шериф, вытаскивая пистолет. – Осторожней, ребята. Он тоже будет с пистолетом.
Маневр был проделан хитро и искусно: вытащив пистолеты, скрытно окружили дом, шериф, за которым следовал помощник, метнулся к хибарке и, несмотря на тучность, ловко прилип к стене в мертвом пространстве между окнами. Распластавшись по стене, он обежал угол, пинком распахнул дверь и впрыгнул с пистолетом наготове в хибарку. Там находился негритенок. Он был в чем мать родила и что-то жевал, сидя в холодной золе очага. По-видимому, он был один, хотя через секунду из внутренней двери появилась женщина и, разинув рот, выронила чугунную сковородку. На ней были мужские туфли, в которых один из отряда опознал туфли беглеца. Она рассказала им про белого человека – о том, как на рассвете у дороги он выменял у нее свои туфли на мужнины чеботы, которые были на ней. Шериф слушал.
– Это было прямо возле хлопкового сарая, так? – спросил он. Она сказала «Да». Он вернулся к своему отряду, к рвущимся с ремней собакам. Он глядел на собак, люди сперва задавали ему вопросы, а потом замолчали и только наблюдали за ним. Наблюдали, как он засунул пистолет в карман, а затем повернулся и пнул собак, каждую по разу, крепко. – Отправьте этих чертовых подхалимов в город, – сказал он.
Однако шериф был исправным служакой. Он знал не хуже своих людей, что вернется к хлопковому сараю, где, по его представлениям, все это время прятался Кристмас, – хотя знал уже, что когда они туда придут, Кристмаса не будет. Чтобы оттащить собак от хибарки, пришлось повозиться, и стояло уже яркое десятичасовое пекло, когда они осторожно, искусно, бесшумно окружили хлопковый сарай и внезапно, по всем правилам, но без особой надежды, нагрянули туда с пистолетами – и захватили врасплох удивленную и перепуганную полевую крысу. Тем не менее шериф еще располагал собаками – они вообще не желали приближаться к сараю; не желали уйти с дороги, упирались и вылезали из ошейников, магнетически оборотив головы к хибарке, откуда их только что уволокли. Двум мужчинам пришлось потрудиться на совесть, чтобы доставить их к сараю, но стоило чуть-чуть отпустить ремни, как они вскочили, будто по команде, и дернули вокруг сарая прямо по отпечаткам подошв беглеца в высоком и еще не просохшем от росы бурьяне с теневой стороны – дернули обратно к дороге, вскидываясь, налегая на ошейники, и проволокли двух мужчин метров пятьдесят, прежде чем им удалось, накинув ремни на деревца, застопорить собак. На этот раз шериф их даже не пнул.
Наконец гвалт и крики, шум и ярость погони[37]37
…шум и ярость погони… –реминисценция из монолога Макбета, давшего название роману Фолкнера «Шум и ярость»: // Жизнь – это рассказ, // Рассказанный кретином, полный шума и ярости, // Но ничего не значащий. // (Акт V, сц. V.)
[Закрыть] замирают, остаются за слухом. Шериф не угадал; когда люди с собаками проходили мимо сарая, Кристмаса там не было. Он задержался там только для того, чтобы зашнуровать чеботы: черные башмаки, черные башмаки, пропахшие негром. Кажется, они вырублены из железной руды тупым топором. Глядя на свою грубую, жесткую, корявую обувь, он произнес сквозь зубы: «Ха». Он словно увидел, как белые наконец загоняют его в черную бездну, которая ждала и пыталась проглотить его уже тридцать лет – и теперь наконец он действительно вступил в нее, неся на щиколотках четкую и неистребимую мерку своего погружения.
Светает, занимается утро: сера и пустынна, обмирает окрестность, проникнутая мирным и робким пробуждением птиц. Воздух при вдохе – как ключевая вода. Он дышит глубоко и медленно, чувствуя, как с каждым вздохом сам тает в серой мгле, растворяется в тихом безлюдье, которому неведомы ни ярость, ни отчаяние. «Это все, чего я хотел, – думает он со спокойным и глубоким удивлением. – Только этого – тридцать лет. Кажется, не так уж много прошено – на тридцать лет».
Со среды он спал мало, и вот наступила и прошла еще одна среда, но он этого не знает. Теперь, когда он думает о времени, ему кажется, что тридцать лет он жил за ровным частоколом именованных и нумерованных дней и что, заснув однажды ночью, проснулся на воле. После побега, в пятницу ночью, он сначала пытался, по старой памяти, вести счет дням. Однажды, заночевав в стогу и лежа без сна, он видел, как просыпается хутор. Перед рассветом он увидел, как в кухне зажглась желтым лампа, а потом в серой еще тьме услышал редкий, гулкий стук топора и шаги – мужские шаги среди звуков пробуждающегося скота в хлеву по соседству. Затем почуял дым и запах пищи, жгучий, жестокий запах, и начал повторять про себя С тех пор не ел. С тех пор не ел – тихо лежа в сене, дожидаясь, чтобы мужчины поели и ушли в поле, пытаясь вспомнить, сколько дней прошло с того ужина в пятницу, в джефферсонском ресторане, покуда название дня недели не стало казаться важнее, чем пища. Так что, когда мужчины наконец ушли и он спустился, вылез на свет бледно-желтого лежачего солнца и подошел к кухонной двери, он даже не спросил поесть. Он собирался. Чувствовал, как выстраиваются в уме грубые слова, протискиваются к языку. А потом к двери подошла тощая, продубленная женщина, поглядела на него, и он по ее испуганному, ошалелому взгляду понял, что она его узнала, и, думая Она меня знает. И досюда дошло услышал свой тихий голос: «Скажите, какой сегодня день? Я просто хотел узнать, какой сегодня день».
– Какой день? – Лицо у нее было такое же тощее, как у него, тело такое же тощее, такое же неутомимое и такое же измочаленное. Она сказала: – Пошел отсюда! Вторник! Пошел отсюда! Мужа позову!
Он тихо сказал: «Спасибо», – как раз когда хлопнула дверь. Потом он бежал. Он не помнил, как побежал. Одно время он думал, будто бежит к какой-то цели, которая вдруг вспомнилась в самом беге, так что уму нет нужды трудиться и вспоминать, зачем он бежит – ибо бежать было нетрудно. Даже совсем легко. Он сделался совсем легким, невесомым. Даже на полном ходу ему казалось, что ноги шарят по нетвердой земле медленно, легко и нарочно наобум – пока он не упал. Он не споткнулся. Просто повалился – все еще думая, что он на ногах, что еще бежит. Но он лежал – ничком в мелкой канавке на краю пашни. Потом вдруг сказал: «Надо бы встать». Когда он сел, оказалось, что солнце, на полпути к полудню, светит на него с противоположной стороны. Сперва он подумал, что просто повернулся кругом. Потом понял, что уже вечер. Что когда он упал на бегу, было утро, а сейчас, хотя ему показалось, что он сел сразу, – уже вечер. «Заснул, – подумал он. – Больше шести часов проспал. Наверно, уснул на бегу и сам этого не заметил. Вот что со мной было».
Он не удивился. Время, промежутки света и мрака давно перепутались. Любой миг мог прийтись на любую пору; каждая отсекалась двумя движениями век, без переходов. Он понятия не имел, когда перейдет от одного к другому, когда обнаружит, что спал, не помня, как ложился, когда обнаружится, что он идет, не помня, как проснулся. Иногда ему казалось, что ночь сна – в сене, в канаве, под покинутой кровлей – сменяется другой ночью без дневного промежутка, без просвета, во время которого видишь, куда бежишь; что на смену дню приходит другой день, заполненный тревогой и бегством, без ночи между ними, без всякого промежутка для отдыха – словно солнце не садилось, а повернуло над горизонтом и по той же дуге покатилось вспять. Уснув на ходу или даже за питьем – на четвереньках, у родника, он никогда не знал, что откроется его глазам в следующее мгновение – солнечный свет или звезды.
Первое время он был постоянно голоден. Он подобрал и съел гнилой, червями издырявленный плод; иногда он заползал в поле, пригибал и обгладывал спелые початки кукурузы, твердые, как терка. Он постоянно думал о еде, воображал разные блюда, пищу. Думал о том ужине, ждавшем его на кухне три года назад, и, заново переживая неторопливый уверенный замах своей руки перед тем, как пустить тарелку в стену, корчился в муках сожаления и раскаяния. Но в один прекрасный день голод пропал. Это произошло неожиданно и мирно. Он остыл, успокоился. Однако он знал, что есть должен. Он заставлял себя съесть гнилой плод, твердый початок; жевал медленно, не чувствуя вкуса. Он поедал их в громадных количествах, расплачиваясь за это приступами кровавого поноса. И сразу же его вновь обуревал голод, позыв к еде. Но теперь он был одержим не едой, а необходимостью есть. Он пытался вспомнить, когда он ел в последний раз по-человечески, горячую пищу. По ощущениям припоминал какой-то дом, хибарку. Дом или хибарку, белых или черных – он не мог вспомнить. Затем, сидя тихо, с выражением блаженной озадаченности на изможденном, больном, заросшем лице, он почуял негра. Застыв (он сидел спиной к дереву у родника, откинув голову, сложив руки на коленях, с измученным и покойным лицом), он чуял и видел негритянскую еду, негритянскую пищу. Это было в комнате. Он не помнил, как попал туда. Но все в комнате дышало бегством и внезапным ужасом, словно люди бежали отсюда недавно, вдруг, в страхе. Он сидел за столом, ждал, ни о чем не думал – в пустоте, в молчании, дышавшем бегством. Потом перед ним оказалась еда, появилась вдруг между длинными проворными черными ладонями, которые тоже удирали, не успев опустить тарелку. Ему чудилось, будто среди звуков жевания, глотков он слышит, не слыша, вой ужаса и горя – тише вздохов, раздававшихся вокруг. «Тогда это было в хибарке, – подумал он. – И они боялись. Брата своего боялись».
Той ночью им овладело странное желание. Он лежал – на пороге сна, но не спал, и, казалось, не испытывал в сне нужды – точно так же, как склонял свой желудок к приему пищи, которой тот как будто не желал и в которой не нуждался. Желание было странное – в том смысле, что он не мог установить ни истоков его, ни мотивов, ни подоплеки. Он обнаружил, что пытается вычислить день недели. Как будто только сейчас наконец у него появилась настоятельная и срочная потребность вычеркнуть истекшие дни из тех, что отделяли его от цели, от определенного дня или поступка – так, чтобы не получилось нехватки или перебора. И с этой потребностью на уме он провалился в беспамятство, которое заменяло ему теперь сон. Когда он проснулся на росно-сером рассвете, потребность эта была настолько отчетливой, что уже не казалась странной.
Светает, занимается утро. Он встает, сходит к роднику и вынимает из кармана бритву, помазок, мыло. Но свет еще слишком слаб, чтобы отчетливо разглядеть свое лицо в воде, поэтому он садится у родника и ждет, пока не развиднеется окончательно. Затем он взбивает на лице холодную обжигающую пену, терпеливо. Рука дрожит; несмотря на срочность дела, он охвачен истомой и должен подгонять себя. Бритва тупа; он пробует править ее на башмаке, но кожа залубенела и мокра от росы. Он бреется – с грехом пополам. Рука дрожит; получается не очень чисто, несколько раз он режется и останавливает кровь холодной водой. Он прячет бритвенные принадлежности и уходит. Шагает напрямик, пренебрегая более легким путем – по грядам. Вскоре он выходит на дорогу и возле нее садится. Это – тихая дорога, она и появляется тихо, и тихо исчезает, бледная пыль ее размечена лишь узкими и редкими следами колес да копытами лошадей и мулов, и лишь кое-где – отпечатком человеческой ступни. Он сидит у дороги, без пиджака, в рубашке, некогда белой, и брюках, некогда глаженых, а теперь замусоленных и заляпанных грязью, с изможденным лицом в кустиках щетины и пятнах запекшейся крови, медленно дрожа от усталости и холода, но поднимается солнце и согревает его. Немного погодя из-за поворота выходят два негритенка, приближаются. Не видят его, пока он их не окликает; они останавливаются как вкопанные, глядят на него бело-выпученными глазами. «Какой нынче день?» – повторяет он. Они не говорят ни слова, глядят на него. Он слегка двигает головой. «Идите», – говорит он. Они идут. Он не провожает их взглядом. Сидит, как будто созерцая место, где они стояли, – словно, уйдя, они всего лишь вышли из двух раковин. Он не видит, что они бегут.
Затем, сидя там, потихоньку согреваясь на солнце, он незаметно для себя засыпает, ибо следующее, что доходит до него, – это оглушительное громыхание, дребезжание разболтанного дерева и железа и топот копыт. Открыв глаза, он видит вылетающую за поворот, из виду вон, телегу, озирающихся на него седоков и руку возницы с кнутом, который взлетает и падает. «Тоже узнали, – думает он. – И они, и та белая. И негры, у которых я ел тогда. Любой из них мог бы меня схватить, если им этого хочется. Ведь им же всем этого хочется: чтобы меня схватили. Только они сперва убегают. Все хотят, чтобы меня схватили, а когда я выхожу к ним и хочу сказать: Вот я. Да я бы сказал. Вот я. Я устал. Я устал бежать. Устал нести свою жизнь как корзинку с яйцами они убегают. Будто есть правила, как меня ловить, а поймать меня так – будет не по правилам».
И он опять уходит в кусты. Теперь он настороже и слышит повозку раньше, чем она появляется перед глазами. Он не показывается, пока повозка не поравнялась с ним. Тогда он выступает вперед и говорит: «Эй». Повозка останавливается – рывком вожжей. Голова негра поворачивается – тоже рывком; его лицо тоже делается изумленным, затем, с узнаванием, приходит ужас.
– Какой нынче день? – говорит Кристмас.
Негр пялится на него, разинув рот.
– Ч-что вы сказали?
– Какой нынче день? Четверг? Пятница? Какой? День какой? Я ничего тебе не сделаю.
– Пятница, – говорит негр. – Господи Боже мой, пятница.
– Пятница, – говорит Кристмас. Снова дергает головой. – Езжай.
Кнут хлещет, мулы рвут с места. Эта повозка тоже опрометью уносится из виду, под взмахи кнута. Но Кристмас уже повернулся и снова вошел в лес.
Снова путь его прям, как линия геодезиста, которой все равно – что холм, что топь, что лощина. Но он не спешит. Он движется, как человек, знающий, где он есть, и куда ему надо, и сколько у него времени, точно, до минуты – чтобы туда попасть. Как будто он желает увидеть родную землю во всех ее видах – в первый и в последний раз. Он вырос и возмужал на природе, чьи силы определили и внешность его и склад ума, но, как не умеющий плавать матрос, не узнал, каков ее настоящий облик и какова она на ощупь. Вот уже неделю он крался и скрывался по укромным ее местам, но по-прежнему чужд был самим непреложным законам, которым должна повиноваться земля. Он идет ровным шагом, и поначалу ему кажется, будто от этого – от того, что он смотрит и видит, – на душе у него так тихо, мирно, покойно; но вдруг его осеняет. Он ощущает в себе сухость, легкость. «Мне больше не надо беспокоиться о еде, – думает он. – Вот в чем дело».
К полудню он прошел восемь миль. Он выходит на широкую гравийную дорогу, на шоссе. Теперь, когда он поднимает руку, повозка останавливается спокойно. На лице парнишки-негра, который правит ею, – ни изумления, ни испуга, как у тех, узнавших.
– Это куда дорога? – спрашивает Кристмас.
– В Мотстаун[38]38
Мотстаун. – В романе «Шум и ярость» этот вымышленный городок был назван Моттсоном.
[Закрыть]. Я туда еду.
– Мотстаун. И в Джефферсон едешь?
Парнишка чешет в затылке.
– Не знаю, где это. В Мотстаун еду.
– Ага, – говорит Кристмас. – Ясно. Ты, значит, нездешний.
– Да, сэр. Мы отсюда через два округа живем. Третий день в дороге. А в Мотстаун еду за теленком годовалым, папа его купил. Вы хотите в Мотстаун?
– Да, – отвечает Кристмас. Он влезает на сиденье рядом с парнем. Повозка трогается. «Мотстаун», – думает он. Джефферсон всего в двадцати милях. «Теперь можно дать себе передышку, – думает он. – Семь дней я не давал себе передышки, так что теперь, пожалуй, можно». Он думает, что, раз он сидит, его, может быть, укачает, и он уснет. Но он не спит. Ни сна нет, ни голода, ни даже усталости. Он – где-то между и среди них, парит, качаясь в такт повозке, без дум, без чувств. Он потерял счет времени и расстоянию; проходит, может быть, час, может быть, три. Парнишка говорит:
– Мотстаун. Вон он.
Он глядит и видит дым на небосклоне за незаметным поворотом; он снова выходит на нее – на улицу, которая тянулась тридцать лет. Улица была мощеная, где ходить надо быстро. Она описала круг, а он так и не выбрался из него. Хотя в последние семь дней мощеной улицы не было, он ушел дальше, чем за все тридцать лет. И все же так и не выбрался из круга. «И все же за эти семь дней я побывал дальше, чем за все тридцать лет, – думает он. – Но так и не вырвался из этого круга. Так и не прорвал кольцо того, что уже сделал, и никогда не смогу переделать», – тихо думает он, сидя в повозке, а в передок под ним упираются чеботы, черные чеботы, пропахшие негром: метка на щиколотках, ясная и неистребимая мерка черного прилива, всползающего по его ногам, от ступней и все выше, как всползает смерть.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?