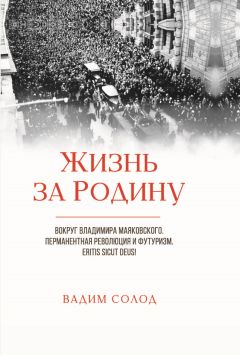
Автор книги: Вадим Солод
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
После заседания руководитель рабочей группы домкома Наумов – бывший политкаторжанин, занимавший должность завхоза дома отдыха Чайного управления Потребсоюза, – выйдя из суда на улицу, застрелил В.Г. Марца со словами: «Тебе нужна квартира – вот, получай», а затем убил гр. Рыбникова.
После чего Наумов явился в 12-е отделение милиции, где сдался с повинной: «Отдаю револьвер и сам отдаюсь во власть Совета рабочих депутатов». Свой поступок преступник объяснил «актом протеста за всех рабочих, неправильно выселяемых и переселяемых», так как посчитал успех Марца в суде «результатом его больших связей и поддержкой влиятельных советских и партийных лиц, оторвавшихся от рабочего класса и не интересующихся тем, в каких условиях живут его представители».
Следствием было установлено, что в 1918 году Наумов работал в исполкоме Хамовнического районного совета, где случайно услышал, как арестованный по ордеру ЧК князь Меньшиков заявил конвоиру: «Я был князем и останусь князем, а вы были крепостными хамами и вечно будете ими», после чего вышел из кабинета президиума и застрелил задержанного. Большевик был приговорён революционным трибуналом к общественному порицанию, запрету занимать выборные должности и носить оружие в течение трёх лет, исключён из РКП (6).
В результате проведённого расследования Наумов и «вдохновитель» его преступления Волков за умышленное убийство на основании ст. 143 УК РСФСР были приговорены трибуналом к 10 годам тюремного заключения со строгой изоляцией.
«Вестник советской юстиции» как о правильной инициативе на местах писал о том, что при райсоветах Москвы были созданы примирительно-конфликтные комиссии по жилищным делам. «За это время они вполне доказали свою жизненность. Комиссии рассматривают дела с представителями от коллегии защитников, вникая во все мелочи и подробности, причём решения комиссий очень часто касаются не только “судящихся” жильцов, но и домоуправлений, которые заблаговременно не позаботились урегулировать взаимоотношения жильцов между собой. Очень часты случаи, когда особо враждующие между собой жильцы “судятся” по нескольку раз; в таких случаях комиссия расселяет их по разным квартирам, и, как показала практика, этот способ “умиротворения” является наиболее правильным».
Так что, хорошо зная существующие порядки, на всякий случай Владимир Маяковский прописывает Осипа и Лили Брик на свою жилплощадь. Теперь его квартира формально тоже стала коммунальной.
Годом ранее, для того чтобы на время командировки В.В. Маяковского в качестве корреспондента за границу в его комнату на Лубянском проезде, где он хранил свои рукописи и рабочие материалы, никого временно не поселили, ему потребовалось специальное обращение наркома по просвещению А.В. Луначарского в административно-финансовое управление ВСНХ СССР товарищу З.Б. Каценельсону, он же одновременно являлся начальником экономического управления ОГПУ. Жилплощадь за поэтом на период его вынужденного отсутствия сохранили, но только в порядке особого исключения. (Напомню, что норма жилищной обеспеченности в Москве составляла 4,5 м2 на одного жителя столицы.)
Наличие такой специфической среды для обитания формировало особый жизненный уклад со своими правилами и кодексом поведения, где интеллигентному человеку «старой школы» жить было очень непросто – интеллигент для советского обывателя навсегда становится синонимом слабого, не могущего постоять за себя, зависимого от обстоятельств человека.
Тем временем советский хам с успехом отвоёвывал себе жизненное пространство, перестраивая окружающий коммунальный мирок под себя. Михаил Булгаков в романе «Собачье сердце» и Владимир Маяковский в пьесе «Клоп» создают образы этих новых мещан-победителей: Присыпкина и Шарикова, смысл жизни которых – бытовая победа над «образованными». Но если Пьер Присыпкин – участник Гражданской войны, а ныне перерожденец: «кто воевал – имеет право», то Шариков – плоть от плоти «новый человек», искусственно созданный, «рождённый Великим Октябрём».
Теперь среди большевистского руководства всерьёз шла речь не просто о воспитании нового индивидуума, а о создании нового биологического типа человека, лишённого собственнических инстинктов, социального эгоизма, христианской рефлексии, жалости к врагам, к которому вполне применим термин А.А. Богданова: «собирание человека».
Великая идея требовала новых подходов и новых исполнителей. Если социально близкий уголовный элемент немного позднее будет поручен ОГПУ, то в деле перевоспитания обывателя без интеллигентов уже не обойтись.
Максиму Горькому принадлежит очень точное определение основного качества мещанина – тот мечтает о «мирной жизни в тылу наиболее сильной армии».
Академик Д.С. Лихачёв, в свою очередь, писал: «У Белинского где-то в письмах, помнится, есть такая мысль: мерзавцы всегда одерживают верх над порядочными людьми потому, что они обращаются с порядочными людьми как с мерзавцами, а порядочные люди обращаются с мерзавцами как с порядочными людьми. Глупый не любит умного, необразованный воспитанного, невоспитанный воспитанного и т. д. И всё это прикрываясь “какой-либо фразой: “Я человек простой…”, “я не люблю мудрствований”, “я прожил свою жизнь и без этого”, “всё это от лукавого” и т. д. А в душе ненависть, зависть, чувство собственной неполноценности» [1. 124].
М.А. Булгаков красочно описал собственную жизнь в таком «тылу» в рассказе «Самогонное озеро».
В коммунальной квартире, где вместе с Михаилом Афанасьевичем проживали соседи-алкоголики, которые в ходе каждодневной пьянки в качестве обязательного развлечения лупили собственных детей, среди мата, грохота, криков и детского плача писатель пытался работать, потому требовал от соседей прекратить издеваться над младшими членами семьи и услышал в ответ гениальную фразу: «Ежели кому не нравится, пусть идёт туда, где образованные» [1,28].
Несмотря на то что Маяковский буквально травил Булгакова со всех возможных трибун, а в кулуарах интересовался у коллег: «Почему этот белогвардеец до сих пор на свободе?», Михаил Афанасьевич периодически встречался с ним за игрой на биллиарде в «Кружке» – Клубе работников искусств на Старопименовском переулке, где они много шутили и постоянно подначивали друг друга:
«Маяковский: Разбогатеете окончательно на своих тётях манях и дядях ванях, выстроите загородный дом и огромный собственный биллиард.
Непременно навещу и потренирую.
Булгаков: Благодарствую! Какой уж там дом!
– А почему бы?
– О, Владимир Владимирович, но и вам клопомор не поможет, смею уверить. Загородный дом с собственным биллиардом выстроит на наших с вами костях ваш Присыпкин.
Маяковский мотнул головой:
– Абсолютно согласен» [1. 80].
Оба литератора очень хорошо понимали, что их «могильщик» – не пролетариат, как у Карла Маркса, а советский мещанин, который в мирной схватке уже побеждает вчерашних революционеров.
Маяковский в сатирической пьесе «Клоп», перемещая зрителя в недалёкое коммунистическое будущее, поместил имя Михаила Булгакова в «Словарь умерших слов», описал в стихотворении «Лицо классового врага» «буржуя-нуво»:
…на ложу
в окно
театральных касс
тыкая
ногтём лаковым,
он
даёт
социальный заказ
на «Дни Турбиных»[69]69
Пьеса «Дни Турбиных» написана М.А. Булгаковым по мотивам собственного романа «Белая гвардия» и была разрешена цензурой только для постановки в МХТ. Постановка очень нравилась И.В. Сталину – говорили, что он посещал спектакль 15 или 20 раз. Это, конечно, вряд ли… Тем не менее, отвечая на письмо драматурга В. Билль-Белоцерковского, вождь напишет о пьесе: «’’Дни Турбиных” есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма».
[Закрыть] —
Булгаковым.
В 1929 году М. Булгаков в свою очередь делает В.В. Маяковского прототипом развязно-фамильярного поэта Владимира Баргузина в своей неоконченной повести «Тайному другу». Надо сказать, что среди коллег Михаил Афанасьевич был знаменит этой своей исключительной способностью наносить им смертельные обиды. Мейерхольду, особенно в самом начале московской карьеры молодого литератора из провинциального
Киева, доставалось больше остальных. Например, в повести «Роковые яйца» М. Булгаков упоминает «Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году, при постановке пушкинского “Бориса Годунова”, когда обрушились трапеции с голыми боярами…[70]70
В. Мейерхольд во время одной из репетиций «Годунова», говоря о пушкинских боярах, действительно обронил фразу о том, что надо уметь подсмотреть их голыми.
[Закрыть]».
Такие вот между ними великими были «высокие отношения».
Изначально революционный поэт Маяковский выступал как прямая противоположность уходящему Серебряному веку. Пролетарии, которые строят новую страну, но при этом голодные «сидят в грязи» при лучине, жили не мечтой о Прекрасной Даме и миражами с одиноким жирафом. Нет, они нуждаются в великом, грандиозном будущем для себя и грядущих поколений, в масштабных свершениях, в мировой победе человека труда сегодня – «через четыре года здесь будет город-сад»[71]71
Само словосочетание «город-сад» впервые было использовано английским журналистом Э. Ховардом в его книге-утопии «Города-сады завтрашнего дня», а сама эта урбанистическая идея очень нравилась российским футуристам, впрочем, как и руководству Казанской железной дороги, которая пыталась в 1913 году собирать средства для строительства городов-садов для своих работников.
[Закрыть]. Главный герой стихотворения «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» Иулиан (Ян) Петрович Хренов дружил с Маяковским, бывал у него в доме во время коротких командировок в Москву.
В 1936 году, как начальник строительства Краматорского металлургического комбината, он был осуждён за участие в троцкистской организации, но получил сравнительно небольшой пятилетний срок с отбыванием в Севвостлаге в Магадане. По воспоминаниям Валаама Шаламова, на этапе из Владивостока, сидя в верхнем трюме парохода «Кулу», как единственную сохранившуюся драгоценность из прошлого показывал зекам томик стихов с этим стихотворением о себе.
Вы чуете
слово —
пролетариат? —
Ему
грандиозное надо… [1.42].
Убеждённый революционер-идеалист, мечтающий о Мировой революции, Маяковский становится гневным обличителем пороков советского общества:
Сколько их!
Числа им нету.
Пяля блузы,
пяля френчи,
завели по кабинету
и несут
повинность эту
сквозь
заученные речи.
Весь
в партийных причиндалах,
ноздри вздёрнул —
крыши выше…
Есть бумажки —
прочитал их,
нет бумажки —
сам напишет.
Всё
у этих
в порядке,
не язык,
а маслобой.
Служит
и играет в прятки
с партией,
с самим собой… [1. 47].
Бюрократия, партийное чванство, бестолковость, тупое упорство в отстаивании своих непонятно откуда взявшихся особых прав и привилегий в совокупности с дремучей безграмотностью – персонажи Маяковского не просто паразитируют на великой идее, они дискредитируют её, превращая в мелкую бестолковую затею.
я
белому
руку, пожалуй, дам,
пожму, не побрезговав ею.
Я лишь усмехнусь:
– А здорово вам
наши
намылили шею! – (…)
Но если
скравший
этот рубль
ладонью
ладонь мою тронет,
я, руку помыв,
кирпичом ототру
поганую кожу с лад они… [1. 43]
Стихотворение «Взяточники», извините, вообще-то, звучит как крамола. Революционный поэт ставит лютого врага советской власти – белогвардейца – выше нашего родного советского служащего, члена партии «с длиннющим», хоть и «подчищенным стажем», пусть и коррупционера. Как же ему подобное произведение простить?
Уже в изгнании, анализируя сложившуюся общественно-политическую ситуацию в СССР в 20-х – 30-х годах, Лев Троцкий в унисон с Владимиром Маяковским написал в «Преданной революции»: «Попытка представить советскую бюрократию как класс “государственных капиталистов” заведомо не выдерживает критики. У бюрократии не ни акций, ни облигаций. Она вербуется, пополняется, обновляется в порядке административной иерархии, вне зависимости от каких-либо особых, ей присущих отношений собственности. Своих прав на эксплуатацию государственного аппарата отдельный чиновник не сможет передать по наследству. Бюрократия пользуется привилегиями в порядке злоупотребления» [2.24].
Современной российской бюрократии удастся развенчать оппортунистическую теорию Троцкого, теперь у неё (у бюрократии. – Авт.), помимо властных полномочий, есть и акции, и облигации, и вот уже появляются первые примеры наследования прав на «эксплуатацию государственного аппарата».
2.3. «Я жизнью жертвую…» Советский феномен социального суицида
…и смерть стоит,
и ожидает жатвы…
В. Маяковский. Солдаты Дзержинского
Только со смертью человек становится
понятен. Только смерть ставит точку.
Э. Лимонов
В течение столетий Русская православная церковь убеждала свою паству, что для христианина добровольный уход из жизни есть грех смертельный. Рождение и кончина человека происходят исключительно по воле Спасителя, а потому принимать решение за него, пытаясь таким образом самостоятельно изменять свою жизненную стезю, вне зависимости от сложившихся обстоятельств, – это попытка поставить себя на место Бога.
Первые исследования феномена суицида появились в России ещё в начале XIX века. При этом они проводились лишь отдельными энтузиастами К. Германом, В. Бехтеревым, П. Розановым, Г. Гордоном, А. Лихачёвым и, естественно, не могли претендовать на какую-либо системность.
Ещё в 1823–1824 годы академик К. Герман неоднократно представлял Императорской академии наук в Санкт-Петербурге доклады «Изыскание о числе самоубийств и убийств в России за 1819 и 1820 годы», которые были посвящены причинам суицидов, в том числе связанных с последствиями Отечественной войны 1812 года, и по мнению их автора, ставили своей целью «по крайней мере частью узнать нравственное и политическое состояние народа». Учитывая выводы, к которым пришёл ученый, эти исследования на русском языке опубликованы не были. По мнению министра народного просвещения адмирала А.С. Шишкова, «подобные статьи, неприличные к обнародованию оных, надлежачо бы к тому, кто прислал их для напечатания, отослать назад с замечанием, чтобы впредь над такими пустыми вещами не трудился. Хорошо извещать о благих делах, а такие, как смертоубийства и самоубийства, должны погружаться в вечное забвение», (цит. по: Гернет М.Н. Избранные произведения. Юридическая литература. М., 1974. С. 370–371).
Формально отказавшись от научного обоснования причин самоубийств, власть в дореволюционной России практически во всех редакциях уголовного закона предусмотрела ответственность за покушение на самоубийство.
В Уложении 1843 года для суицидентов каторжные работы были заменены тюремным заключением на срок от шести месяцев до одного года, при этом церковному священноначалию было предоставлено право в каждом конкретном случае самостоятельно решать, следует ли самоубийцу лишать права христианского погребения, постановив о безусловном церковном покаянии покушавшегося как «о возможном случае для его вразумления, а может быть, и для утешения святым учением религии».
В главе 10 раздела X Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года ответственность за такие преступления сохранялась, вместе с дополнением в качестве наказания за доведение до него. Теперь Уголовный закон сделал обязательным запрет на совершение над погибшим таинства отпевания и христианского погребения. В таком виде эта уголовно-гражданская кара последовательно перешла в последующие редакции Уложения 1857, 1866 и 1885 годов.
Устав врачебный (СЗРИ Т. XIII) до 1857 года содержал в себе ст. 923, в силу которой «тело умышленного самоубийцы надлежало палачу в бесчестное место направить и там закопать».
В начале прошлого века в рамках общей тенденции либерализации законодательства, как и некоторого смягчения отношения общества к «самоубиенным», эта ответственность была несколько смягчена.
Теперь в соответствии с Уголовном уложением (ред. 1903 года) доставление средств к самоубийству каралось тюремным заключением до 3 лет (ст. 462), за подговор полагалась каторга до 8 лет (ст. 463), за самоубийство по жребию согласно условию с противником – тоже ссылкой на каторжные работы сроком до 8 лет (ст. 488). Особая ответственность предусматривалась за подговор к самоубийству лица, не достигшего 21 года или заведомо не способного понимать свойства и значение им совершаемого или руководить своими поступками, а также за содействие самоубийству таких лиц советами или указаниями, доставлением средств или устранением препятствий.
Самоубийство не признавалось преступлением, только если оно было совершено по «великодушному патриотизму», ради сохранения государственной тайны или, например, из желания женщины сохранить честь и целомудрие в случае грозившего ей насилия.
В таких случаях родственники самоубийц имели право на их погребение по церковному обряду, а завещания, если таковые, конечно, имелись, сохраняли свою законную силу. Во всех остальных случаях за совершение суицида лицо признавалось виновным в совершении преступления, лишалось всех прав, которые имело при жизни. Несмотря на существовавшие допущения, по существовавшей традиции самоубийц православного вероисповедания хоронили без отпевания за кладбищенской оградой и не служили по ним панихиду.
Тем не менее моду на такой эксцентричный уход из жизни задавали поэты, писатели, студенты и экзальтированные барышни.
Удел и рок печальный их —
В себе убить себя самих!
(Вальтер Скотт. Песнь последнего менестреля).
В Санкт-Петербурге бульварные газеты ежедневно сообщали о том или ином трагическом случае, связанном с самоубиенными. Странная эпидемия всерьёз встревожила городские власти, ведь только за первые три месяца 1907 года в столице и её окрестностях зарегистрировали 241 случай самоубийства, из которых 153 закончились смертью. Как удалось выяснить полиции, в числе побудительных мотивов на первом месте стояла «безвыходная материальная нужда», на втором – «неудовлетворённость жизнью и обманутая любовь», затем следовали «тоска по умершим и исчезнувшим родственникам», «растрата и припадок психической ненормальности». При этом большинство самоубийц принадлежали к интеллигенции.
По данным Петербургского статистического отделения, в каждый из летних месяцев 1908–1910 годов происходило по 125–130 самоубийств и попыток к ним, в остальные месяцы – 80-120, затем их число стало немного снижаться: в июне 1911 года зафиксировали «всего» 62 попытки суицида – 44 мужчины и 18 женщин, большинство из которых было вызвано семейными неприятностями, разочарованием в жизни или безысходной нуждой.
По словам известного психиатра, доктора медицины и известного борца за всеобщую трезвость русского народа А.Л. Мендельсона, «эпидемия самоубийств» «заставляет думать о неотложной необходимости планомерной организации борьбы с этим непрекращающимся явлением» [1.181].
Однако, как отмечал в своей публицистической статье «О самоубийствах» Василий Розанов: «Нужно быть осторожным. Один гроб может потянуть за собою ещё гроб. Есть паника, ужас всех. Вообще есть коллективное собирательное, народное в страстях, по-видимому, индивидуальных. Обратно унизительной “панике” может образоваться горделивый и горячий ток, увлекающий слабых к мысли о волнах горя, тоски, недоумения около “моего гроба”. Ведь есть вообще посмертные ожидания; есть страстнейшие желания “того, что может произойти только после моей смерти”. Не на этом разве держится социализм, опирающийся на “то, что будет после меня” и чего ни в каком случае не будет “при мне”, не “будет при жизни” вот этого социалиста. А идут… Умирают… Отчего же не умереть “ради великих волн чувства” вслед за “моим гробом”, вокруг “моего гроба”? Самоубийца получит никак не меньше того, что “жертвующий собой” социалист…» [1.218]
В свою очередь поэт-эгофутурист Иван Игнатьев (Казанский) написал в своём единственном стихотворном сборнике «Эшафот: Эго-фигуры»:
Я жизнью Жертвую – жИВУ…
Палач бездушный и суровый!
Я все сорву твои оковы —
Я так хочу!
Но я умру, когда разряд
Отклонит Милостивый вестник…
Хочу смертей в Бесчестном кресле!
Хочу! Хочу! Хочу! Я рад!..
Следуя своим творческим принципам, поэт покончил жизнь самоубийством 21 января 1914 года – перерезал себе горло опасной бритвой в день своей свадьбы.
Эта смерть, по всей видимости, оказалась для Владимира Маяковского в каком-то смысле «пробой пера». Случившаяся трагедия всколыхнула весь русский авангард, и не только товарищей И.В. Игнатьева по «Интуитивной ассоциации эгофутуризма», но и С. Боброва, В. Хлебникова, И Северянина, Т. Чурилина, самого В. Маяковского. На фоне бульварных публикаций о кровавом, в прямом смысле этого слова, событии Хлебников в четверостишье, включённом им в повесть «Ка», посчитал такой способ уйти из жизни не иначе как богоборческим актом:
И на путь меж звёзд морозный
Полечу я не с молитвой,
Полечу я мёртвый, грозный,
С окровавленною бритвой.
Известный литературный критик Д.А. Крюков (Келейник) в некрологе, напечатанном в «Очарованном страннике», был одним из очень немногих, кто предположил, что причиной гибели поэта могла стать душевная болезнь: «Для нас скрыто навеки то, что заставило уйти так поспешно, так невероятно быстро нашего собрата по литературной работе, по исканиям невоплощённой, поруганной Красоты. Быть может, безумие захватило его внезапно цепкой лапой своей – но и над его могилой мы не отречёмся от нашей влюблённости в Искусство».
Традиция считать представителей радикального искусства, пока оно не стало классическим, конечно, сумасшедшими («дегенератами» – в немецкой транскрипции, «педерастами» – в советской) становится обязательной для любого культурного человека, особенно из числа тех, кто имел право на оценочную точку зрения.
На следующий день после гибели Ивана Игнатьева доктор медицины, учившийся когда-то на юридическом факультете Московского университета, практикующий психиатр Е.П. Радин выступил с лекцией «Футуризм и безумие»: «Психиатрам хорошо известна наклонность к новым словам (неологизмам) у душевнобольных, но такого сплошного непонятного для непосвящённого языка мы ещё не встречали…» Лектор сравнил творчество футуристов с произведениями душевнобольных, в частности своего пациента помещика Платона Лукашевича, который тоже писал стихи и изобретал слова:
Аллегория – подоба;
Орбита – облокругъ;
Грамматика – гранесловiе…
Далее учёный процитировал известного больного: «Не пройдёт ста или двухсот лет, как всё лучшее, избраннейшее в Париже, Лондоне, по всей Европе и Америке будет говорить на одном из усовершенствованных Славянских языков: потом весь свет последует сему же примеру: здесь ничьё частное тщеславие не может оскорбляться – наш язык есть свой всем народам» (Платон Лукашевич. Чаромутие, или Священный язык магов, волхвов и жрецов. СПб. 9 сентября 1846 г. С. 35). Всё к тому и идёт, извините…
Суицидальное поведение людей, теперь однозначно понимаемое как социальный феномен, изучалось земскими врачами, психиатрами, педагогами, правоведами прежде всего в связи с необходимостью ведения криминальной и медицинской статистики, которая обобщалась Управлением Главного врачебного инспектора МВД и публиковалась в виде ежегодного «Отчёта о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи населению России».
Первым из русских писателей-философов рассматривал самоубийство в качестве одной из главных нравственных проблем общества Ф.М. Достоевский, который чрезвычайно серьёзно занимался этим вопросом. Созданный им архетипический образ самоубийцы Кириллова обрёл, по мнению писателя Г.Ш. Чхартишвили (Бориса Акунина), «всемирный статус “суицидента № 1”, перемещаясь из одного философского сочинения в другое и превратившись в символ человека новой, рационалистической эпохи» [1.13].
В издаваемом Фёдором Михайловичем ежемесячном журнале «Дневник писателя» был опубликован публицистический очерк под названием «Два самоубийства», в котором писатель сравнил две трагедии: суицид семнадцатилетней дочери Александра Ивановича Герцена Елизаветы, совершённый ею по причине неразделённой любви к 44-летнему французскому этнографу Шарлю Летурно, и самоубийство юной швеи Марии Борисовой. Лиза Герцен отравилась, обмотав лицо повязкой с хлороформом, во Флоренции, оставила предсмертную записку, написанную на французском языке: «Как видите, друзья, я попыталась совершить переезд раньше, чем следовало бы. Может быть, мне не удастся совершить его – тогда тем лучше! Мы будем пить шампанское по случаю моего воскресения (…) Если меня будут хоронить, пусть сначала хорошенько удостоверятся, что я мертва, потому что если я проснусь в гробу, это будет очень неприятно…» [1.74].
По мнению Ф. Достоевского, «…безобразнее всего то, что ведь она, конечно, умерла без всякого отчётливого сомнения… Значит, просто умерла от “холодного мрака и скуки”, с страданием, так сказать, животным и безотчётным, просто стало душно жить, вроде того, как бы воздуху недостало. Душа не вынесла прямолинейности безотчётно и безотчётно потребовала чего-нибудь более сложного…» [1. 75]
В отличие от первого, второе самоубийство поразило писателя своей обыкновенностью: в небольшой заметке журналист столичной газеты «Новое время» 3 октября 1876 года описывал случившуюся трагедию: «В двенадцатом часу дня, 30-го сентября, из окна мансарды шестиэтажного дома Овсянникова, № 20, по Галерной улице, выбросилась приехавшая из Москвы швея Марья Борисова… Не имея здесь никаких родственников, занималась подённою работою и последнее время часто жаловалась на то, что труд её скудно оплачивается, а средства, привезённые из Москвы, выходят, поэтому устрашилась за будущее. 30 сентября она жаловалась на головную боль, потом села пить чай с калачом, в это время хозяйка пошла на рынок и едва успела спуститься с лестницы, как на двор полетели обломки стёкол, затем упала и сама Борисова. Жильцы противоположного флигеля видели, как Борисова разбила два стекла в раме и ногами вперёд вылезла на крышу, перекрестилась и с образом в руках бросилась вниз. Образ этот был лик Божией Матери – благословение её родителей. Борисова была поднята в бесчувственном состоянии и отправлена в больницу, где через несколько минут умерла».
Фёдор Михайлович написал в очерке: «Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается, даже и нередко) – не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться, – он прибегает к другого рода прощению и просто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противоположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий» [1. 74].
Известная писательница и педагог Людмила Христофоровна Симонова-Хохрякова[72]72
Людмила Симонова-Хохрякова послужила для Ф.М. Достоевского прототипом Катерины Осиповны Хохлаковой – героини его романа «Братья Карамазовы».
[Закрыть], много занимавшаяся причинами самоубийств среди женщин, утверждала, что Фёдор Достоевский был чуть ли не единственным человеком, который обратил внимание на многочисленные факты суицидов, которые исследовались им прежде всего как общественное явление. Кроме того, сам писатель был категорически против однозначного отнесения самоубийц к душевнобольным: «При каждом новом факте (Достоевский) говаривал: “Опять новая жертва, и опять судебная медицина решила, что это сумасшедший! Никак ведь они (то есть медики) не могут догадаться, что человек способен решиться на самоубийство и в здравом рассудке от каких-нибудь неудач, просто с отчаяния, а в наше время и от прямолинейности взгляда на жизнь. Тут реализм причиной, а не сумасшествие”» [1. 231]. Постараемся запомнить последнюю фразу из этой цитаты.
С такой позицией великого писателя оказались вполне созвучны идеи Питирима Сорокина, который исследовал связанную с Первой мировой войной и революцией деградацию российских элит и пришёл к выводу о том, что именно в этот период «в меньшей мере пострадали…лица морально дефективные. (…) Во время мировой войны в армию не брались лица с задержкой в развитии, психическими заболеваниями – следовательно, не подвергались риску гибели. За время же революции условия как раз благоприятствовали их выживанию. В условиях зверской борьбы, лжи, обмана, беспринципности и морального цинизма они чувствовали себя великолепно; занимали выгодные посты, зверствовали, мошенничали, меняли по мере надобности свои позиции и жили сытно и весело. Это способствовало формированию элиты нового образца. В то же самое время лица воспитанные, те, кому с детства были привиты понятия о чести, достоинстве, правдивости, принципиальности, они не могли “жульничать”, воровать, злоупотреблять и насиловать. Поэтому они были обречены на голод и исчезновение как вида, то есть невозможность приспособиться к тем сложившимся обстоятельствам в обществе – просто не выдерживала нервная система. В силу своего воспитания они не могли так или иначе молчать против совершавшихся зверств, а тем более раболепствовать перед ними, что способствовало к подозрению, преследованию и физическому устранению как элемента общества. Обострённое чувство исполнения долга, верность данной присяге в условиях изменившейся политической обстановки, войны и революции, то такое поведение усиливает риск гибели таких людей. В результате за все эти смутные годы в основном гибнут лица с глубоким сознанием долга, чем гибель лиц “аморальных” (шкурников, циников, нигилистов и просто преступников).

Питирим Сорокин
Процент гибели лиц выдающихся, одарённых и умственно квалифицированных за эти годы опять-таки несравненно выше, чем процент гибели рядовой серой массы.
Складывается такой парадокс, что во всяком вооружённом конфликте в прицел попадают в основном одарённые лица, которых в первую очередь стремится уничтожить другая сторона. В результате таких масштабных потрясений для нашей страны это выражается не только в потере наиболее способной части населения, но и в то же время в эмоциональном выгорании нации, что способствует её закату, упадку. И это незаметно с первого взгляда, но на самом деле она имеет роковой характер и проявляется лишь в ряде будущих поколений» [1. 233].
В отличие от самодержавия, хоть как-то ограниченного в этом вопросе православной традицией, большевистская власть на первых порах своего становления предоставила гражданам полную свободу самостоятельно определять: жить или умереть. В уголовном праве РСФСР (в его первой редакции) отсутствовали какие-либо юридические последствия для тех, кто добровольно заканчивает свою жизнь.
В начале 1920-х годов в СССР начала создаваться единая система сбора сведений о завершённых фактах и попытках суицида, впервые в отечественной статистике был налажен систематический сбор сведений о самоубийствах через отделы ЗАГС, в которых теперь при регистрации смерти по такой причине обязательно заполнялся листок особой учётной формы.
Благодаря усилиям руководителя отдела моральной статистики Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР М.Н. Гернета учёт самоубийств приобрёл системный характер и нашёл свое отражение в двух опубликованных статистических сборниках – «Самоубийства в СССР. 1922–1925 гг.» и «Самоубийства в СССР в 1925 и 1926 гг.» В них была систематизирована суицидальная статистика по губерниям и крупным городам РСФСР, Украины, Закавказья, которая включала как традиционные для этой проблемы показатели (месяц, время суток, когда произошло самоубийство, способ его совершения, наиболее вероятная причина), так и общие демографические и социальные показатели (возраст суицидента, социальное, семейное положение, профессия, размеры заработка и пр.). Таким образом, социальная патология оказалась под пристальным вниманием криминологов, статистов, социологов и психиатров.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































