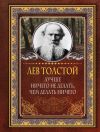Автор книги: Валентин Булгаков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Купец затаив дыхание и с ужасом в глазах следил за этой необыкновенной операцией. А тот все продолжает производить золотые и выкидывать их за окошко. Наконец, купец начал креститься, потом поднялся, забрал свои вещи и бежал вон из купе…
Известно было, между прочим, что Соллогуб в карты не играет: он слишком хорошо «передергивал».
Наружности этот веселый человек был очень мрачной.
Рассказывала Татьяна Львовна и об отце. Я упоминал о том, как молодой Л. Н. Толстой следил за «нравственностью» своей супруги, отгораживая ее от чтения легкомысленных французских романов. Не менее чутко относился Лев Николаевич и к нравственному воспитанию дочерей. В Москве он свободно пускал Татьяну Львовну одну в милую и радушную семью Дельвигов, но, бывало, ни за что не хотел отпустить ее в богатый дом Кислинских, отличавшийся некоторой подозрительной развязностью и свободой отношений между молодыми людьми. Точно так же однажды Лев Николаевич ни за что не хотел отпустить Татьяну Львовну в Воронежскую губернию для участия в великосветском спектакле у Свербеевых.
– Какой угодно выкуп возьми с меня, только не езди, голубушка! – говорил он Татьяне Львовне.
И та просила, в виде выкупа, привести в Москву из Ясной Поляны ее верховую лошадь. Лев Николаевич немедленно отдал соответствующее распоряжение.
Проповедничество Толстого не всегда имело успех. Один раз, гуляя по Москве, Лев Николаевич встретил мальчишку лет десяти с папироской в зубах. Лев Николаевич захотел сделать ему нравоучение.
– Как тебе не стыдно? – сказал он.
– У меня их десять! – бойко ответил мальчуган.
Проповеднику, – вероятно, тоже усмехнувшемуся в свою седую бороду, – пришлось ретироваться ни с чем.
В другой раз Лев Николаевич приходит в хамовнический дом и говорит:
– Угадайте, кого я сейчас вел под руку? Ни за что не угадаете!
Начали гадать.
– Ну, кого? Лизаньку? (Е. В. Оболенскую.)
– Нет.
– Вареньку? (В. В. Нагорнову.)
– Нет.
– Графиню Олсуфьеву?
– Нет.
Оказалось – старушку, собиравшую «на построение храма» и по разным трактирчикам опившуюся до такой степени, что ноги уже не служили ей. Дедушка пожалел бедную и довел куда надо.
О благочестивом своем брате Льве, – рассказывала Татьяна Львовна, – гордец и аристократ, а в прошлом жуир, Сергей Николаевич Толстой говорил не без яду:
– Левочка икру слизал, а корки нам оставил!
Как известно, оба брата очень любили друг друга. Престарелый Сергей Николаевич, проживавший в своем имении Пирогово за 35 верст от Ясной Поляны, скончался за шесть лет до смерти своего младшего, знаменитого брата.
Глава 5
Наташа Ростова в старости
Расхождение Л. Н. Толстого с сенатором Кузминским. – Т. А. Кузминская – прототип Наташи Ростовой. – Ее наружность, манеры и характер в старости. – Что осталось в Татьяне Андреевне от Наташи? – Романс на слова Фета. – Две любви гр. С. Н. Толстого. – «Не смей ходить, как старуха!» – Наташа – пустоцвет. – Крепостнические симпатии и тенденции сенаторши. – «Христос говорит свое, а я свое!» – Три сестры Берс. – Хорошо, что Лев Толстой женился на Софье Андреевне.
В августе 1914 года приехали погостить в Ясной Поляне свояк Л. Н. Толстого первоприсутствующий сенатор Александр Михайлович Кузминский и его жена Татьяна Андреевна, рожденная Берс, родная сестра Софьи Андреевны. Сенатора я видел в первый раз. В 1910 году он не посещал Ясной Поляны. В самом начале этого года между ним и Львом Николаевичем произошла размолвка. Толстой попросил Кузминского вступиться за одного из своих единомышленников (Молочникова), подвергшегося преследованию за распространение его сочинений, а тот ответил Льву Николаевичу холодным и учтивым письмом в том смысле, что, дескать, дело получило законное направление и он не находит возможным в него вмешаться. Толстой редко сердился, но на этот раз он почему-то – может быть, потому что принимал в судьбе В. А. Молочникова, усердного и интересного своего корреспондента, особое участие – крепко рассердился или, скажем, вознегодовал на Кузминского, поступок которого показался ему чуть ли не подлым. Письмо Кузминского отрезало его от Льва Николаевича. С тех пор Толстой не мог слышать равнодушно о Кузминском, холодном, расчетливом петербургском бюрократе, и всем стало ясно, что новая встреча обоих стариков стала невозможной.
В 1914 году А. М. Кузминский, бывший на 15 лет моложе Толстого, и сам превратился уже в дряхлого старика. К тому же, у него болела нога, и он мог передвигаться только очень медленно.
Идя однажды со мною от большого дома к своему «кузминскому» флигелю, он заметил:
– Вам, как молодому человеку, наверное, непонятно, как это можно быть таким дряхлым стариком, как я, и так медленно волочить ноги. Представьте себе, что когда я был молод и видел старика, то я именно так же рассуждал! И при этом не верил и представить себе не мог, чтобы и я сам мог дожить до такого беспомощного состояния, мог потерять способность передвигаться быстро и непринужденно.
Я слушал Кузминского, косился на его согбенную, хоть и длинную и представительную фигуру и действительно не верил ни ему, ни себе, что я могу когда-то в будущем оказаться в подобном состоянии. Существенную поправку к моему неверию время уже сделало…
Держал себя А. М. Кузминский достойно. Со всеми был прост и любезен. Мне был любопытен его отзыв о Черткове:
– Это – деспот, настоящий деспот! Если бы он был на престоле, это было бы несчастье для народа!..
Увы, и занимавший тогда престол не «деспот» мало принес счастья народу..
Татьяну Андреевну Кузминскую я знавал и раньше, при жизни Льва Николаевича, но очень мало. Один или два раза она показывалась в Ясной Поляне на самое короткое время. Довольно высокая и стройная, хотя и с немного отвисшим, как у Софьи Андреевны, животом, Татьяна Андреевна была образцовой светской дамой с самоуверенными и властными манерами. Совершенно белые волосы и продолговатое румяное лицо. Характерно растянутые губы. Брови приподняты, глаза – смелые и заносчиво-выжидающие: «угодишь – любезно улыбнусь, не угодишь – поражу презрением». Голос – громкий, манера говорить – авторитетная, вернее – своевольная: раз я так говорю, то значит – так и есть, а что думаете вы и что скажут другие, это мне совершенно все равно. Входит плавно и победоносно, с давно изученной и ставшей поэтому естественной и неотторжимой миной – ни к чему не обязывающего благоволения, с готовностью расточать направо и налево такие же, ни к чему не обязывающие любезные улыбки. Руки – подвижные, изящные, в совершенстве – годами светской учебы – вымуштрованные: уж о такой даме никак не скажешь, что она «не знает, куда девать руки»! Напротив, руки ей служат к украшению и на пользу, как один из совершеннейших инструментов светского обхождения и очарования.
Я видел Льва Николаевича и Татьяну Андреевну вместе и могу отметить, что Лев Николаевич с исключительной внимательностью относился к своей свояченице. В ее присутствии он, хоть и глубокий старик, даже как-то по-особому веселел. Видно было, что она – всем своеобразием своим и своей манерой – привлекала, забавляла и занимала его. И даже когда Татьяна Андреевна чертыхалась (а она это очень любила), Лев Николаевич как-то особо мягко и добродушно останавливал ее: дескать, другому бы не простил, а тебе прощаю.
Весь свет, – а не весь свет, так все историки литературы, – уже с несомненностью знают, что Лев Николаевич писал с Татьяны Андреевны Берс (она тогда не была еще Кузминской) Наташу Ростову. То, что он когда-то, в молодости, рассказывал, что будто бы «перетолок» Соню (жену) и Таню, чтобы получить Наташу, была, сдается мне, у правдивого Льва Николаевича неправда, допускавшаяся им в угоду жене. И Соне, и Тане лестно было считать себя прототипом Наташи, но право на это имела только Таня. В самом деле, как это при желании совсем не трудно установить по наличным историко-литературным материалам, все в облике и истории жизни Татьяны Андреевны Берс свидетельствует о том, что именно с нее была списана Наташа, и нет ничего ни в характере, ни в жизни Софьи Андреевны, что бы подтверждало то же самое по отношению к ней. Характеры и индивидуальности сестер, как и течение их молодости, были совершенно различны. И Наташа близка именно к Татьяне Берс.
Софью Андреевну мы уже знаем. Какова же была ее младшая сестра, и именно в мое время?
Очень экспансивна. Своевольна. Раз зародившееся в душе чувство проявляла и выражала бурно и сразу. Ценила поэзию, музыку – и сама была полна если не поэзии, то блеска, и чудесно пела. Старая, 70-летняя старуха пела? Да, да, Татьяна Андреевна пела не только в молодости, вдохновив Толстого на одну из лучших глав «Войны и мира», но и в глубокой старости. Голос ее – сопрано – дребезжал и срывался, но все еще сохранял прелестный, густо окрашенный, ласкающий слух тембр. Мне случилось однажды исполнять с престарелой «Наташей Ростовой» дуэт Глинки «Не искушай меня без нужды». И я, молодой, пел холодно (я не любил тогда петь), а она, старуха, вся трепетала. Да, когда Татьяна Андреевна пела, было видно, что она, как и героиня «Войны и мира», забывает весь мир. Покоряла ли она при этом, как Наташа? Покоряла, во всяком случае, тогда, когда исполняла романс Чайковского, написанный на посвященные ей слова Фета:
Сияла ночь. Луной был полон сад.
Лежали Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.
Ты пела до зари, в слезах, изнемогая,
Что ты – одна любовь, что нет любви иной, —
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!..
И много лет прошло томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь —
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь.
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!
В изумительных стихах этих говорится ни о ком ином, как именно о Татьяне Андреевне. Это именно она пела «в гостиной без огней», пела «до зари, в слезах изнемогая», а дверь в сад была открыта, и лунные лучи ложились у ног певицы и слушателей. Когда все участники божественного, патетического вечера расходились, то жена Фета, некрасивая и ничем не выдающаяся Марья Петровна шепнула певице:
– Ну, знаете, этот вечер для Афанасия Афанасиевича даром не пройдет! Увидите, что он что-нибудь напишет!..
А на другое утро поэт вручил Татьяне Андреевне свое очаровательное стихотворение, точнее – первую половину его, потому что последние две строфы приписаны были позднее.
Таким образом, не только прелестная музыка и такие же стихи, но и незабываемые воспоминания молодости вдохновляли Татьяну Андреевну при исполнении романса Чайковского. Ее настроение не могло не заражать и слушателя. Прощались и дребезжанье, и срывы голоса, и все недостатки исполнения – оставалась вечно юная поэзия…
Известно, что ряд эпизодов молодой жизни Тани Берс прямо внесен Толстым в «Войну и мир». Об этом рассказала сама Татьяна Андреевна в своих чудесно набросанных, живых и увлекательных воспоминаниях, изданных у братьев Сабашниковых в Москве. Еще пунктуальнее, с постоянным привлечением соответствующих цитат из эпопеи Толстого, рассказано об этом в воспоминаниях Варвары Валериановны Нагорновой, опубликованных в ряде номеров еженедельного приложения к суворинскому «Новому времени». Кстати сказать, там же и в том же порядке печатались в предвоенные годы воспоминания Араповой, рожденной Ланской, о своей матери Наталии Николаевне Ланской, рожденной Гончаровой, а по первому мужу Пушкиной, бывшей жене национального русского поэта.
Воспоминания Нагорновой писались при мне. Они, конечно, созданы ею не самостоятельно. Рукою совершенно не литературной, доброй и простоватой, как ребенок, старушки водила рука самой кандидатки на вечное место в истории русской литературы – рука прототипа Наташи Ростовой Т. А. Кузминской. Но статье Нагорновой-Кузминской нельзя отказать в доказательности. Пусть писавшими руководили какие угодно побуждения, факт остается фактом: Наташа Ростова во многом списана с Тани Берс.
Одним из событий молодой жизни Татьяны Андреевны, получивших отражение в «Войне и мире», была ее несчастная любовь к Сергею Николаевичу Толстому, родному брату Льва Николаевича. Любовь эта была взаимная и беспредельная. Дошло к свадьбе, было определено место венчания, и жениху и невесте оставалось только встретиться в церкви, но… в последнюю минуту жених, красавец и обаятельный человек, решился на подвиг, на отказ от невесты и счастливого брака, так как до этого он был уже несколько лет в связи с цыганкой, бывшей певицей в цыганском хоре, и имел от нее двоих детей. Свадьба не состоялась. Таня Берс была на краю отчаяния и в потере своей никогда не утешилась. Цыганка Марья Михайловна Шишкина вышла замуж за Сергея Николаевича и стала графиней Толстой. Она вошла в общий фамильный круг, имела еще детей и была всеми любима и уважаема, но. муж ее Сергей Николаевич никогда уже не мог забыть о Тане. О своей жене он, по словам Софьи Андреевны, утверждал, что «всю жизнь говорил с ней на разных языках». В старости Сергей Николаевич совершенно замкнулся в себе и приобрел, даже у своих детей, славу чудака-мизантропа.
Татьяна Андреевна однажды при мне рассказывала историю своего увлечения Сергеем Николаевичем. Нет, это было не увлечение, а неодолимая, бессмертная любовь. Она и граф Сергей (Андрей Болконский) созданы были друг для друга. Решение его было ошибкой. И, отдавшись воспоминаниям, Татьяна Андреевна, всегда такая веселая, вдруг расплакалась.
А вот – рассуждения престарелой «Наташи Ростовой» о любви. Говорили об одной барышне (родной внучке Татьяны Андреевны), убивавшейся в горе и слезах вследствие того, что предмет ее любви – офицера – забрали на войну28.
– Я так ее понимаю! – заявила Татьяна Андреевна. – Да когда же и любить, как не в ее лета?! Господи, да в восемнадцать-то лет я уже четыре раза была влюблена, ей-Богу!.. Любовь – это все! Это такое прекрасное чувство, без которого жить нельзя. Оно очищает всех, и юношу, и девушку… Всех жалко, за всех радуешься. Кажется, что у меня и здесь сердце, и здесь, – она показала выше настоящего сердца, пониже плеча, – и здесь сердце, – в середине груди, – и здесь, – в плечо, – и тут, и тут. и в ушах сердце. Да, та же осталась Таня! Куда ее бросишь?.. Вот только влюбляться перестала. А раньше постоянно была в кого-нибудь влюблена. Главное, и отказать никому не могла. Бывало, ухаживают за тобой, и мне их жалко. В самом деле, он ко мне всей душой, – ну как же я его прогоню?! Меня называли ветреной, а мне его было жалко. Я даже была благодарна, когда за мной ухаживали.
В другой раз заговорили об «Анне Карениной». Тут как раз у Софьи Андреевны были уже непременные права на образ Кити, ибо Кити, действительно, во многом списана была с нее, чем, между прочим, косвенно тоже подтверждается моя мысль, что в Наташе Ростовой нет ничего от Софьи Андреевны: в самом деле, разве не совершенно разнородные индивидуальности – Кити и Наташа?
Татьяна Андреевна, желая сделать сестре приятное, напомнила ей об отражении ее личности и жизни в Кити.
– «А бархатка говорила!..» Помнишь, как Лев Николаевич описывает наряд Кити?
Но, против ожидания, Софья Андреевна, бывшая в грустном настроении, не оживилась.
– Мне неприятно все это вспоминать, – заявила она. – Блеск моей жизни потушен последним годом! (Т. е. последним годом супружества со Львом Николаевичем.)
– Унывать не надо. Ты должна выше поднимать голову!
– Да я и держу ее высоко… Теперь, конечно, – разговор происходил весной 1916 года, – я восстановила свои права и положение, – но чего мне это стоило!..
В другой раз Татьяна Андреевна вдруг закричала Софье Андреевне, проходившей, сгорбившись, по комнате:
– Не смей ходить как старуха!
Все в ней было порывисто и неожиданно.
Поэтическая Наташа в «Войне и мире» превращается в хлопотливо-ограниченную, прозаическую женщину-мать, интересующуюся больше всего оттенками желтых пятен на детских пеленках. Но там ничего не говорится о том, какой она была бы в старости. А я думаю, что старуха Наталья Ильинишна Безухова как раз походила бы на Татьяну Андреевну Кузминскую в ту пору, как я знал последнюю. В самом деле, ни у той, ни у другой не было никакого мировоззрения. Ни ту, ни другую не интересовали серьезно никакие общественные вопросы, не занимали те или иные культурные задачи, не привлекали никакие идеалы высшего порядка. Обе жили исключительно личной, эгоистической, я сказал бы даже, – имея, пожалуй, в виду особенно Татьяну Андреевну, – эгоистически-языческой, примитивно-чувственной эпикурейской жизнью.
Веселиться Наташа умела (пляска у дядюшки). В особо ответственную, исключительную минуту могла, словно по наитию свыше, – по наитию, которое, однако, подозрительно соседствовало со своеволием бесконечно избалованной и не знающей отказа своим желаниям аристократической барышни, – проявить великодушие и жертвенный порыв (отношение к раненым). Наташа хорошо танцевала и пела. Но главным и подлинным содержанием ее жизни оставалась все же только любовь, любовь и любовь, – и притом, конечно, уж никак не любовь в том смысле, как ее проповедовал и провозглашал Лев Толстой в старости.
О превращении Наташи у Толстого из прелестной, порхающей бабочки в поглощенную всецело семейной жизнью мать-самку много писалось. Казалось, и читатель, и критик были обижены за Наташу. А между тем, в превращении этом нет ничего неожиданного: обаятельная в молодости Наташа была, в известном смысле, пустоцветом. Пустоцветом, по существу, была и Татьяна Андреевна.
Пусть не считают, что я оскорбляю материнство. Я только хочу сказать, что ни Наташа, ни ее прототип из пределов эротики, семьи и своего класса не вышли ни на шаг. Наташа росла в крепостное время и не замечала его, ловила только личные радости и огорчалась только личным горем. Татьяна Андреевна, дочь новой эпохи, слышала и не слыхала о народной нужде и о народных требованиях, о борьбе партий, о парламентаризме и социализме. Все это проходило мимо нее. Существенно было то, что она была женой сенатора, носившего красный, шитый золотом мундир, вращалась в высшем свете и могла жить роскошной, беспечальной жизнью. В 1914 году Татьяна Андреевна настроена была патриотично, но лишь в том смысле, что желала, чтобы русское войско расщелкало немцев, так как иначе веселая жизнь в царском Петербурге могла бы перемениться. Кроме того, она была – да простит мне ее память – законченной крепостницей, и едва ли этим не гордилась. Что я не фантазирую, доказывают ее собственные высказывания, в свое время занесенные мною в дневник: уж очень они поражали.
Татьяна Андреевна не знала и не признавала ни рабочих, ни крестьян, ни их прав. Для нее существовало только «хорошее общество», то есть дворянство, знать. Интеллигенция, купечество что-то там такое свое делали и, по-видимому, без них нельзя было обойтись, но, в конце концов, и это были не «настоящие» люди. Словом, тьма, дореформенная тьма окутывала еще, хоть и поседевшую, голову «Наташи».
Услыхав однажды описание какого-то пирога со свежей клубникой, доступного в Америке представителям всех классов, в том числе и рабочим, Татьяна Андреевна с возмущением воскликнула:
– Рабочий не имеет права есть сладкое!
И добавила:
– Я недавно читала о крепостном праве: на душе становится весело!..
Кто-то из присутствующих, – сколько помню, Лев Львович, – заметил, что она, кажется, «опоздала родиться на 100 лет»! И Татьяна Андреевна охотно, и даже с удовольствием, это подтвердила. И она не просто бравировала.
В другой раз говорили о дороговизне рабочих рук и о том, что крестьяне, получивши, согласно завещанию Льва Николаевича, землю, не идут на работу к Софье Андреевне.
Татьяна Андреевна и тут высказалась со свойственным ей «радикализмом»:
– Вот! Устроили самих себя! Все заботились о крестьянах, а что из этого вышло? «Благосостояние крестьян»!.. Да поди они к черту, крестьяне, когда из этого вон что выходит!.. Нас-то, господ, гораздо меньше, чем их. Нас надо охранять!
Тоже – «неожиданно», но сказать, чтоб тут была поэзия, трудно.
Один раз я попробовал усовестить Татьяну Андреевну, но большого успеха не имел. Дело было так. Они сидела и ругала мужиков. Повод был тот, что одна баба, порезавшая себе руку косой, засыпала рану, чтобы остановить кровотечение, углем и потом явилась за помощью.
– Дикари! – кричала Татьяна Андреевна.
– Кто же в этом виноват? – возразил я. – Ведь их никто не учит!
– Никто в этом не виноват!
– Нет, кто-то виноват…
Продолжаем разговор дальше.
– Да черт с ними (то есть с мужиками)! – с досадой восклицает Татьяна Андреевна. – Пускай пропадают! Дикари и дикари. Мне их не жалко!
– Как же не жалко? Ведь мы всё от них имеем!
– Я в это не вхожу!
– Нет, все-таки ваш взгляд на мужиков – неправильный, нехороший. На Страшном суде вам придется дать ответ!
– А я животных любила!
– Так Господь и скажет: как же, животных любила, а народ проглядела?!
На это Татьяна Андреевна возразила, что «практически» она иногда готова помочь мужикам, потому что что-то тут такое, в груди, шевельнется, – черт его побери! – и хочется помочь. Но «теоретически» она ненавидит крестьян. Это, конечно, было «мило» и в духе «Наташи», но полностью меня не удовлетворило, тем более что надо было бы ставить вопрос и о размерах «помощи».
Впрочем, иной раз споры с Татьяной Андреевной кончались и еще неожиданнее. Один раз начал в чем-то убеждать ее М. В. Булыгин. Исчерпав все доводы и не добившись успеха, он, наконец, воскликнул:
– Да ведь это же Христос говорит!
– А мне какое дело? – возразила Татьяна Андреевна. – Христос говорит свое, а я свое!
Христолюбивый и почти православный (хоть и «в духе Нила Сорского») Михаил Васильевич был совершенно ошарашен подобной экстравагантностью.
И опять: мы Наташу здесь чувствуем, но – какую Наташу!..
Вспоминается мне еще один день, в начале осени 1914 года, когда передо мной снова ярко выразились характеры обеих сестер.
Жизнь в усадьбе тянулась однообразно, и старикам захотелось однажды развлечься, именно – проехаться по окрестным полям и лесам на «долгуше». Приглашен был и я принять участие в этой поездке, вместе с мужем и женой Кузминскими и Софьей Андреевной. Рядом с Кузминским сидел, на случай всякого рода помощи, лакей Ваня. Немного неловко было за эту странную поездку в громоздком и уродливом экипаже перед попадавшимися нам навстречу и разглядывавшими нас мужиками.
Проезжаем возле речки Воронки.
– Как это красиво! – говорит Софья Андреевна. – Это сочетание: белые стволы, янтарная листва и на фоне воды… Так и просится зарисовать. Взять сейчас краски и нарисовать. Ах, отчего меня не сделали живописицей! А сделали меня самкой и переписчицей.
Я молчу. Софья Андреевна глядит на меня, определенно «провоцируя», и повторяет:
– Ведь я была всю жизнь только самкой и переписчицей!
– Ну, зачем так ограничивать свою роль, Софья Андреевна?
– Ничего не ограничивать. Меня сделали только самкой и переписчицей! – вновь повторяет Софья Андреевна, капризно сморщив губы.
…Когда вернулись домой, Кузминские ушли в свой флигель, а Софья Андреевна – опять близкая и хорошая – добыла горячей воды, сама устроила чай и позвала меня – согреться после поездки.
– Ничего не могу делать! – пожаловалась она, беспомощно улыбаясь и тряся головой. – Начала книги проверять, – нет! Ничего не могу, все в голове путается.
– Отчего, Софья Андреевна?
– От войны.
И она пояснила, уже не в первый раз, что война не выходит у нее из головы, подавляет ее и не дает ничем заниматься. Она, несомненно, была вполне искренна.
– Только и могу листья в кучи сгребать, самое приятное занятие в таком положении.
Софья Андреевна сгребала опавшие листья в парке – на подстилку скоту.
Вечером за общим чайным столом снова заговорили о войне.
Татьяна Андреевна полюбопытствовала, повесили ли серба Принципа. Ей ответили, что над убийцей Франца Фердинанда еще не было суда29.
– Зачем суд?! – запальчиво воскликнула старуха. – Вот этого я никогда не пойму! Какой тут может быть еще суд? Раз он убил и его схватили, то убить и его тут же на месте!
– Теперь все – убийцы! – возразила сестре Софья Андреевна.
Татьяна Андреевна ругала прислугу. Софья Андреевна заметила, что, видно, сестра ее хочет, чтобы прислуга была совсем как рабы. Та не очень и возражала.
Через некоторое время Софья Андреевна между прочим рассуждала:
– Говорят, что Бог будет помогать. Никому Он не будет помогать. Или – что Бог может наказывать. Вот с этим я никогда не соглашусь! Бог – это нечто неподвижное. А мы все – мы то подвигаемся к Нему, то отходим от Него. И вот, когда мы отходим, дьявол, который караулит, тут-то нас и хватает. И вот теперь дьявол вселился в Вильгельма и через него губит людей. Все равно как в нашей семье дьявол вселился в Черткова и погубил нашу семью. И я тогда подпала внушению дьявола. Разве можно сказать, что Бог меня наказал? Нет, я забыла Бога, а не Бог меня наказал! Я была то, что называется «порченая»… Это все дело дьявола.
В тот же день Софья Андреевна рассказала, что М. С. Сухотин, в разговоре с третьим лицом, выразился о ней так:
– После смерти Льва Николаевича все стали хуже, одна Софья Андреевна стала лучше.
Это было сказано очень метко, хотя и немного двусмысленно именно по отношению к Софье Андреевне.
Но не в этом дело. Дело в том, что между нравственным характером Софьи Андреевны и Татьяны Андреевны лежала целая пропасть. И если Софью Андреевну называли иногда «язычницей» (я сам называл), то настроения ее после разразившегося над семьей несчастья показали все-таки, что душа ее и для христианства не закрыта. Татьяна Андреевна, вся в эгоистическом и эстетическом, кажется, не нуждалась ни в какой другой внутренней опоре.
Знаю, что достанется мне от многих и многих за «развенчивание» Наташи, – и не только этой, престарелой, но, главное, той, поэтической, толстовской. И все же не могу ни скрыть, ни подавить своих сомнений и выводов. Впрочем, пусть, кому нужно, зачеркнет их. Тогда ему останутся еще те наблюдения и впечатления, которые здесь записаны. Буду надеяться, что он воспользуется ими лучше, чем это сделал я.
Еще два слова о сестрах Берс.
Известно, что когда Лев Николаевич посватался к Софье Андреевне, то родители Берс были несколько смущены, так как предполагалось, что он неравнодушен к старшей из трех сестер – к Елизавете Андреевне. Да и по обычаям доброго старого времени полагалось выдавать сначала старшую дочь, а потом уже и остальных. Но чувства и пожелания жениха были определенны, и пришлось, конечно, уступить.
Веду к тому, что мне довелось однажды, тоже по смерти Льва Николаевича, видеть в Ясной Поляне и Елизавету Андреевну, по первому мужу Павленкову, а по второму, приходившемуся ей двоюродным братом, Берс. Это была сухая, строгая старуха, интересовавшаяся только финансовыми вопросами и банковским делом, которым и посвящена была вся ее долгая жизнь.
И я, сравнивая всех трех сестер Берс, думал тогда и думаю теперь:
– Нет, все-таки слава Богу, что Лев Николаевич женился именно на Софье Андреевне! Это был слабый человек, но человек. Из всех трех сестер Софья Андреевна душевно была ближе всех Льву Толстому. Конец их супружества был трагичен, но концу предшествовало 48 лет совместной жизни, в которой было согласия и счастья, наверное, в несколько раз больше, чем расхождений и страданий. Нет, в мире ничего не делается даром. И судьба хотела, чтобы именно Кити стала подругой жизни Левина.