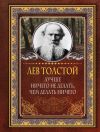Автор книги: Валентин Булгаков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Весной 1913 года Андрей Львович совершил с своей второй женой, бывшей тульской губернаторшей Екатериной Васильевной, по первому мужу Арцимович, а рожденной Горяиновой, поездку в Ниццу. Поездка эта стоила ему безумных денег, потому что он, конечно, не мог иначе, как останавливаться в первоклассных отелях и т. д. Но чувство снобизма было удовлетворено.
Оно было удовлетворено тем более, что в Ницце Андрей Львович познакомился с Романовыми, именно – великими князьями Михаилом Александровичем, бывшим наследником, и Андреем Владимировичем. Как известно, Михаил Александрович женат был морганатическим браком на дочери московского присяжного поверенного Шереметевского. За это его лишили прав на престол, а имущество его отдали под опеку. Михаил и жена жили за границей под фамилией Брасовых (по их русскому имению). На другой Шереметевской, сестре Брасовой, женат был московский присяжный поверенный Матвеев, приятель Андрея Львовича. От него Андрей Львович узнал, что великий князь очень любит черносмородинное варенье, которого он и привез ему, как гостинец от Матвеева. Тот был очень доволен.
Варенье и было поводом к знакомству.
Жили Михаил с женой и маленьким сыном сравнительно скромно, в отеле, в двух или трех комнатах. Катались на автомобиле. Занимались фотографированием. Андрея Львовича приняли очень просто и дружелюбно, но он, по его словам, все же не забывал, что перед ним – сын Александра III, и, именуя великого князя «ваше высочество», через каждые два-три раза заменял это обращение «вашим императорским величеством». У Михаила Александровича А. Л. Толстой познакомился и с приезжавшим в Ниццу на время Андреем Владимировичем.
Романовы интересовались Львом Толстым, к которому относились будто бы с большим уважением, заставляя Андрея Львовича много рассказывать. В присутствии Андрея Львовича m-me Брасова подала как-то мужу томик «Посмертных художественных произведений» Толстого, в нецензурованном заграничном издании24. Михаил просил Андрея Львовича прислать ему переписку Льва Николаевича с теткой гр. А. А. Толстой25, – ту переписку, о которой Лев Николаевич однажды в моем присутствии выразился так, что он в ней умственно кокетничал, и которая как раз подходит для чтения людям, не желающим натыкаться на слишком острые углы в мировоззрении Толстого. Разумеется, Андрей Львович тотчас исполнил просьбу по возвращении в Москву.
Брасова два или три раза сняла сына Толстого вместе с великим князем, чем доставила Андрею Львовичу особое удовольствие. Все эти снимки он потом расставил в изящных красного дерева рамочках под золотыми коронками в своем кабинете.
Характеризуя обоих Романовых, Андрей Львович находил, что Андрей Владимирович – развитее, образованнее. Михаил был симпатичным, простым, может быть, несколько тупым человеком военной складки.
К сыну Александра III Андрей Львович питал особое, двойное почтение, конечно, еще и потому, и именно потому, что Александр III был не просто царь, а «дворянский царь», не чета какому-нибудь Александру II. И Михаил был для него именно «сыном Александра III», а не «внуком Александра II», «царя-освободителя», дорогого только либералам.
Различие между царями – отцом и дедом царствовавшего императора – более чем наглядно подчеркнуто было Андреем Львовичем в одном анекдоте, который он передавал с особым вкусом и смаком, вполне разделяя его «мораль».
Именно, в деревенском доме одного из богатых тульских помещиков Кологривова проживала маленькая девочка, дочь лакея или повара, словом – кого-то из дворовых, и г. помещик обучил ее ответам на следующие вопросы:
– Иди сюда! Говори, кто был первый царь из дома Романовых?
– Михаил Федолович.
– Второй?
– Алексей Михайлович.
– Третий?
– Петл Великий.
И т. д., – девочка называла всех царей и императоров.
Когда очередь доходила до Александра II, Кологривов спрашивал:
– А что, Александр II был плохой царь или хороший?
– Плохой.
– Чем же он был плох?
– Тем, что освободил клестьян от клепостной зависимости.
– А после него кто был царь?
– Александл Тлетий.
– А он был плохой царь или хороший?
– Холосый.
– Чем же он был хороший?
– Тем, что он вновь возвеличил дволянство…
Так, на потеху гостям-помещикам «остроумный» дворянин выводил дрессированную им, точно собачонку, дворовую девочку.
И сын Толстого в Ясной Поляне довольно посмеивался, рассказывая эту историю.
В середине мая 1913 года Андрей Львович снова приехал навестить мать. Вечером долго засиделись в зале. Присутствовал и Лев Львович. Братья вспоминали, как их воспитывали. Обвиняли отца: эгоист, не хотел им частицы себя отдать. Однажды Миша (Михаил Львович) уехал из дому, – отец даже не заметил его отсутствия. Только через неделю спросил: «Да где же Миша?…» А как он ответил Сергею Львовичу, окончившему университет? – Иди, дескать, и подметай улицу!..
В развернувшейся беседе Софья Андреевна, конечно, поддерживала в речах Андрея и Льва все, что обвиняло Льва Николаевича. Но, если оставить это, то вечер был приятный, интимный. И в высказываниях сыновей, особенно Андрея, звучали глубокие, сердечные ноты.
Андрей Львович собирался уехать в 8 часов, а между тем незаметно дотянул до 12. Запряженные лошади давно ожидали его у подъезда.
– В. Ф., поедемте в Топтыково! – внезапно предложил он.
– Поедемте! – отвечал я, не думая, ему в тон.
И… испугался: ночь! Утром надо работать! Но, как я потом ни отговаривался, Андрей Львович уже не отставал. И мы выехали на тройке, в пролетке.
Памятная поездка: русские поля, русская весенняя ночь, свежераспускающиеся деревья, острые углы черных крыш деревенских изб в темном небе, ароматы земли, трав и листвы, пофыркиванье лошадок, темная кучерская спина, огонек папироски в зубах у Андрея Львовича. перекидывание значительными в своей незначительности фразами. Прошлое, где ты? Все сгинуло. Осталось только поэтическое воспоминание.
Приехали глубокой ночью. Расположились на ночлег в мезонине старинного, одноэтажного барского дома, Андрей Львович в спальне с супругой и я в соседней комнате.
Утром осматривали вместе дом, усадьбу, конский завод – затея, тоже превышавшая средства сиятельного помещика. Андрей Львович энергично, и не всегда в цензурной форме, покрикивал на кучеров и конюхов. Все падало и склонялось перед ним, послушное его слову, жесту… Передо мной, в самом деле, был режим начала столетия.
Обедали с графиней и ее маленькой, нервной дочкой Машенькой, – единственным ребенком Андрея Львовича от второго брака и единственной внучкой, любить которую старик Лев Николаевич, по его словам, не мог: он был против развода Андрея Львовича с первой женой и считал второй его брак ненастоящим.
Столовая украшена портретами предков: Волконский, Илья Андреич Толстой, Волконская-Трубецкая, – все, кого можно видеть и на портретах, украшающих стены яснополянского зала. В Топтыкове – копии, изготовленные Ю. И. Игумновой. Топтыковская гостиная утопает в зелени: из десятков больших и маленьких горшков тянутся кверху всевозможные кусты и цветы. Это – пристрастие графини, бывшей губернаторши. По утрам она сама, собственноручно, поливает все растения из маленькой, изящной леечки. Занятие – серьезное, важное и отнимающее, по-видимому, много времени. Хорошо, что кроме него нет никаких других занятий.
На одном из столов – небольшой альбом, в который выписаны из книг шедевры русской лирической поэзии: стихи Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева. Перелистав, убедился, что выбор был недурной.
…Сидим в просторном и роскошном кабинете Андрея Львовича. Он пишет срочное письмо. Поглядев на меня, говорит с усмешкой:
– Я вижу, что вы не умеете ничего не делать. Правда?
– Правда! – отвечаю я.
В самом деле, конский завод был осмотрен, стихи прочтены, и я уже томился воспоминаниями о своей прерванной работе в Ясной Поляне.
Однако Андрей Львович оставил меня еще на одну ночь в Топтыкове, обещая, что зато прокатит меня на автомобиле до Тулы.
Утром на другой день приехал к Андрею Львовичу местный ветеринарный врач. Обсудив дела, причем я лично опять, «не умея, ничего не делал» и томился, Андрей Львович стал рассказывать о том, что он перечитывает сейчас переписку отца с Александрой Андреевной Толстой и не перестает этой перепиской восхищаться.
– Особенно одно место трогает меня: о несчастной любви Борисова к сестре Фета26. Я не знаю ничего выше у Льва Николаевича. Это замечательно!.. Давайте, прочтем вместе. Валентин Федорович, прочтите!
И Андрей Львович уже протягивал мне книгу. Я еще не дочитал, как «беспутный» сын Толстого взволнованно поднялся с места, подошел к окну и, глядя в парк, вытер платком набежавшие на глаза слезы… И уже не мог слов найти для выражения своего умиленного восхищения:
– Ведь это какая прелесть! Какая прелесть!.. А?..
…Потом мы неслись на машине в Тулу, по прекрасному шоссе, быстрее ветра. «Почти интеллигентный» шофер хорошо знал свое дело.
Подкатив к вокзалу, Андрей Львович протянул мне руку. Я взглянул на него и обомлел: всякое выражение добродушия исчезло с его лица, растаял и малейший след улыбки, передо мной был знатный барин и аристократ, граф Толстой: голова откинута назад, губы надменно сжаты. «Пошел!» – шоферу, и автомобиль, круто завернув, скрылся вдали. Толпа носильщиков и случайных пассажиров, столпившихся у подъезда, с подобострастием наблюдала эту сцену.
Приезжал в Ясную Поляну и Илья, второй по возрасту сын, вскоре, перед самой войной, уехавший в Америку и там в 1933 году скончавшийся. Очень похожий наружностью на Льва Николаевича, талантливый, оригинальный. Всю жизнь прожил как попало, без размышлений и в свое удовольствие, а теперь, пожилым человеком, вдруг принялся за литературу и искусство. В конце лета 1913 года Илья Львович появился в Ясной Поляне в новыми планами и с новым увлечением. Как всегда, восхищался самим собой и своей гениальностью, – на этот раз – в качестве живописца. Привез краски, палитру, – все честь честью. Собирался писать могилу отца, уверяя, что напишет по-собственному, что удивит нас.
Однажды вечером, взяв меня под руку, разглядывал луну и все соображал и советовался, какой краской писать луну: желтой? – Нет, не желтой. Голубой? – Нет. Серой? – Нет. Смешать синюю и желтую? – Выйдет зеленая. В конце концов, решил, что надо «очень умело» взять голубую и желтую.
Несколько этюдов, не вполне грамотных, но действительно талантливых, он таки создал.
В другой раз появился зимой с кинематографщиками от фирмы Дранкова. В Ясной снималось несколько сцен для фильма «Чем люди живы», по Л. Толстому, о чем я уже вкратце упоминал. Илья Львович, пышный, гордый, в роскошной шубе, изображал барина. Какой-то, привезенный из Москвы, декадентского вида, женоподобный юноша, испитой и бледнотелый[76]76
Получивший впоследствии известность в качестве певца и поэта. Вертинского (примеч. В. Ф. Булгакова).
[Закрыть], самоотверженно мерз голышком на снегу, изображая провинившегося ангела. Илья забывал все и всех в своем новом увлечении…
При мне же он начал писать в Ясной Поляне свою замечательную книгу воспоминаний об отце, с увлечением рассказывая наперед всем, желающим слушать, о содержании каждой новой главы. Крупный талант, оставшийся неразвитым на 80 %.
Мать любила Илью, но немного робела перед его экстравагантностью. Консервативный Андрей и Лев были ей ближе. А Илья Львович действительно иногда не щадил мать. Помню, например, такой случай.
Сидим все в зале. Вдруг Илья указывает на дверь в гостиную и говорит:
– А я помню, как вот эти двери проламывали в стене! Их при мне проламывали.
Софья Андреевна пользуется удобным случаем, чтобы пуститься в воспоминания и, как всегда, свести их, в конце концов, на себя.
– Как же! – говорит она. – Ведь эта зала пристроена к старому дому. У нас дом был маленький, мы жили бедно и тесно. А когда Лев Николаевич получил деньги за «Войну и мир», я ему и говорю: «Сделай теперь что-нибудь для меня – за то, что я для тебя сделала: я тебе родила тринадцать человек детей, а ты пристрой мне залу, чтобы мне было где играть и бегать с детьми…»
Илья Львович смотрит в упор на мать и говорит:
– Откуда ты взяла, мамаша, тринадцать человек детей?! У вас не было тринадцати детей!
– Как не было?!
– Да так и не было!
Но… Софья Андреевна уже поняла и покраснела немножко. В самом деле, она «залепортовалась»: в то время, когда пристраивалась зала, у них со Львом Николаевичем было. только пятеро детей.
Случай характерный!..
Сергей Львович, старший из сыновей Льва Николаевича и Софьи Андреевны и единственный с законченным университетским образованием, приезжал в осиротевшую Ясную Поляну изредка и всегда приносил с собой позитивный и серьезный дух. Он и был позитивист. И либерал. Но при этом – очень добрый и хороший человек. Только – немного резкий на слова, вернее – всегда прямой: и тогда, когда это было нужно и удобно, и когда, наоборот, это было неудобно и неприятно для других. Также и для Софьи Андреевны, которая обычно робела в присутствии старшего сына, к тому же привязанного к памяти отца глубокой, безусловной, нерушимой любовью. Сергей Львович становился мягче, когда садился за рояль. И в дни его приездов рояль всегда гремел и разливался. Кто имел голос, должен был при этом петь. Имею в виду главным образом… себя самого.
Встречаясь с братьями, Сергей Львович обычно сталкивался с ними на политической почве. Он возмущался неумелым ведением войны и видел, что правительство влечет народ в бездну.
– Великий князь Николай Михайлович[77]77
Писатель-историк (примеч. В. Ф. Булгакова).
[Закрыть], – рассказывал он, – сидит в своем углу, ото всех в стороне, и критически расценивает наших полководцев и министров. Николая Николаевича (верховного главнокомандующего) и других военачальников он называет: «борзятники». И действительно, борзятники!..
– Ты все внушаешь сыну, – говорил Сергей Львович брату Льву, – быть министром! Но быть министром – это значит быть подлецом! Да потому, что теперь это так и не может быть иначе. По крайней мере, за последние лет тридцать.
Разговор происходил летом 1916 года.
Когда же один из присутствующих родственников (молодой Кузминский) заметил, что каждый неосторожный шаг царя или великих князей используется революционерами для пропаганды, Сергей Львович гневно отпарировал:
– Нет, это пора оставить: защищать царскую фамилию!..
Непривычны были такие речи в аристократическом кругу. Конечно, тут сказывался и страх помещика перед надвигающейся революцией.
– Они машут перед народом красным флагом, дразнят его, – говорил Сергей Львович по поводу назначения Штюрмера министром иностранных дел и объявления новой мобилизации во время уборки хлеба.
На это, в самом деле, и возражать было трудно – хотя бы и Андрею со Львом.
Однажды за обедом стали бранить евреев.
– Все-таки я немцев еще больше не люблю, чем евреев, – заметил Лев Львович.
– Оба народа – очень хороши, – возразил Сергей Львович, благодушно прислушивавшийся к разговору и до сих пор не вмешивавшийся в него, – немцы дали Бетховена, Шумана, Гёте, евреи – Исаию, Христа.
Мне тогда очень понравилось это заявление.
– Вполне согласен с Сергеем Львовичем! – вставил и я свое слово.
– Ну конечно! – с оттенком дружеской иронии промолвила, улыбнувшись, Татьяна Львовна.
28 июня 1913 года Сергею Львовичу исполнилось 50 лет. По этому поводу он пригласил мать на два-три дня в свое имение Никольское-Вяземское Чернского уезда Тульской губернии. Я должен был сопровождать Софью Андреевну.
Кстати, 28 – Толстовское число. Оно и не могло быть не Толстовским, раз Лев Николаевич родился 28 августа 1828 года! И вот – подите! – и старший сын Льва Толстого родился тоже 28 числа. А как это было? Об этом рассказывала Софья Андреевна. Оказывается, Лев Николаевич, считавшийся с 28, как с «своим» числом, приходил к рожавшей жене ночью и уговаривал ее:
– Погоди, душечка, рожать: еще нет двадцать восьмого!
В 4 часа утра 28-го Софья Андреевна разрешилась от бремени.
Никольское-Вяземское принадлежало когда-то брату Л. Н. Толстого Николеньке, умершему от чахотки в Гиере, во Франции. Сергей Львович получил это имение при прижизненном разделе Львом Толстым, новым «королем Лиром», всего своего имущества между законными наследниками в 1892 году. Ехать в Никольское надо было сначала по железной дороге, а потом на лошадях, проселками. Лошадей Сергей Львович на станцию не выслал, так как Софья Андреевна не дала ему твердой надежды на приезд, и мы ехали с избалованной яснополянским комфортом графиней в старенькой, облезлой и дребезжащей всеми своими частями извозчичьей пролетке, запряженной парой разномастных низкорослых коньков без всяких признаков «кровей». Но стояло лето, и в полях, еще не скошенных, было так чудесно, хлеба, трава, скромные наши русские цветы так очаровательно бежали непрерывной полосой около нашего экипажа, так хорошо все это пахло, так весело стрекотали кузнечики и дали были такие прелестные, что и я, молодой, и пожилая моя спутница наслаждались одинаково.
На подъездах к имению Сергея Львовича меня поразила только страшная бедность и неустроенность деревень. Таким же было и Никольское-Вяземское. Жалкие, полуразвалившиеся серые деревенские хаты и хатенки под соломой, полуразрушенные частоколы, грязь, отсутствие домовитости, солидности, свойственных нашим сибирским деревням, ничего украшающего быт, ни дерева старого, ни фруктовых садов, ничего. Видно было, что люди живут из последнего и только-только не умирают с голода. «И неужели мы сейчас приедем в благоустроенный помещичий дом? – думал я не без горечи и смущения, – да как же можно жить беззаботной жизнью и богатой усадьбой около такого – по-видимому, безвыходного и неисцелимого – горя и разорения?!»
Деревня радищевских времен была передо мной, и в ней обитал на правах «барина» старший сын Толстого, просвещенный либерал и милейший человек Сергей Львович. Где же исход для России, для крестьян России из подобного, уродливого, неестественного, позорного положения?! Ответа на этот вопрос мое тогдашнее мировоззрение не давало.
Сергей Львович с женой Марьей Николаевной и сыном Сережей жил в просторном, но отнюдь не роскошном, деревянном доме. Train[78]78
Образ (фр.).
[Закрыть] жизни был гораздо более простой и неприхотливый, чем в Ясной Поляне, но все же аристократический. За столом прислуживали не лакеи, а горничная, кушанья были сравнительно очень простые, «деревенские», парк отсутствовал, а цветники перед домом отличались большой скромностью, но имелся все же достаточный штат прислуги, на речке маячила господская купальня, а при Сереже состоял гувернер. В доме гостила и мать хозяйки – представительная и приятная старуха графиня Зубова, рожденная Олсуфьева. Софья Андреевна проводила время в беседах со старухой-графиней, с сыном и с его женой, а я с Сережей и его гувернером ходил на реку купаться и бродил по полям…
На деревне стояла церковь, построенная еще отцом Льва Николаевича графом Николаем Ильичем Толстым, – желто-белая, в классическом, дворянском вкусе. С этой церковью связано было воспоминание о смерти Николая Ильича. Именно, во время освящения сорвалось паникадило и, падая, ушибло голову Николаю Ильичу. «Ну вот, теперь я умру», – сказал он. И действительно в том же году умер.
Самое милое впечатление оставили во мне и дом, и семья Сергея Львовича, и поездка в Никольское. Но только одно. только воспоминание об этой безысходной, застарелой мужицкой нужде – нужде, как зубами ощерившейся рядами жалких, примитивных, годившихся разве только на слом деревенских избенок, застряло в сознании как больной, вечный, неразрешимый вопрос.
Младшего сына Льва Николаевича Михаила Львовича я знал меньше всех других сыновей Толстого. И при жизни, и после смерти отца он лишь изредка и всегда накоротко показывался в Ясной Поляне. Высокий, крепкий, хорошо сложенный, с маленькими медвежьими глазками, с низким лбом и с небольшой темной бородкой, Михаил Львович мало говорил, больше курил или бренчал на рояле, вполголоса напевал цыганские романсы. Культ цыганского пения, которому в молодости отдал дань и Лев Николаевич, увековечивший потом русско-цыганских певцов и певиц в «Живом трупе», держался довольно крепко в семье Толстых. Ему усиленно служили Андрей и Михаил Львовичи. Михаил и сам сочинил, на слова своей жены, довольно мелодичный романс «Мы вышли в сад» – романс, популярный в кругу молодых Толстых – внуков великого писателя и их друзей.
Обычно Михаил Львович проживал в своем имении Чифировке Тульской губернии. Он был женат на очень аристократической, но простой и милой женщине, Александре Владимировне Глебовой. Ее мать, Софья Николаевна, рожденная княжна Трубецкая, родная сестра известных московских профессоров Сергея и Евгения Трубецких, принадлежала к самому «высшему» московскому обществу. У Михаила Львовича были очень милые и способные дети, и личная, семейная жизнь поглощала его целиком.
Отец для Михаила Львовича как бы не существовал. Да и вся Ясная Поляна в целом была для него, по-видимому, чистым нулем, когда-то приятным и любопытным, но давно уже пережитым и отошедшим в прошлое детским воспоминанием. Михаил Львович никогда (на моих глазах, по крайней мере) с отцом не разговаривал, никогда к нему не обращался, никогда ему не писал. В своем совершенном, первобытном эгоизме он мог отлично обходиться и без отца.
Когда Лев Николаевич ушел из дома и лежал больной в Астапове, все сыновья, собравшиеся тогда в Ясной Поляне, написали ему письма, которые должна была доставить отцу их младшая сестра. (Они еще не знали, где именно находится Лев Николаевич.) Каждый исполнил эту обязанность как мог. Только Михаил Львович отказался вовсе писать:
– Всем известно, что я не люблю писать писем! – с обезоруживающею беспечностью выкрикнул он из-за рояля. – Скажи папа, что я думаю так же, как думают Таня и Андрюша.
Этот беспечный, равнодушный ответ глубоко поразил меня в 1910 году и не перестает так же глубоко поражать и теперь.
Никогда не слыхал я, чтобы и после смерти Льва Николаевича Михаил Львович хоть раз вспомнил о нем. Наезжая в Ясную Поляну, целовал руку у матери, справлялся о ее здоровье, прогуливался по парку, громко разговаривал и хохотал с братьями, если кто-нибудь из них тоже случался на ту пору в Ясной, – разговаривал о чем угодно, только не об отце, – а потом садился к роялю и долго и беспорядочно бренчал, мурлыча себе под нос цыганские романсы.
В эпоху Первой мировой войны он служил прапорщиком в так называемой Дикой дивизии, которой командовал царский брат Михаил Александрович. Приезжая на побывку к матери, снова играл на рояле и беспечно рассказывал ей, что война совершенно напоминает ему псовую охоту. Этот сын уже ничем, кроме разве увлечения цыганщиной и, пожалуй, наружностью, не напоминал своего знаменитого отца.
С особой симпатией вспоминаю я о старшей дочери Л. Н. Толстого Татьяне Львовне. Умная, любезная и обходительная, веселая и остроумная и ко всем одинаково доброжелательная, Татьяна Львовна всегда и везде пользовалась всеобщей любовью. Она одна, с ее тактом, умела одинаково удачно находить душевный подход и к отцу, и к матери, даже в пору их расхождения. Я убежден, что если бы в 1910 году Татьяна Львовна жила постоянно в Ясной Поляне, то она нашла бы способы предотвратить тяжелую семейную драму, стоившую жизни Толстому.
Она была даровитой писательницей и художницей. Ей принадлежат очаровательный дневник молодости (изданный до нынешнего, 1958 года только на французском языке) и талантливая книжка «Друзья и гости Ясной Поляны»27. Она училась живописи в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Репин говорил, что он завидует ее способности схватывать сходство. Пусть это был комплимент, но какие-то основания для такого комплимента, видимо, были. В самом деле, портрет Л. Н. Толстого работы его старшей дочери является одним из самых похожих. Но работала Татьяна Львовна, как почти и все другие дети великого труженика Толстого, мало, не сделав в своей жизни и десятой доли того, что могла бы сделать. У нас с Татьяной Львовной были всегда самые дружеские, ничем не замутненные отношения. «Булгаша», – было обычное имя, с которым она ко мне обращалась и лично, и в письмах.
Потеряв в 1910 году отца, Татьяна Львовна в 1914 году потеряла мужа, бывшего члена I-й Государственной думы М. С. Сухотина, замечательно образованного и остроумного человека, а также постоянного партнера Л. Н. Толстого по игре в шахматы. Так как у М. С. Сухотина было несколько взрослых сыновей от первого брака, то Татьяна Львовна не нашла удобным для себя оставаться, по смерти мужа, в его доме в имении Кочеты Новосильского уезда Тульской губернии, и переселилась с восьмилетней дочкой «Татьяной Татьяновной», или Танечкой в Ясную Поляну. Для Софьи Андреевны, любившей дочь и особенно привязанной к маленькой внучке, это было благодеянием. Она снова была не одна. К тому же, уравновешенная, умная и добрая Татьяна Львовна влияла на нее превосходно.
Общение с Татьяной Львовной было приятно и для всех других, сталкивавшихся с нею лиц. Она много пережила, много видела. Прекрасно помнила прошлое в Ясной Поляне, танцевала кадриль с Тургеневым, дружила с Репиным и Ге, путешествовала по Италии, Франции, Германии. Рассказы ее – для меня по крайней мере – были полны интереса.
Вот несколько разрозненных и случайных блестков из любопытных ее повествований.
Татьяна Львовна встречалась со многими выдающимися людьми – между прочим, с автором «Перчатки» Бьёрнстьерне-Бьёрнсоном. Однажды знаменитый норвежский писатель явился с визитом к супругам Сухотиным (это было в Риме), но… тотчас исчез, узнав, что они ожидают в тот же час другого литератора – итальянца графа Губернатиса.
– Терпеть не могу Губернатиса! – заявил своенравный норвежец.
В другой раз в разговоре о Толстом Бьёрнстьерне-Бьёрнсон спрашивал у Татьяны Львовны:
– Ваш отец верил в Бога?
– Да.
– И в святых, и в Церковь, и во все эти глупости?
– Послушайте, но Церковь – это одно, а Бог – совсем другое! – возразила Татьяна Львовна.
– Ах, нет! Это – все то же!..
Что касается себя самого, то Бьёрнсон говорил:
– Я ни во что не верю.
– Значит, умирает человек – и конец? Ничего не остается?
– Ничего не остается!
Я спросил у Татьяны Львовны, не встречалась ли она с Ибсеном. Оказалось что нет. Но вот присутствующий при разговоре Лев Львович заявил, что видел Ибсена в Христиании: красный и толстый, знаменитый писатель пил пиво в каком-то кабачке.
Об оригинале, художнике, скульпторе, князе Паоло Трубецком, при мне посетившем Льва Николаевича в 1910 году и оставившем по себе самое приятное воспоминание, Татьяна Львовна рассказывала, что он был прямо влюблен в наружность Толстого, которая пленяла его своей характерностью. В период первого знакомства в Москве он не сводил глаз со Льва Николаевича. Тому это, наконец, надоело, и однажды, чтобы избавиться от Трубецкого, он заявил, что ему надо ехать в баню.
– И я с вами поеду! – тотчас отозвался Трубецкой, который был в восторге от того, что увидит седобородого «бога-саваофа» голым.
И, нечего делать, пришлось Льву Толстому взять Трубецкого с собой.
Тот же Трубецкой, который знаменит был тем, что он из боязни посторонних влияний ничего не читал, заявил однажды Толстому:
– Из всех ваших сочинений я читал только одно: о вреде табака. Потому что я хотел бросить курить. Но я продолжаю курить.
Разумеется, Лев Николаевич только смеялся в ответ: ему самому нравилась эта оригинальность Трубецкого.
Трубецкой был «дитя природы», вегетерианец, человек прямой и искренний – все это было близко Толстому. Но вспоминаю, как однажды Лев Николаевич осудил Трубецкого: за то, что тот ходил с женой-норвежкой купаться на яснополянскую речушку Воронку, причем оба вместе голышом расхаживали по бережку. Этого строгий моралист уже никак не мог перенести, а между тем у совершенно «по-толстовски» опростившегося художника его наивный «нюдизм»[79]79
Отрицание одежды, культивирующееся кое-где на Западе, в интеллигентских кружках (примеч. В. Ф. Булгакова).
[Закрыть] был ничем иным, как выражением самого искреннего и целомудренного стремления, – характерного, впрочем, именно для интеллигента: подойти поближе к природе, стать таким же простым, как она. Крестьянину, который – в труде – органически связан с природой, конечно, не надо оголяться, чтобы почувствовать себя ее частью…
Татьяна Львовна рассказывала, как она однажды посетила Трубецкого в его мастерской в Петербурге, где он лепил известную статую Александра III верхом на коне. Войдя в огромную мастерскую, она, к своему ужасу, увидела, что, кроме самого скульптора, расхаживают по комнате лошадь, медведь, волк и два огромных дога.
– Сама не помню, – говорила Татьяна Львовна, – как очутилась на каком-то шкафу!.. И Трубецкому стоило больших усилий загнать животных куда-то за перегородку и принудить меня сойти вниз.
А это была idée fixe[80]80
навязчивая идея (фр).
[Закрыть] Трубецкого: доказывать, что животные не менее разумны, чем люди, и что, если их правильно воспитать, освободить от страха перед человеком, то они прекрасно будут уживаться и с людьми, и между собой. Проживая одно время в Париже, Трубецкой, по словам Татьяны Львовны, держал в своей квартире волка, воспитанного им с первых месяцев его волчьего существования. Один раз, выйдя куда-то ненадолго из квартиры, скульптор забыл запереть за собой дверь. Волк вышел, спустился по лестницу и отправился гулять по улицам. Панику он произвел невообразимую! Все бежало и скрывалось перед ним.
Наконец, зверь вошел в один из подъездов, заметил, что дверь одной квартиры раскрыта, вошел в эту квартиру и лег на диван.
Все вокруг было в ужасе, пока кто-то не сообщил, что страшного зверя держит «русский господин». Побежали к Трубецкому. Он явился и увел волка домой. Потом были долгие объяснения с полицией. Художник, во всяком случае, обязался не выпускать зверя и следить за ним.
К этому Татьяна Львовна добавила, что все-таки дикие звери не живали у Трубецкого подолгу и подыхали. Художник уверял, что их «отравляли».
Из посетителей Ясной Поляны Татьяна Львовна описывала в опубликованных своих воспоминаниях Ге, Репина. Но никогда и нигде не коснулась она в печати, как и никто другой, одной оригинальной личности, рассказ о которой я слышал из ее уст летом 1916 года. Имею в виду графа Федора Соллогуба, настоящего Федора Соллогуба, у которого полузабытый уже ныне декадентский писатель Федор Сологуб-Тетерников только заимствовал свой псевдоним.
Это был очень талантливый человек, светский остроумец, стихотворец, пародист, карикатурист и даже фокусник. Успех он имел в свете огромный, особенно среди молодежи. Каждый его приезд в Ясную Поляну был праздником для молодежи.
С именем Федора Соллогуба связывалось множество анекдотов.
Один раз он ехал по железной дороге в одном купе с каким-то купцом старозаветного типа. Вздумалось ему помистифицировать купца. Вот он послюнявит палец, приложит его к коленке – глядь! – вытащил из нее золотой. Посмотрит на него и вышвырнет за окно. Потом опять поплюет на палец, дотронется до коленки, опять – золотой, и опять – в окошко!..