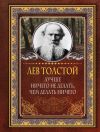Текст книги "Река времени. Дневники и записные книжки"

Автор книги: Валерий Протасов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
***
Чаще и чаще за собой замечаю, что не откликаюсь на встречные взгляды, и что обо мне думают, мне решительно всё равно. Правду сказать, не то чтобы всё равно. Этого быть не может у живого, а хотелось бы. Ухожу и знаю, что мостков здесь не навести. И ничего мне от этих людей не надо, кроме одного: чтобы они оставили меня в покое.
***
Бывает ещё, всё реже и реже, такой день, когда хочется сделать или написать что-нибудь такое, чтобы самому счастливым сделаться и других счастливыми сделать. Да, всё еще бывает, но многое уже ушло. Это жизнь уходит вместе с молодостью.
***
По радио хорошая передача об Алексее Кольцове, воронежском прасоле, поэте. О том, как смеялись над ним в городе, мучили. Остро вспомнил свою юность, как травили меня за то, что не такой, не так живу. А я бился, мучился, не знал, куда спрятаться. И всё это почти без всякого сочувствия, понимания, даже в семье своей. Какая горькая обида! Смерть казалась сладким избавленьем. И, когда совсем уже было невмочь, я убегал в Москву, и там сразу приходил в себя. Как немного, оказывается, было надо! Но этой-то малости я и был лишен. Душа томилась и страдала, как выгоревшая степь. Но и на этой гари поднимались цветы. Каждый росток жизни был сладок. Вот отчего так дороги мне взошедшие тогда из слов цветы. Много раз сходил я в ад и поднимался наверх. Так, из этих схождений и подъёмов и росла моя душа, из этих перепадов от холода к теплу, от мрака к свету, от отчаянья к счастью надежды.
***
Времена Кольцова, скажут мне, давно прошли. О нет! Судьба Кольцова – вечный удел каждого чувствующего человека с живой душой. Так было и так будет. Нет большего несчастья, чем оказаться с ранимым сердцем среди низости и непонимания, да ещё в ту пору, когда душа жадно впитывает всё, что может взять из жизни. Нет счастья, которого она жаждет, как иссохшая земля воду, она берёт горе – воду соленую. Господи, сколько горя запеклось в моей душе с той поры! Простить и забыть это нельзя. И вот почему я во всегдашней и неутолимой войне с низкими и подлыми душами. И мира между нами быть не может.
***
Москва в ту пору была для меня желанной, далекой и близкой, как утерянный рай, страной. И на этой недостижимости желаемого я и воспитал свое чувство идеала. Не достигать, а только желать. Это заменило мне счастье, друзей, семью.
***
Провинция и столица думают и чувствуют по-разному. Пульс в Москве наполненный, в крови не застаивается кровь и муть.
С утра, как пришёл поезд, ходил и ездил по разным памятным и заветным местам. Как всегда, навестил переулок детства. Старый дом не узнал меня. Он обветшал, одряхлел.
Вечером в Зале П. И. Чайковского на вечере балета. Вспомнил театральную жизнь, раскланивался со знакомыми. Они даже не подозревают, что я не живу в Москве. Завидую этим счастливым людям, вряд ли знающим цену своему счастью. Как хорошо мне бывало в театрах! Я пережил там много блаженных и, может быть, самых счастливых, минут. Если рай – это заполняющее всю душу блаженство, то я бывал в раю. И как больно было покидать его! Наверное, то же чувствовал первый человек, изгоняемый из рая.
***
Провинция мягче, проще, и обнаженней, что вовсе не лучше и не приятней. Ветхий человек в ней заметней. Время здесь плотней, его слишком много. Оно громоздится над человеком, подавляя его. Человек как-то мельчает. Но в собственных своих глазах становится даже значительнее, самодержавнее. Однако эта самость становится чем-то неподвижным, тяжёлым.
***
Нигде я больше не чувствую себя хорошо: ни в Москве, ни в провинции. Как «вечный жид», нигде не дома.
***
Несколько дней не подходил к столу. После Москвы болел с кашлем, температурой; тошно и мутно. По ночам какие-то странные сны: всё как должно было бы быть ― и оттого отвращение к окружающему. Теперь понемногу отхожу и снами этими счастлив; стараюсь продлить их в себе, охраняю от внешних вторжений. Состояние спутанное. Об этом надо бы написать. Такие состояния в последние годы обхожу: ведь они порох для взрыва. Помню, как от каждой такой вспышки меня подбрасывало, но пока длился этот полёт из пушки на луну, я мог писать.
В болезни мучились и душа, и тело. Как будто мрачная туча стояла надо мной: ни ветерка, ни облегчения. Теперь, чувствую, что-то сдвинулось и прорастает в душе.
***
Нынче, говоря о малой родине, думают почему-то только о незаметных городках, или о деревне.
Но двух одинаковых деревень не бывает, как и двух городов тоже. А в городе родная улица, а на ней единственный дом. Нельзя найти вторую такую улицу, дом, близких друзей, родных, даже врагов. Из всего этого и возникает чувство родины. Пока остаётся в родных местах хоть что-то узнаваемое, есть и родина. Но если и все приметы исчезают, остаётся целый мир памяти.
***
На собрании в писательской организации сказал о том, что любовь к родному краю ― необходимое условие творчества, но объясняться в такой любви слишком жирным шрифтом значит преувеличивать роль какой-нибудь одной области в общерусской литературе. Областная литература обречена на изоляцию.
События истории надо вращать не вокруг «малой родины», а историю края надо вписать в общий круговорот событий. В центре должен быть человек, а не место. Такая литература будет интересна всем. Пока же наше областное краеведение ― пантеон местночтимых святых.
Роковой день
На мартовском снежке на совершенно ровном месте поскользнулся. Падая, оперся на руку. Всё изменилось в какую-то секунду. Здоровье, бодрость, солнечный свет – всё исчезло, перешло во мрак, как будто на всём ходу вдруг оборвался в пропасть. В глазах темно, боль и почти обморочное состояние. Вызвали скорую. Давление 70 на 40. Оказался перелом. Уложили руку в лубок. Боль утихла.
В приёмном покое больницы сделали гипс. Боль прошла. Медсестры пьют чай. И так мне захотелось сладкого чая и булочку. Мне дали и того, и другого. Истинно человеческое милосердие. На душе стало легко и радостно, как будто этого стакана сладкого чая и булочки мне и не хватало. Иду домой, словно лечу на крыльях. По телефону знакомый: «Что случилось?» Рассказываю. На вопрос, как себя чувствую, отвечаю: хорошо, испытываю состояние счастья. Недоумение. А мне и в самом деле радостно, как не бывало уже давно.
Странно, но о случившемся почти не жалею, даже испытываю что-то вроде благодарности к судьбе. Перешел в какое-то новое состояние, с новыми ощущениями и мыслями, словно сбросил старый груз. Удовольствие следить за ними перевешивает неудобства. Думаю, что человек весь во власти неизвестных ему сил и что может случиться с ним в следующую секунду, совершенно не знает. В этом свете предстает жизнь: и наши усилия, и наши огорчения. Один миг отделяет нас от чего-то совершенно нового. Жизнь и смерть разделяет ничтожно малый переход, в один шаг. Иногда же для этого вообще не нужно никакого физического движения.
Какое же в этих мыслях удовольствие? Не знаю. Но это, может быть, единственное, что позволяет мне подняться над случайностью, да и то после того, как она произошла.
Дом наш всё же стоит на песке.
***
Перелом закрытый. Рука не болит. В таком состоянии покоя и счастья читаю «Воспоминания» М. А. Дмитриева. Благородная мысль автора, что в человеке надо ценить каждый проблеск дарования, радоваться ему, а не похеривать перед большим дарованием, а то и просто из зависти. Мысль, кажется, совершенно чуждая современным литературным людям. Настрой, почти исчезнувший из нашей жизни.
Много рассказывается о людях, или забытых ныне, или совершенно неизвестных, но славных при жизни пусть каким-нибудь одним добрым свойством. Мы привыкли смотреть на этих людей с оттенком снисхожденья. А, между тем, люди эти были лучшими в своём поколении, а, значит, и лучшими среди людей вообще.
***
Иметь право печататься должны все пишущие способные люди самых разных мнений и направлений: ни потопа, ни чумы от этого не случится. Бояться писательского наводнения не стоит.
Настоящего писателя мы узнаем по художественной необходимости его творчества.
***
Если критика ― только одно из мнений, то почему от мнения одного человека должна зависеть судьба другого?
***
Всякая исследование художественного произведения есть попытка дописать его, только другими средствами.
***
Как любят едва вылупившиеся из яйца литераторы дать почувствовать менее удачливому коллеге собственную значительность, владетельное право в животе и смерти попавшего им в руки неудачника.
***
Всякий, даже преуспевший автор знает, сколько приходиться наглотаться унижений, прежде чем выбьешься в люди. Зато уж потом всё то, что проделывали с ним, он повторит с другими. Но зло от повторений становится всё хуже, а уровень правды всё ниже.
Союз писателей, издательства превратились в цензурный департамент, а писатели – в чиновников разного ранга от всесильных начальников до бесправных парий.
***
Рукопись будущей книги рождается в муках и радостях уединения. Но, чтобы сделаться книгой, рукопись проходит через множество рук. И хорошо, если руки эти чуткие и чистые.
***
Редактор ― это акушер, помогающий рождению ребенка. Можно помочь при родах, а можно и навредить. Часто редактирование похоже на обязательную стрижку по установленному для всех одинаковому образцу.
Ремесло
Как можно судить о ремесле, не зная тайн его? Как можно учить мастера делать скрипки, лепить горшки, если сам ничего подобного не делал? А музыку сочинять, книги писать разве легче? А, между тем, многие так называемые критики только этим и занимаются.
Даже если ты и сам художник, судить о чужом создании невозможно, ибо нельзя в точности повторить путь, пройденный другим.
***
Перечитываю свои старые рассказы. Сколько в них чувства, сумятицы, волнения! Они и теперь нравятся мне, а тогда я был ими ослеплен, как открытием, и не замечал недостатков. Критики же мои видели в них одни ошибки и не желали замечать достоинств. Вот это меня больше всего поражало. И так, поставив крест на недостатках, они похоронили и достоинства.
***
Повзросление моё, вызревание жизненно-практическое шло медленно. Я долго оставался ребёнком, мальчишкой, и мне неинтересно было понимать вещи, понятные любому и каждому. Я и сейчас моложе многих моих сверстников по общему пониманию жизни. Всё еще остаюсь идеалистом. И мне ещё расти, умнеть и не скоро достигнуть перевала к старости.
Полнота внимания
Часто сравниваю написанное мною в молодости, с тем, что и как пишется сейчас. Тогда писалось легко, без пота и видимых усилий, так же естественно, как дышалось. И оттого была чистая радость, которой я мерил и художественную удачу. Отчего это было? Думаю, что здесь важна полнота внимания к предмету переживания как к чему-то неповторимому.
***
По-настоящему счастливым в творчестве бываю тогда, когда удается выразить какое-то важное для меня ощущение, мысль. Слова искать не приходится. Вот этот незаметный переход ощущения в слово и является счастьем пишущего.
***
Литература ― это душа человека в слове. И можно ли на душу живую поднимать топор критика? Между тем, главной прелестью нашей несвободной литературной жизни стало право карающего суда над произведением писателя. Строгость и жестокость литературных приговоров, прикрываемые заботой об идейности и качестве, стали обязательностью, почти хорошим тоном.
***
«Метафорическая карнавальная проза» ― такими словами определил бы я некоторые из своих вещей («Кукла без имени»). Жаль, что эта линия прервалась в нашей литературе в 30-годы! Линия А. Грина, М. Булгакова, Ю. Олеши. О достоинстве её говорить излишне, а о праве на существование ― необходимо.
Но главная её черта ― это импровизация как высшая форма поэтического языка.
***
Литература сильна искренностью. Читатель может не знать, каков писатель в жизни (и необязательно это знать), но если тон его произведений искренен и в нём открывается душа, читатель ему поверит.
Литература без доверия не существует.
***
Смотрители нормативной словесности, возможно, не принимают мой интерес к подсознательному, личностному, исповедную искренность чувства. Это кажется им чем-то чуждым, идущим вразрез с установками соцреализма, видящим в исповедности индивидуалистическое начало. Но разве в искусстве есть запретные темы, подходы? Со времен Белинского повторяем: в искусстве нет запретных тем. Критерий один: художественность. Разве можно запрещать, управлять процессом творчества, отказывая в праве на существование свободным человеческим чувствам? Доказывать это всё равно что ломиться в открытую дверь. Но для нас и эта дверь закрыта.
Второе я
Мне говорят, что в каждом моём герое виден я сам. Что делать? Есть два вида художников: одни понимают своего героя, как не связанного с собою лично. Другие сливаются с ним. Одни художники объективные, эпического склада. Другие ― лирики. Таковы были Лермонтов, Байрон, вообще романтики. Но не только они. Главные герои Тургенева ― он сам, Левин ― второе я автора; Флобер: «Госпожа Бовари ― это я». Даже Леонардо да Винчи, говорят, писал свою Монну Лизу с… себя. И это существенно меняет понимание творчества.
***
У наших писателей нет ни теоретических манифестов, ни смелости в поисках новых форм, ни вкуса к экспериментам, посетовал В. А. Каверин в ж. «Литературная учеба». И в литературе нет ни направлений, ни даже кружков. Каждый пишет в своем углу, заботясь лишь о том, чтобы написанное было принято в издательстве. Именно поэтому нет ни игры мысли, ни полёта фантазии, как это было у писателей 20-х годов.
Исчезло и пророческое самосознание.
***
Хороший обычай держится у французов: писать в кафе, на людях, в живом потоке жизни, в её трепетном шуме, вслушиваясь в полутона и неожиданные созвучия. Что ни говори, в кабинетном творчестве и мысль становится кабинетной.
***
Когда на первом съезде писателей уничтожались писательские свободы, докладчики выражали радость (Пастернак). Может быть, надеялись, что кончится грызня между группировками. Но ведь с роспуском групп и объединений писатели лишались и очагов своей свободы. Создавалась новая жёсткая и упрощённая модель жизни: многообразие форм истреблялось. Творчество становилось отраслью государственной жизни. Теория «служебного искусства», «партийности» получила своё законченное выражение. Ни споров, ни инакомыслия: все должны шагать в ногу, петь в унисон. Литература стала службой, департаментом со всеми чиновничьими особенностями. Но ни Достоевского, ни Толстого, ни Щедрина в департаменте не вырастишь.
Наша эпоха реформ должна коснуться и литературы.
Новое дело
Знает, наверное, каждый: когда берёшься за какое-нибудь новое дело, на какой-то миг как бы теряешь себя, своё привычное представление о соотношении вещей. Мера нарушается. Чувство смутное какой-то предрождённости, или состояние путника, озирающегося: куда идти. Вот отчего не все новые дела человеку по душе. Иное занятие как выход из нормы, как болезнь.
Один из способов найти правильную дорогу: это перестать думать о себе как о потерпевшем и начать думать о движении в себе к общему.
***
Говорят, каждый человек может и даже должен измениться, если того требуют обстоятельства. Это значит сменить душу, как в магазине меняют негодный товар? Но если человек от природы бунтарь, его можно только сломать, а изменить нельзя.
Охотничью собаку не сделаешь комнатной, даже если держать её всё время взаперти. Они или взбесится, или просто зачахнет.
***
При попытках управлять мною со стороны испытываю безотчетное чувство сопротивления, переходящее в гнев. Есть одно такое место в душе. Если его задеть, просыпается вулкан. И тогда, хочу я этого или нет, огонь и пепел летят, лава движется, и ничто не может её остановить, пока поток сам собой не иссякнет.
***
В чём истоки личности, её пробуждения? Могу сказать, что я, в известном смысле, воспитывался на записных книжках М. М. Пришвина, на его философии поведения, совпадавшей с моим личным движением к свету. В чтении их и переживании определился я в своем «чувстве мысли». Но и до этого сердце моё что-то искало – и потому способно было принять в себя это учение. До этого – одно только личное, почти неосознанное движение к какой-то цели в себе. Потом движение это преобразилось, приобрело цельность и смысл.
***
Многими заботами обременён на земле человек. И как он устаёт от них! Вот если бы можно было уходить из жизни и возвращаться, когда вздумается! Уходить и вновь стучаться у порога, радуясь встрече и печалясь при расставании.
***
Коротка наша жизнь, но и этот путь слишком долог, ибо часто живём, уже не живя. Легкомыслен оптимизм переживших себя! Прежде всего умирает наше сердце.
***
Господи, как бы я хотел жизни вечной, в садах земных или небесных, чтобы рядом были те, кого я любил, с кем рос. По ним плачет душа моя, по детству моему, по первому цвету жизни, которых не удержать, не вернуть.
***
Да, многое можно пережить, перетерпеть, раз уж нет иного пути: лишь бы всё взошло садом, что когда-то цвело в душе. Одно мучает меня, что всё, о чём пишу, никому не надо.
***
Как странно, что я, рождённый жить, должен буду умереть. Зачем? Почему? Что за закон такой? Мы рождаемся и чувствуем себя вечными, бессмертными. Смерть же принимаем как несправедливость. И ничто нас не утешить, не обмануть не может.
***
Всё больше склоняюсь к мысли, что жизнь человеческая – трагедия без всякого запредельного смысла. И вера тоже из области трагедии. Все ценности жизни здесь, на земле. И вера тоже только земная ценность.
Крестный путь
Из поколения в поколение живут люди в вечном страхе смерти, все тысячи и тысячи лет под её косой. Наступает время для одного поколения провожать близких, потом для другого. Океан смены никогда не спит. Одной молодости не страшна смерть. Но и молодость проходит.
Так человечество проходит свой крестный путь. Другого у него нет. Жизнь ― чудо, бесценный дар, или случайность? Если дар, то не для того он дается, чтобы его осквернять. Но если случайность, то что тогда?
***
Всякий должен уйти, пройдя отмеренный ему путь. Мы знаем это. И, если путь этот пройден достойно, то, казалось бы, не о чем и горевать. Ведь мы не вечны. Но сознание наше не хочет, не может мириться с таким печальным итогом.
***
Ничего не остаётся от человека, кроме плодов дел его, да памяти о нём. В этом вся история.
***
Данте в «Божественной комедии» вглядывался в то, что с нами будет после смерти. Но ведь и он не первый. У Гомера печальное царство теней. А до него халдеи, «Книга мертвых», усыпальницы в пирамидах, возносящих душу к небу…
Ум и сердце
Все люди нуждаются в правильной жизни, как в одежде по себе, в такой жизни, какая им нужна, чтобы не тратиться на безрадостные усилия или не жечь свой мозг без пощады. Многие этого инстинктивно ищут, каждый на свой лад. Одни находят, другие расточают силы на всё подряд. Одни живут сердцем, другие умом, и редки те, у кого ум и сердце в согласии. Сердце чувствует, ум познает, объясняет. Когда путь сердца выбран, ум становится свободным. И человек ищет тогда не только причины явлений в мире, но и как ему самому в этом мире жить, то есть, правильной жизни в согласии сердца и ума.
***
Исследователи ищут, с кого Тургенев списал Лизу Калитину. А надо бы не модель искать и не сходства литературного портрета с жизнью, а сходства нравственного состава. Сходство это как скрепляющая цепочка явлений и лиц. Не прототипы нужно искать, а нравственное сходство явлений.
На выставке
Художник заслуженный, народный, обласканный властью. Выставка юбилейная. Хожу по залам и спрашиваю себя: «Ну, что? Как?», и сначала ничего не могу ответить. Но потом отношение сложилось. Картины большие, от пола до потолка. Здесь и рабочие в спецовках, и строительные краны, и индустриальные пейзажи, и врачи, и художники. Всё современно, узнаваемо и неинтересно. Смотрю на лица людей на портретах. И ничего они мне не говорят, даже как будто знать не хотят обо мне, зрителе. Может быть, я не умею прочитать то, что хотел сказать художник, а, может, и сам живописец не донёс до моего сердца, чем живут его персонажи. Трудно судить. Молчат холсты, не впускают. Сколько, подумал я, положено трудов, получено денег, истрачено красок, холстов, дерева для рам, сколько трудились люди, чтобы все расставить, развесить ― и всё для того, чтобы показать, вот сколько художник нарисовал за свою жизнь. И званий за это получено, и сказано, и написано об этом будто бы народном богатстве!
***
В разговоре о живописи один мой знакомый сказал, что после посещения кафедрального собора, где он видел старинные росписи, ему не хочется смотреть на картины современных художников. В церковных росписях его удивило сочетание суровости и нежности красок. Нынешние художники как-то стесняются нежности. У них или грубость, или слащавость, да еще стилизованная. Но человек, как и прежде, нуждается в нежности. Она основа души. Человек хочет искренности, исконности душевной, а не изображения спецовок и кранов. Открытия, толчка ждёт сердце. И если этого нет, человек уходит обманутый.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?