Текст книги "«Волос ангела»"
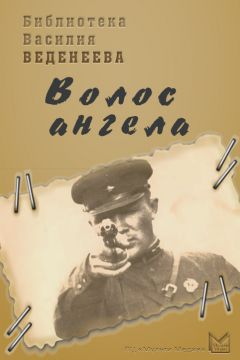
Автор книги: Василий Веденеев
Жанр: Книги о войне, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
– Милая, ночь на дворе, закрыт храм. Приходи, родимая, к утрене! Господь с тобой, – Мария перекрестила зарешеченное оконце и хотела захлопнуть его.
– Не уходи, сестра… – женщина за дверью заплакала. – Господь велел помогать друг другу. Боюсь, не доживет мой муж до утра. Позволь помолиться, не лишай надежды.
– Не могу я, милая, не могу… – Мария, скорбно поджав губы, поправила платок. – Не проси. Моли лучше Господа о милосердии и приходи к утрене…
Зарешеченное оконце в тяжелых дверях стукнуло, захлопнувшись.
Было слышно, как женщина за дверями горько зарыдала. Марии стало жаль ее. Она немного постояла, прислушиваясь к доносившимся из-за двери рыданиям, повернулась, чтобы уйти: Бог милостив – все во власти Его.
За дверью раздался стон, что-то упало. Старуха снова открыла оконце.
– Эй, здесь ли ты?
Молчание в ответ. И снова слабый стон. Потом тишина. Шорох дождя по листве растущих во дворе тополей, перестук капель по карнизу, опять стон.
Ах, если бы можно было выглянуть в оконце в дверях! Да не достать никак. Что же делать?
Бесшумно отодвинув тяжелый засов, Мария мгновенье помедлила, решаясь, потом немного приоткрыла дверь.
Ничего не видно, темень. Налетевший порыв ветра тут же задул слабый огонек свечи.
Мария захлопнула дверь, прижалась к ней спиной, унимая сердцебиение. Быстро зажгла свечу и вновь приоткрыла створку двери.
– Где ты? – она шагнула на паперть, мокрую от дождя.
Слабый огонек прикрытой ее ладонью свечи осветил лежащую у ступенек лестницы женщину в темном платке, сползшем на плечи. Пышные волосы в мелких каплях дождя, бледное лицо, чуть вздрагивают закрытые веки.
Старуха сделала шаг к ней, протянула руку…
Из темноты метнулась чья-то фигура. Мария почувствовала, как сильные руки схватили ее, подняли на воздух, зажали рот, потащили обратно, в сухую темень храма, освещенного огнями редких лампад. Она замычала, болтая ногами, обутыми в старые мужские полуботинки. Попала по колену тащившему. Ее стиснули сильнее, грубо выругавшись сквозь зубы.
Женщина, лежавшая на паперти, быстро встала. По ступенькам взбежали еще двое мужчин – один, перед тем как войти в храм, сложил большой зонт, взял его под мышку и снял шляпу.
Лязгнул задвинутый изнутри засов. Смолк разом шум дождя. Мужчина с зонтом зажег еще пару свечей, прилепил их на край высокого подсвечника, стоявшего на полу.
Марию поставили на ноги. Гулко топоча каблуками, подошел высокий ростом, в надвинутой на глаза шляпе. Достал платок, высморкался. Канищева увидела у него на руках тонкие кожаные перчатки.
– Ну, старая… – сипло сказал он. – Где самое ценное? Покажешь?
Ладонь, закрывавшая ей рот, разжалась. Мария, набрав побольше воздуха в легкие, что было сил завопила:
– Помогите, гра…
Пашка, державший ее сзади, сильно ударил по голове рукоятью револьвера. Мария осела на пол; из-под платка потянулась темная струйка крови.
Заика зло пнул бесчувственное тело старухи ногой.
– Падла старая!
– Тише, тише! – остановил его Невроцкий, зажавший под мышкой сложенный зонт. – Убьешь еще…
Пашка Заика плюнул досадливо и кинулся к свечному ящику, на ходу доставая мешок. Быстро отыскав мелочь, не глядя ссыпал ее, взломал ящик. Разочарованно уставился в его пустоту.
– Кончай ерунду! – Антоний разбил стекло, прикрывавшее большую икону в дорогом окладе с жемчугом, ножом начал отдирать оклад. – Иди помоги! Где цыганка?!
– Я здесь… – из темного угла появилась Ангелина, выманившая Марию за двери.
– Снимайте с Пашкой. Быстро! Я в алтарь…
Антоний заторопился к алтарю. Невроцкий пошел следом за ним.
– Не забудьте про иконки, – негромко напомнил он.
– Счас, Банкир, счас… – Антоний зажег фонарь. Луч света заскользил по иконостасу. – Вот эта, эта тоже… И вон та, в углу. Сам выламывай, мне еще по металлу надо поработать. Давай, Банкир, не стесняйся…
Невроцкий, тяжело вздохнув, неуклюже полез к иконостасу. Антоний быстро скрылся в глубине алтаря; вскоре там звякнуло, что-то покатилось, металлически бренча по каменным плиткам пола.
Алексей Фадеевич, быстро приоткрыв дверь, ведущую в ризницу, недовольно спросил:
– Что тут у вас? Тише нельзя?
– Много… – Антоний с суетливой поспешностью бросал в мешок церковную утварь, тускло блестевшую в неверном свете потайного фонаря. – На переплавку все не отдашь, а оставлять – дурнем будешь.
– Берите все, – задумавшись на минуту, скомандовал Невроцкий. – Я тут одну знакомую фамилию на интересной вывеске видел. Думаю, часть сможем сбыть без переработки, а деньги не пахнут.
– Это точно! – хохотнул Антоний. – Деловой ты мужик, Банкир!
– Не фамильярничайте, – сухо сказал бывший жандарм. – Заканчивайте быстрее.
Он уже сложил иконы в свой саквояж. Пашка и цыганка тоже набили мешок. Вскоре из алтаря появился Антоний.
– Старуху связать – и в угол!
Мария, словно услышав его слова, застонала, пытаясь подняться.
– Быстро! – прикрикнул Антоний.
Пашка Заика, оставив в руках Ангелины мешок, подскочил к Марии. Коротко пнул ее сапогом в голову, потом в грудь. Она затихла.
– Мерзость какая! – не выдержал Алексей Фадее-вич. – Неужели нельзя обойтись без садизма?
– Ты деньги-то любишь? – повернул к нему перекошенное лицо Пашка. В углах его рта запеклась слюна. – А они просто так не даются! Ты свои благородные замашки…
– Хватит! – прервал его Антоний. – Заткнись, чучело! Прав Банкир, нам мокрое дело ни к чему, зря только легавых будоражить!
Он подошел, нагнулся над Марией, взяв ее за руку. Пришлось снять перчатку. Пальцы уловили слабое биение пульса.
– Жива… Вяжите, и рот заткнуть. Да смотри, чтобы не задохлась.
Ангелина уже успела выскочить на улицу и ждала их на паперти, нетерпеливо пристукивая по каменным плитам церковного крыльца каблучками высоких шнурованных ботинок.
Перед тем как выйти, Антоний еще раз тщательно осмотрел все, поочередно освещая фонарем каждый угол. Оставшись, видимо, довольным, задул свечи, зажженные Невроцким, сунул их тоже в мешок. Выйдя, плотно прикрыл за собой тяжелую дверь собора. Взвалил, прикрякнув, на спину мешок с награбленным, быстро пошел прочь. Остальные кинулись за ним.
Дождь уже перестал, небо очистилось, проглянули редкие звезды, стало прохладнее, суше.
Когда подошли к ожидавшей их пролетке, на козлах которой дремал неопрятного вида хмельной старик, Антоний замедлил шаг, кивком головы подозвал Ангелину:
– Завтра встретимся, как всегда, в Охотном ряду, у церкви Параскевы. Потом найдешь Психа, передашь ему добро. Он знает, куда отнесть. И помалкивай…
Цыганка кивнула. Плотнее закуталась в свой необъятный платок и растаяла в сумраке переулка.
– Ну, садись, Банкир. Подвезем тебя до первой извозчичьей биржи. Чего в темень шататься по городу, только зря ноги бить. – Антоний положил мешки в коляску, забрался сам. Пашка влез следом.
Невроцкий решил принять предложение: квартиры, где он устроился на жительство, они все равно не увидят, а зря ходить действительно смысла нет. Пересядет где-нибудь по дороге на извозчика, и вся недолга.
Ткнули в спину дремавшего старика. Тот встрепенулся, хлестнул кнутом жеребца.
– Как управились? – прикуривая, спросил Антоний. Алексей Фадеевич достал из жилетного кармана часы. Затянувшись папиросой, взглянул на стрелки.
– За час сорок…
– То-то! – довольно засмеялся Антоний. Легонько тронул ногой лежавшие на полу пролетки мешки. – И добыча неплоха. С почином!..
* * *
Недалеко от Таганской площади беспризорники грелись у костра, разведенного под асфальтовым котлом, – чумазые, пестро одетые, а многие просто полуголые, в немыслимых лохмотьях, они расположились кружком у огня, не обращая внимания на редких в этот поздний час прохожих.
Проходя мимо, Федор невольно замедлил шаг – нет ли тут, среди них, того самого мальчишки, за которого он вступился около рынка на Смоленской? Лицо его он хорошо запомнил.
Нет, среди этих ребят, освещенных отблесками пламени костра, знакомого не было. Жаль…
За драку, несмотря на заступничество Якова Ивановича Перфильева – депутата и старого большевика, Федору все же влетело. Поделом, наверное. Знай, где и как поступать. Торговцы не рабочие, ты для них чужд, непонятен, страшен: взяток не берешь, водку на халяву, как прежние полицейские чины, не пьешь, подарков тебе домой носить не надо, а отвечать за неблаговидные делишки требуешь по всей строгости. И по закону!
Да взять хотя бы случай с мальчишкой. Старый полицейский чин в лучшем случае посмотрел бы с любопытством: чем дело кончится? А если бы приказчик прибил мальчонку, то сунули бы приставу "барашка в бумажке"; тот прислал бы городового – осмотреть тело с доктором вместе, осмотрели бы и решили – сам помер. Доктора, как правило, в таких случаях прятали глаза, отворачиваясь, или вообще не ходили. Но тем не менее…
Федор неспешным шагом шел по Большим Каменщикам – в давние времена здесь жили мастеровые, искусные камнетесы, принимавшие участие в постройке родовой усыпальницы Романовых – Новоспасского монастыря. Наверное, среди них был и далекий предок Федора, а может, и не каменщиком он был, а богомазом: писал иконы или растирал краски, готовил доски, покрывая их слоем левкаса, на котором под тонкой кистью живописца оживали потом библейские сюжеты и строгие лики святых. Кто знает?
Сейчас будет Глотов переулок, мрачная громада Таганской тюрьмы – еще одного наследия самодержавия, потом надвинется из темноты старое, темно-красного кирпича здание пожарной части с высокой каланчой. Останется справа белеющий в темноте Новоспасский монастырь, около которого раньше на Яблочный Спас устраивали шумные ярмарки.
А Федору идти левее, в Крутицкие переулки, – там его дом, там, сидя у керосиновой лампы с шитьем в руках, ждет его мать. Мама, добрая, милая мама. Сколько же она ждала его, пока он ходил по свету; и сейчас она так часто остается одна, тревожится, когда его долго нет, смотрит в окна, выходит на крыльцо, вслушиваясь – не раздаются ли в ночной тишине знакомые легкие и быстрые шаги сына.
Ничего, теперь он рядом, кончилась война, одолели все – и белых, и тиф, и голод. И вычистят свою землю от еще прячущейся по углам нечисти. Кому-то надо заниматься и этим, чтобы потомкам было жить легче и лучше.
Но материнские глаза все чаще и чаще останавливаются на его лице с немым, невысказанным вопросом. Да, ему уже за тридцать, а ни семьи, ни детей – то носило по всей земле, то много лет подряд воевал и сейчас, пожалуй, все еще воюет. Не нашлась его судьба, его суженая-ряженая: никак не встретит того единственного человека, чтобы на всю жизнь. Может, и не придется встретить никогда? А вдруг уже однажды встретил и тут же потерял? Отчего так часто и ярко всплывают в его памяти заброшенное кладбище на окраине маленького белорусского городка, тонкая женская фигурка в темном, торопливо сказанные слова, когда пытались уйти от полицейских и жандармов.
Но ведь он даже не видел ее лица, не знает имени! Кто она, откуда? Тогда не было возможности спросить: его поймали, осудили на вечную каторгу. В тюрьме и на этапе он интересовался у товарищей: не взяли ли кого еще после его ареста? Нет, никого. Значит, ей удалось уйти.
Недавно Толя Черников наконец помог отыскать адрес Сибирцева. Надо написать, расспросить: не может он не помнить Федора Грекова; холодного, сырого и мрачного склепа; каши, которую носил в солдатском котелке. Ведь именно Сибирцев сказал ему в ту памятную ночь о связном, который выведет Федора на железную дорогу. Значит, он, Сибирцев, знает, кто должен был прийти за ним к склепу той ночью.
Он напишет Сибирцеву, обязательно. И дождется ответа.
Вот и его переулок, горбатенький, мощенный булыгой, через которую все равно пробивается неистребимая травка спорыш. В детстве они почему-то звали ее поросячьей – этой травкой буйно зарастали дворы, пустоши и даже протоптанные тропинки. Трава его детства. Старый кривой тополь во дворе, на который отец привешивал ему качели, неказистые дровяные сарайчики, общие радость и горе рядом живущих небогатых людей, зарабатывающих на хлеб своим трудом.
Федор поднялся по скрипучим деревянным ступенькам крыльца, легонько стукнул пальцами в стекло окна, из которого через неплотно прикрытые занавески пробивалась полоска света. Услышав за дверью шаги, сказал:
– Это я, мама…
* * *
В XV и начале XVI столетия ходили по всей Руси монеты удельных княжеств: разные по размерам, достоинству, содержанию в них благородных металлов. Владетельный князь, пусть даже и небольшого удельного княжества, считал долгом чести пустить в оборот собственную монету, а уж купеческие города, разбогатевшие на заморской торговле, тем более. В славном Великом Новгороде, чьи купцы вели торг и с Ганзейским союзом, и со Скандинавией, и чуть не до краев света добирались с товаром, чеканили сто монет из одного серебряного слитка. Слиток тот по весу был как двести московских. Имели хождение и «порченые» монеты, которым ловкие дельцы обрезали края, экономя серебро и блюдя свою выгоду. Ну разве не обидно было все это великому московскому князю?
И в 1553 году решило московское правительство провести денежную реформу – стали по Руси ходить только те монеты, которые были отчеканены на Государевом монетном дворе. Били на монете герб Московского государства – Егория Победоносца, поражающего длинным копьем злого змия. Отсюда и назвали их копейными, а на тех, что достоинством поменьше, били всадника с острой саблей в руке. Называли те монеты и новгородками, и московками, и деньгой, а самые мелкие, с птичкой – полушками.
Своего серебра в России было тогда мало, и шли в Москве на чеканку денег монеты иностранные – талеры и гульдены, которые для Государева монетного двора закупали как товар. Звали те монеты на Руси ефимками. В том же XVI веке за двести ефимков давали всего три рубля. Время шло, серебро в России, да и во всем мире начали добывать в больших количествах, одна денежная реформа сменяла другую, появились и медные деньги, но серебро уже успело приобрести новую жизнь.
О мастерах Государева монетного двора Москва сохранила память в названии Серебряного переулка, что на Арбате, а о других мастерах серебряных дел память иная.
Максим Золотарев из города Калуги, Афанасий Ко-рытов из Ярославля, устюжанин Иван Жилин на весь мир прославили русских мастеров-ювелиров необычайной красоты изделиями из серебра. А какая техника работ: и гравировка, и чеканка, и фигурное литье, и золочение. Да мало ли умельцев было на Руси?
В XIX веке появились первые ювелирные фабрики; ювелиры-одиночки, не выдерживая конкуренции крупных предприятий, начали объединяться в артели или шли наниматься мастерами к новому хозяину. Только в Москве за короткое время создалось более тридцати ювелирных артелей.
Наступил новый расцвет ювелирного искусства в России, и большая заслуга в этом принадлежит мастерам-ювелирам Москвы и Петербурга.
В середине XIX столетия первое место в производстве уникальных ювелирных изделий из серебра занимала фабрика Сазикова. Он первый из всех русских фабрикантов-ювелиров обратился к сюжетам из русской истории и народной жизни – разнообразные скульптурные произведения, отличавшиеся тонкой работой и сложным композиционным решением, принесли фирме Сазикова заслуженную славу не только в России, но и за ее рубежами. Начиная с шестидесятых годов XIX столетия большой популярностью начала пользоваться продукция крупнейшего московского фабриканта Павла Овчинникова. До сих пор радуют глаз яркие, чистые краски эмали, причудливая форма ваз, кубков, табакерок, филигранная работа мастеров-ювелиров. По качеству и разнообразию изделий с фирмой Овчинникова соперничала фирма Хлебникова, выпускавшая, хотя и в меньшем количестве, украшенные эмалью высококачественные изделия в древнерусском стиле. Однако для мастеров-ювелиров, работавших в этой фирме, более характерны были чеканные и литые скульптурные произведения, воспроизводящие сценки охоты, деревенских гуляний и городской жизни. Первыми в мире русские мастера-чеканщики фирмы Хлебникова сумели достичь подлинной виртуозности в воспроизведении из драгоценного металла фактуры любого другого материала – ткани, дерева, кожи, плетения из лыка или прутьев.
Особое место среди ювелирных фирм конца XIX – начала XX века занимала знаменитая фирма Фаберже. Ее мастера впервые начали производить вырезанные из уральских, сибирских и кавказских полудрагоценных камней фигурки животных и людей. Изделия этой фирмы, выполненные с большим художественным вкусом, отличающиеся тонкой проработкой фактуры материала и всех деталей, по праву получили всемирное признание.
Высокой степенью мастерства отличались и работы мастеров-ювелиров фабрики С.И. Губкина. Он первый среди фабрикантов-ювелиров создал при своей фабрике специальные воскресные рисовальные классы для обучения молодых мастеров. Основная продукция фабрики – столовые приборы, чайная посуда, блюда, вазы для фруктов из серебра с хрусталем, ковши с чернью, кружки с резьбой – всегда отличалась большим изяществом и красотой.
В числе лучших фирм Петербурга стоит назвать фирму братьев Грачевых, выпускавшую тонкие, своеобразные эмалевые изделия и серебряные скульптурные произведения; одним из лучших петербургских ювелиров был и А.С. Брагин, основавший в 1888 году мастерскую серебряных изделий, в которой изготовлялись чайные и кофейные сервизы, охотно покупаемые во всех странах Европы, вазочки, сухарницы, чеканные чарки…
Но к драгоценным металлам тянулись и жадные, часто обагренные кровью руки. Не всегда легко удавалось сбыть краденую или взятую разбоем драгоценность – требовалась ее переделка, чтобы не узнали, не поймали за руку. Так и появились связанные с преступным миром подпольные ювелиры, которых прозвали серебряниками…
* * *
Старый серебряник Иван Васильевич Метляев жил недалеко от Хитровки. Найти легко: стоило только пройти от Хитрова рынка узким, зажатым доходными домами переулком на Яузский бульвар, немного спуститься по нему к Солянке, а там повернуть влево, к Яузе, к ее устью. И пожалуйста – большая церковь, а за ней, по бережку – домики, утонувшие в зелени густых кустов.
В одном из них и обитал Иван Васильевич, вдовый старичок с маленьким, сморщенным, как печеное яблоко, личиком и редкой, козлиной бородкой.
Давно отделившийся от него сын Алексей – грузный, в мать, с выпученными и вечно сонными глазами – занимался извозом; подкопив деньжат, прикупил кобылу, не новую, но еще крепкую коляску, вполне полноправно встал на биржу московских извозчиков, но отца не забывал. Что ни день – заглянет: то одно, то другое, то за самоваром посидеть, попить чайку, до которого оба Метляевы были большие охотники.
Вот и сегодня пришел с утра – день будний, работы немного, да и работать-то Алешка любил не очень.
Поставили самовар, начали чаепитие, перебрасывались редкими фразами – говорить особо не о чем, почти все переговорено, но Алексей держал в своей голове одну думку, хотел с родителем с глазу на глаз потихоньку перетолковать, да пока выжидал – все не было удобного момента начать нужный разговор.
Приметил сынок, что стал опять появляться в домике у отца знакомый вор-карманник Колька, прозванный Психом. Не так чтобы очень Колька Псих удачлив был или действительно входил в воровскую элиту, но деньги у него водились. Колька – вертлявый, с щербатым ртом, косой челкой, падающей на глаза, – никогда Алексею не нравился. Он уважал людей дородных, степенных, как таганские купцы или охотнорядцы, которых привык видеть с детства. Коммерческие люди – сила! Но опять же не в этом дело: зачем, зачем к родителю ходит Колька? – вот что не давало покоя Алексею.
Устроив поудобнее на растопыренных толстых пальцах блюдце с чаем, Алексей понемножку откусывал крепкими зубами от маленького куска сахара и шумно прихлебывал из блюдца, то и дело поглядывая на отца. Тот, повесив полотенце на шею – утирать пот, истово пил огненно-горячий чай, посасывая размоченную в чашке баранку.
Молчали. Тускло светились образа в красном углу, где-то билась с жужжанием муха о стекло, слышно было, как во дворе тяжело переступает копытами кобыла Алексея, запряженная в коляску.
В дверь постучали. Иван Васильевич степенно отставил чай, пошел отворить. Через минуту в комнату ввалился Колька Псих: в полосатом костюмчике, новых сапогах и при галстуке. В руках у него был мешок. Бережно поставив его на пол, он снял картуз.
– Здорово, хозяева!
– И тебе Господь навстречу… – Иван Васильевич бочком протиснулся мимо Кольки и снова умостился за столом. – Садись, чайку попьем.
– Некогда чаи гонять. Работа готова?
Алексей повел на него своими выпученными белесыми глазами: может, теперь и не надо будет папашку ни о чем выспрашивать, все и так само собой узнается – не будет же родитель от него таиться? И так, почитай, всю его подноготную сын знает.
– А то… – откликнулся старший Метляев. – Да ты сядь, в ногах правды нету.
– Попей чайку… – Алексей подвинул по столу к Кольке пустой стакан.
– Чай не водка, много не выпьешь, – ощерился Псих.
– Давно тебя не видать было, – Алексей снова шумно отхлебнул из блюдца. – Гдей-то пропадал?
– А ты, никак, заскучал? Я не девка, по мне скучать нечего.
– Ладно, кобели! Будет собачиться, – незлобно остановил их Иван Васильевич. – Присядь, я счас… Ну, Бог напитал, никто не видал.
Он небрежно перекрестился на иконы и зашаркал обрезанными валенками, в которых ходил зимой и летом, в угол комнаты, к комоду. Колька, отряхнув для порядка картуз об колено, сел к столу.
Старый серебряник повозился у комода, выдвигая и задвигая ящики, наконец отыскал очки в простенькой оправе, надел.
– Ну, покажи, чего принес?
– Не-е… – засмеялся Псих, – сперва работу давай. А я тут тебе – кой-какой товарец за труды.
Нагнувшись, он развязал мешок, начал выкладывать на стол «товарец». Первыми появились два отреза мануфактуры, за ними новые сапоги, несколько больших жестянок с чаем, пара небольших голов сахара, бутыль с подсолнечным маслом, мешочек с крупой.
Отставив блюдце, Алексей потянулся пощупать материю.
– Удружил, удружил старику, хе-хе-хе… – дребезжащим смехом зашелся Иван Васильевич, сноровисто подгребая к себе принесенное Психом добро. – Как металл принимать будешь? Весом али по штукам?
– Ты, Иван Васильевич, дуриком не катись! – Псих опустил мешок. – Весом брал, весом и сдавай!
"Не иначе папашка опять за старое принялся, – подумал Алексей, с интересом наблюдая за происходящим. – Тута все ясно. Зато другой вопрос – откуда у Кольки Психа металл? И какой – неужто золото?.."
– Да ладно, ладно! – замахал на гостя сухими ладошками Метляев-старший. – Серчаешь-то что? Это я по-стариковски, запамятовал.
– "Запамятовал", – передразнил его Псих, – небось и так к лапам прилипло?
– Угорает, угорает, милай! Угорает золотишко при плавке. Вот, помню, раньше, бывалоча, кто не веровал, что угорает, приходилось при заказчике плавить. Счас я, счас…
Метляев-старший суетливо бросился на другую половину. Вернулся с саквояжем в руках и весами под мышкой. Быстро поставил их на столе, грохнул на одну чашку саквояж, на другую начал ставить гири, приговаривая:
– Вот, вишь, милай, как и было…
– Это ты брось, брось! – остановил его Колька. – А саквояж? В нем тоже вес есть.
– А работа? – выставил упрямо козлиную бороденку Иван Васильевич.
– За работу тебе дадено, с собой в Царствие Небесное все равно ничего не утянешь. Давай в мешке вешать!
Он поднял свой мешок и начал высыпать на стол кресты, чаши, оклады икон. Кое-где на них остались невынутые камни, взблескивавшие разноцветным огнем.
Алексей как зачарованный смотрел на это великолепие, совсем забыв про чай.
– Ай и кровосос же ты, Колька! – покачал головой серебряник.
– Кто из нас кровосос, еще глядеть надо! Смотри, старая образина, это что, а?! Фунта почти нет!
– Не могет того быть! – запальчиво возразил Иван Васильевич Кольке, вновь надевая снятые было очки. – Где? Где не хватает? А камушки? Они тоже вес имеют! А скрепы убрал, медь золоченую… Фунта ему не хватает.
– Вечно ты мудришь. – Псих снял мешок с весов. – Давай камни.
Старик, все еще сердито ворча себе под нос что-то неразборчивое, подошел к божнице, пошарил там, достал небольшой замшевый мешочек. Вложил Кольке в руку. Тот быстро спрятал его за пазухой.
– Ты чего же, Колька, – Алексей потянулся за чашей: блеск полированного серебра на круглых ребристых боках, чеканная золотая отделка по ободку так и манили, просились в руки, – в клюквенники подался? Церквы шарашишь? Не божеское дело.
– И не твое! – огрызнулся Псих. – Сам небось, когда пьяных по ночам обираешь, о Боге тоже не очень-то думаешь? Лучше бы пошел на отцовский промысел.
– Ну, мое дело извощицкое. – Алексей поставил чашу и снова взялся за чай. "Откуда Колька про пьяных знает? Сказал кто или так болтнул, да и в точку?" – Я к папашкиному промыслу неспособный: руки не те, да и у горна стоять грудь не позволяет. На воздухе вольготнее.
– Вот и не лезь не в свои дела, гоняй кабыздоха кнутиком, и вся недолга. Бери… – Колька подвинул ближе к серебрянику принесённое, – камни, которые остались, повынешь, рыжье[12]12
Золото (жаргон.).
[Закрыть] и серебришко переплавь, чтоб не узнать.
– Все, милай, сделаю, все. Когда надо-то?
– На неделе приду. Ладно, давайте…
Псих достал из кармана пиджака бутылку водки, ловко выбил ударом ладони о донышко пробку, разлил в быстро подставленные стаканы.
– Закусить есть что или сахар будем сосать?
– Найдем.
Старик принес хлеба, кислой капусты, воблу. Выпили.
– Стало быть, лопатников[13]13
Бумажник (жаргон.).
[Закрыть] не хватает тебе тапери-ча? – Алексей вытер руки о штаны и потянулся к закуске. – Не боишься, что заметут тебя эти, из Чеки?
– Дурак ты, Алешка! Не обижайся, но как есть дурак. – Псих вынул пачку папирос, ловким щелчком вышиб одну, прикурил. – У меня руки, – он вытянул длинные нервные пальцы перед носом Алексея, – по локоть золотые. Они меня и кормят. Понял? Руки, а не язык! Язык, когда он как коровье ботало, не только рук, но и головы лишить может.
– А-а, – отмахнулся извозчик. – Я делов ваших не знаю и знать не хочу. Мое дело извозное. Папашку только вот как бы опять не затягали.
– Тю… – присвистнул Колька, – он у тебя заслуженный. При царе два раза в тюряге парился. Страдалец, значит, от проклятого самодержавия. А ты, Алешка, смотри!
– Да ты что, и вправду псих? Нешто меня не знаешь?
– Хватит вам, лучше по последней лампадочке опрокинем. – Иван Васильевич разлил в стаканы остатки водки.
– Нет, пойду, – поднялся Псих. Надел картуз, взял саквояж. – На неделе жди, Васильич.
Метляев-старший засеменил за ним запереть дверь.
– Бросил бы ты, папашка, это дело, – дождавшись его возвращения, меланхолично сказал сын. – Истинный Бог, заметут тебя! Не прежнее время. Теперича не пристава, не купишь.
– А жрать чего? – окрысился старый серебряник. – Точно, другое время. Кто кормить-то меня будет? Теперя кто не работает, не ест, а ты добра мне не нажил, чтобы его проедать!
– Какое у меня с извозу добро? Кобыленка лядащая, баба, детишков куча.
– Вот-вот. Ты и решил, стало быть, папашку в нищие определить? А сам только ходишь и скандыбишь, – отец, скорчив гримасу, передразнил сына, – "папашка, дай мануфактуры, дитям одеть неча!" Папашка то, папашка это, знай, слезьми заливаешься. А откель у папашки все? Сам-то небось не одного пьяного в ночи почистил? Часы откуда взял?
– Какие часы? – вскинулся Алексей.
– Такие. Которые пропил на прошлой неделе! Ась? Забыл, что ли?
– Да брось ты, папашка.
– То-то… А то – «какие»… Я ить сам не ворую. Мне несут – я переделаю. – Метляев-старший опять устроился за столом, налил себе чаю.
– Все одно, поостерегся бы. Откуда все это у Психа?
– Дак и я было спросил, а он в ответ: людям, мол, нужным помочь требуется. Ты сам гляди не болтни кому во хмелю, ирод!
– Да будет тебе, папашка…
* * *
Ночь – время бесовское. Особливо когда часы пробьют двенадцать, а ветер так и воет, так и воет, неся по небу рваные тучи, космами наплывающие на желтоватую луну. Даром что тепло и дерева листвой покрылись – вон как гнутся под ветром у стоящих под окнами деревьев ветви, качаются, словно манит природа куда-то, зовет. А днем солнышко греет, ласково припекая, в небе синь, словно умыто все. Воистину правдивы слова Священного Писания: «Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце».
Митрополит Московский, Коломенский и Крутицкий отошел от окна. Мягко ступая, прошелся по узкому, больше похожему на келью, чем на рабочую комнату главы Русской Православной Церкви, кабинету. Остановившись у стола, медленно перебрал лежавшие на нем бумаги, положил их на место, прижав сухой старческой ладонью.
Ограблена еще одна церковь – злоумышленники, не боясь Божьего суда и кары суда мирского, по-прежнему творят свои злодеяния. Сколь же велик список похищенных ценностей и дорогих, старого письма икон! Неужели только и остается сказать: "Во всем, постигшем нас, Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виноваты"?
Но в чем, Господи?!
Разве он, верховный пастырь, покинул народ свой и уехал в эмиграцию, как другие? Он всегда считал, что Русская Православная Церковь без России существовать не может. Какая же она тогда русская? Православная – может быть, но русская – нет!
Теперь там, на чужой земле, ушедшие уже говорят о «своем» митрополите. Что же, видимо, они ушли навсегда: то, что народом отринуто, не может вернуться. Но не может быть и двух одинаковых митрополитов, как не может быть двух Русских Церквей. Где же у той Церкви народ русский?!
Народ здесь, значит, с ним и его место.
Вот они, бумаги, – лежат под ладонью, гладко исписанные убористым почерком. Слова, в них заключенные, отталкивают и притягивают одновременно, как страшное увечье, на которое не хочешь смотреть, а оно так и манит к себе глаза, ужасая ум твой непоправимостью чужого несчастья. И словно жжет ладонь тонкий лист.
Он убрал руку, как будто и вправду боялся ожечься. Снова начал мерять шагами келью-кабинет.
"Я получил в удел месяцы суетные, и ночи горестные отчислены мне".
Да, горестна эта ночь, и мысли посещают греховные – не о деле, которое надо решить, а совсем о другом, мирском, казавшемся давно забытым.
Детство, оставшееся так далеко – в прошлом веке, веселая ярмарка, большой бородатый мужик с лукошком, до краев полным крупной красной клюквы. Возьмет чашку, насыплет ягод, а сверху, для сладости, – ложку меда. Да еще и приговаривает: "По ягоду, по клюкву, володимерская клюква, приходила клюква издалека просить меди пятака! А вы, детушки, поплакивайте, у матушек грошиков попрашивайте, ах, по ягоду, по клюкву"…
Добрая улыбка тронула губы митрополита. Согрелась душа давним воспоминанием, как будто и вправду пахнуло легким морозцем, скрипнул первый снежок под ногой, явственно услышался голос торговца.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































