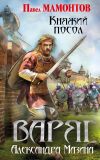Текст книги "Вишенки"
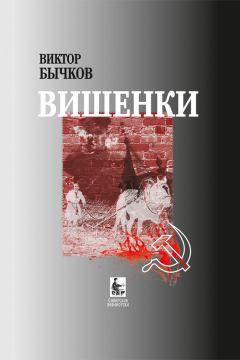
Автор книги: Виктор Бычков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
Потом всё же стала рассуждать, вспомнила про Ефима, его глаза, его слова, что говорил перед расставанием.
– Выходит, мало того, что ты не родила ему ребёнка, так ещё хочешь заставить страдать лишний раз, по лишнему поводу? Неужели так и будет жить один, бобылём? Терзаться душой и сердцем от неизвестности за пропавшую жену? И почему ж ты зла желаешь мужу своему? – и упрекала, и корила себя одновременно.
Она знает мужа, верит ему. Вон сколько раз он мог бы бросить её, уйти к другой женщине, ан нет, не бросил. А ты ему что в знак благодарности? Или хотя бы своё присутствие, и то, слава Богу, для мужика, что жена цела, невредима. Или оставшуюся жизнь жить с тяжкими думами, томиться неизвестностью?
– Вот дура так дура! – одёрнула себя Глаша. – Это столько пройти, натерпеться. А тут в конце… Вот дура!
Узкая, еле заметная тропка петляла между сосен, бежала по скалам, поднималась куда-то ввысь. Но вот ветер донёс до женщины еле уловимый запах дыма.
Тропинку пересекал ручеёк, что вытекал из-под огромного валуна. И сразу же за поворотом открылась небольшая площадка с костром посредине. За костром в скале виден был вход в пещеру с дверью из связанных тонких палок. По бокам стояли заросли можжевельника, прямо над пещерой высилась огромная сосна.
На этой стороне костра спиной к Глаше сидел старец.
Женщина остановилась, не решаясь вспугнуть его своим неожиданным появлением.
– Проходи, чего встала? – долетел до неё далеко не старческий голос.
– Здравствуйте, – и замерла в нерешительности сбоку от старика. Он встал, повернулся к гостье.
Только сейчас она смогла рассмотреть его: высокий, чуть сутулый старец в рубище, седой как лунь, с блеклыми глазами, глубоко спрятанными за мохнатыми бровями.
– Проходи, садись, – пригласил старик. – Сейчас чай пить будем.
Сам направился в пещеру, отставив в сторону двери.
На костре висел закопченный старый чайник, кипел, попыхивая паром из носика. Женщина огляделась, приметила в углу площадки под можжевеловым кустом небольшой плоский камень, очень похожий на кем-то оставленный чурбан, прошла, села. Рядом лежал ещё такой же камень.
А солнце проникло и сюда, на площадку у пещеры, пригрело. Прижавшись спиной к скале, Глаша прикрыла глаза, отдыхала, прислушиваясь к себе, к мыслям, старалась понять, что чувствует она, добравшись до цели.
Оказывается, ощущает усталость. Да ещё захотелось сильно спать. Кажется, вот сейчас лечь на плоские камни и спать, спать, не просыпаясь. А проснуться уже в другой жизни, с другими ощущениями, с иными представлениями о себе.
И с этого места открывался удивительной красоты вид. Солнце осветило вершины сопок, растворилось в них, сделав сами горы, камень живыми, теплыми, ласковыми на вид. Леса на склонах и вершинах приобрели удивительной свежести зелёный цвет, на расстоянии сливающийся с небесной синевой, оттого так радующей глаз, бередящей душу, что захотелось остаться здесь навсегда.
– Рай, чисто рай! – шептала Глафира. – Стоило, воистину стоило только из-за него прийти сюда, увидеть божественную красоту, и можно умирать.
А что?! Может, и вправду отыскать вот такое же местечко где-нибудь в скалах и остаться? Так это же выход! И как это она до сих пор об этом не думала?
Тогда все проблемы будут решены сами собой, без её участия. А она знай себе собирай ягоды, грибы, думай о вечном, ходи вот в таком же, как старец, рубище, и никому и ничем не обязана. Живи, вдыхай в себя божественной чистоты и свежести воздух, любуйся благодатью, что лежит, раскинулась пред взором. И перед Господом будет чиста, что не покинула жизнь, не прервала, а, напротив, в молитвах приблизится к Богу, станет замаливать свои грехи уже совершённые и ещё только предполагаемые. За родных станет замаливать, за Ефимушку, сестричку Марфушку, Данилку, Волчковых дедушку и бабушку, за всю деревеньку Вишенки. А то им, занятым мирскими делами, всё как-то недосуг остановиться, снять грех с души, вспомнить Господа добрым словом. Вот так счастье-то будет!
Не заметила, как задремала. Очнулась, пришла в себя от покашливания старца. Рядом у ног стояли три небольших, мелких туеска с сушёными морошкой, черникой и голубикой. Тут же на соседнем камне сидел старик, молча отхлёбывал из закопченной кружки кипяток, периодически запуская руку в тот или иной туесок за ягодой, неспешно отправляя её в рот.
– Простите, батюшка, – извиняющее произнесла Глаша, не зная, что делать. – Вот, задремала. Простите, за-ради Христа.
– Бог простит, голуба. Ты пей чай, потом отдохнёшь. Я укажу тебе место в кельи, хорошо отдохнёшь.
Говорил не длинными фразами, а отрывисто, будто сначала думал, что сказать, и только потом произносил слова.
Женщина достала котомку, разложила у ног, принялась выкладывать кулёчки с сухарями, корочками хлеба, вяленую и солёную рыбу. Сохранился даже кусочек сахара. Она уже и не помнит, как он оказался в котомке.
– Угощайтесь, – предложила старцу, обведя рукой свои богатства.
Старик не заставил себя долго ждать, упрашивать. Взял кусочек сахара, подержал в руках, любуясь, положил в рот, долго гонял во рту, причмокивая.
– Спасибо, голуба, давненько я не сластил себя. Уважила старика, спасибо.
А она зарделась вся от похвалы, зарумянилась, засмущалась.
– Ой, что вы, что вы, батюшка, не стоит благодарить. Я и не помню, как у меня сахар оказался, откуда появился.
– Значит, Господь послал. Ну и слава Богу. А сухари назавтра оставлю. На сегодня хватит.
И больше за чаепитием не было произнесено ни слова.
Потом старец отвёл гостью в келью, указал на что-то, похожее на топчан вдоль стены пещеры, сложенное из камней, устеленное высохшей травой. Слева и справа на самодельных полочках стояло множество туесков разных размеров с сушёной ягодой. На длинной тонкой ветке висело несколько вяленых рыбин. И всё!
Свод кельи овальный, низкий, отшлифованный временем. Видно сразу, что не человеческих рук дело. Над входом часть свода прокопчено, а чуть в стороне от центра пещеры на каменном полу хорошо видны остатки кострища. По всем данным, в длинные морозные дни согревалась и отапливалась келья по-чёрному.
Всё это Глаша приметила как-то сразу, оно бросалось в глаза. Но её тянул, манил к себе лежак. Хотелось спать как никогда. Кажется, если вот сейчас не упадёт на топчан, то жизнь точно остановится или, в лучшем случае, повернёт вспять, хотя ночь проспала, отдыхала у сопки Кахляяра. Старец понял устремления гостьи и, указав на топчан, тотчас вышел наружу, оставив женщину отдыхать. Упала на топчан, не заметила даже, мягкий он или жёсткий, провалилась как в яму.
Неделя пролетела как один день. Несколько раз Глаша ходила со стариком, а потом и одна собирала ягоды, рассыпала по плоским камням, сушила. Принесла свежей травы, высушила, сменила подстилку на каменном топчане.
А тогда, в первый день, проснувшись, даже не почувствовала острых, ребристых углов некоторых камней. Спала как младенец, без сновидений, и проснулась настолько отдохнувшей, с такой чистой, ясной головой, что от избытка чувств готова была объять весь мир.
В остальное время были разговоры. Притом говорила только гостья, а старик иногда вставлял словцо, задавал вопросы. А больше молчал, слушал. Оживился, проявил повышенный интерес, когда Глаша рассказывала про неудавшееся сведение счётов с жизнью. Неодобрительно кивал головой, крестился, не забывая осенить крестным знамением женщину.
И когда попросил рассказать о деревеньке своей, о её жителях, гостья заметила вдруг блеск в глазах старца.
– Как ты сказала, называется твоя деревня?
– Вишенки, батюшка. Ви-шен-ки.
– Говори, говори, – старик прикрыл заслезившиеся вдруг глаза, прислонился спиной к скале, устремив свой взор куда-то вверх, к солнцу, к облакам, что проносились в это время в неведомые дали.
И слушал, слушал молча, тихо, наслаждаясь каждым словом, каждым звуком, что произносила женщина. Впитывал в себя, только слёзы чистые, нечастые нет-нет да скатывались по седой бороде, падали на грудь старика.
А Глаша и не поняла, посчитала, что слезятся старческие глаза от старости, потому говорила и говорила. Рассказала и о бунте в Пустошке, как уговаривал, просил не восставать против власти их новый староста Вишенок Щербич Макар Егорович, но и не перечил тем, кто ходил с оружием помогать повстанцам.
– И что Щербич?
– Вы про Макара Егоровича?
Старец лишь кивнул, не меняя позы, весь превратившись вслух.
– О! Это такой человек, такой человек, – женщина не находила слов. – Такой добрый человек, что мне и не сказать словами, батюшка. Скупил земли у пана Буглака, на винокурне мой Ефим за главного, а муж сестры Данила новый сад заложил по велению Макара Егоровича, дай ему Бог здоровья. Да только пришлось ему, бедняжке, отдать всё новой власти, большевикам, Советам. Сам, говорят, написал бумагу и отказался от всего.
Сына женил Степана, остались жить в своём доме. Внуки есть, правда, сноха родила последний раз двойню, так один мальчик на второй день и помер, царствие ему небесное. А второй живой, слава Богу, живой, шустрый такой. И сестра его старше на годик тоже, слава Богу. Макар Егорович в них души не чает, с рук не спускает. Всё с ним да с ним внуки-то.
Глаша замолчала. Старик так и сидел, прижавшись к скале.
– Вот и ладно, – наконец разомкнул уста. – Вот и ладно. Сам отдал, – сказал тихо, почти прошептал, но гостья услышала. – И слава Богу. Душа моя встала на место.
И безо всякого перехода обратился к гостье:
– А ты поверни глаза свои, ум, душу на мужа и сестру свою. Кровь-то одна. А теперь ступай. Поздно уже. Холода скоро.
– Так вы прогоняете меня, батюшка? – опешила гостья.
– Нет, выпроваживаю. Успей до холодов. Да помни слова мои. Последние. И живи.
Женщина уходила, поминутно оглядываясь. Старик остался стоять за валуном у ручья, смотрел ей вслед, опираясь на посох.
– Приходила ко мне успокоить свою душу. А помогла мне. Успокоила мою. Вот теперь и всё. Можно. Я спокоен, – шептал прерывисто, короткими фразами, как привык.
Набежавший ветер принёс с собой прохладу уходящего лета, трепал рубище, шевелил седые волосы на непокрытой голове, на бороде старца. Стоял долго, смотрел в сторону Мяйяозера и туда дальше, до сопки Кахляяра, и ещё дальше, туда, где небо и земля сливались в один цвет, сначала туманный светло-серый с голуба и, наконец, в почти не видимый глазом, один тусклый цвет бесконечности.
Ветер рябил чистые воды озера, солнце играло бликами в них, а старик всё стоял, всё смотрел и видел одному ему ведомые видения, картины.
Глава 13
На Успенье Пресвятой Богородицы Глаша была уже дома.
Неожиданно в своём доме встретила Макара Егоровича Щербича, Ефима не было.
– Вот, хозяюшка, извини, что у вас обитаю.
– А Ефим где?
– Не пугайся, Глафира, но муж твой в районной тюрьме сидит. Такие, брат, дела. Сходи пока до сестры, пускай она тебе всё расскажет. Но ничего страшного нет, даст Бог разберутся, отпустят.
Даже не умыв лицо с дороги, кинулась к соседям. Кольцовы сидели за столом, собирались обедать. Данила нарезал хлеб, хозяйка ставила на стол глубокую глиняную чашку холодника из щавеля. Детишки облепили стол, жадными глазами наблюдали за родителями, ждали. А их уже было восемь, девятый вот-вот готовился появиться на свет.
– И слава Богу, – засуетилась Марфа вместо приветствия при виде сестры. – Как раз к обеду поспела. Проходи, садись.
– Некогда, некогда, – стала отнекиваться Глаша. – Вы мне лучше расскажите, что с Фим кой.
– Вот сейчас покушаем, и я тебе всё обскажу. Только ты не волнуйся, не переживай, – сразу успокоил гостью хозяин. – Страшного ничего нет, но неприятно. Разберутся, и придёт твой мужик. А пока садись за стол.
– Да у вас и так места не хватает. Может, я позже приду?
– Нет-нет, – запротестовала хозяйка. – Присядь к окну, я тебе в отдельную посудину плесну. Поешь с дороги. Вряд ли Макар Егорович приготовил что-то у вас дома.
Пришлось подчиниться, да и голод давал знать. Почитай, последние двое суток перед домом во рту маковой росинки не было. Всё домой спешила. Да и нечего было есть. Всё, что было в котомке, утащили в поезде перед районным центром.
Экономила всю дорогу, сама в жадобку питалась, сидела на одних сухарях с кипятком, рыбку вяленую и солёною, несколько кульков с сушёной ягодой морошкой думала привести для гостинца, а оно вон как.
И отвернулась-то буквально на мгновение, а котомка исчезла. Кинулась туда-сюда искать, да что толку. Оно и неудивительно: такая толчея в вагоне, того и гляди, сама потеряешься.
Молчали, только стук ложек о чашку, да шмыганье носами стояли в хате.
Наконец, Данила вылез из-за стола, подался во двор, на ходу вытащив кисет. За ним вышла Глаша, чуть позже подошла и Марфа, присела на порожек, с интересом уставилась на сестру.
– Сядь рядышком, Глашка, соскучилась я по тебе. Дай наглядеться.
– Где уж тебе скучать, – ответила сестре, но всё же села. – Вон за стол уже не вмещаются, а ты говоришь – скучать.
Паутина бабьего лета колебалась на слабом ветру, зацепившись за плетень. Стаи птиц кружили над деревней, готовились к отлёту в тёплые края. Листья на деревьях, кустах пожухли, приобретали жёлто-серый, а на черёмухе и чистый жёлтый цвет. На вершинах берёз ещё сохранилась летняя зелень, но того, первородного зелёного цвета уже не было, и сами листочки вот-вот должны были облететь, исчезнуть, уйти в небытие.
Куры по-хозяйски сновали под ногами, утки сидели у корыта с водой, попрятав голову под крылья.
– Исхудала вся, бедненькая, – Марфа прижалась к сестре, коснулась губами головы. – Хорошо ли сходила? Опасностей не было?
– Потом, потом, сестрица. Вы мне про мужа моего расскажите. А я потом всё расскажу, успеется.
– Тогда слушай, – Данила присел у стенки на корточки, выдохнул густую струю дыма. – В аккурат сразу после твоего ухода начались у нас такие непонятки, что сам чёрт ногу сломит.
Оказывается, после посевной ни с того ни с сего арестовали председателя Слободского сельсовета, куда входят деревни Борки, Вишенки, Пустошка и Руня, товарища Сидоркина Николая Ивановича. Приехали люди из района с милицией и увезли в тюрьму. И мужик-то вроде неплохой, но кто его знает? И партиец, и на советской работе, а вот видишь, как оно бывает. Тут сам с собой не всегда в ладах, а что говорить о чужом человеке?
Правда, слухи до сих пор ходят, что районному начальству не нравится, как обошёлся Сидоркин с Макаром Егоровичем. Мол, пригрел врага народа, взял под крыло переродившегося буржуя, дал работу, его ставленниками заполнил все должности в сельсовете. Вот и Ефим руководит винокурней, и Данила в саду при тёплом месте. И ещё что-то. В общем, на собрании разнесли работу председателя Николая Ивановича в пух и прах. Припомнили и восстание в Пустошке. Не доглядел, мол, председатель. Хотя когда оно было? Быльём всё поросло, а поди ж ты, через сколько времени вспомнили. Ругали сильно, принародно. Данила не запомнил всех заумных слов, которыми обзывали Сидоркина, но какой-то утопист и соглашатель. И ещё какие-то слова, на слух гадкие, недобрые.
Рассказчик несколько раз смачно сплюнул, заматерился.
– Это ж как понимать? Раз человек хорошо работает, люди уважают, так сразу и враг?
Там же, на сходе сняли с работы Ефима и Данилу. Всё! Сейчас они безработные, кулаки, итить его в коромысло, как говорит дед Прокоп.
– И слово-то какое придумали? Кулаки! Это какой же я кулак? – возмущался Данила. – Детишек полная изба, земли две десятины, моих родителей да Марфина, два вола на две хаты, конь. Всё! Всё-о-о! Чего ж им от нас надо?
Так сделали укор Волчковыми. Мол, мы с Фимкой пользуемся, как это? Экс-плу-ати-руем деда и его десятину. Ну не бред? Совести, говорят, у нас нет, над стариками издеваемся, их землёй задарма пользуемся. Это кто пользуется? Да кабы не мы с Фимкой, старики давно бы на погосте лежали, землю парили с голодухи. Как будто мы втихаря, не на виду у всей деревни открыто работали, не утаивали ничего. Э-э, да что говорить?!
– А Ефим, Ефим что? Что с ним-то? – волновалась Глаша, дёргая за рукав рассказчика. – Ты про него-то почему не говоришь?
– А что Ефим? – не понял Данила. – Ничего Ефим. В рожу съездил одному, что больше всех вякал на собрании, вот и схлопотал арест. Я-то кинулся на подмогу, так меня мужики удержали, на руках повисли, а не то мы бы с Фимкой ещё такого дрозда дали, что чертям тошно стало! Разогнали бы бражку эту, ни дна ей ни покрышки.
– И всё? Только за драку? – уточнила Глаша, с волнением глядя на Данилу. – Из-за драки? Не врёшь?
– Кукушка врёт, сказал бы дед Прокоп.
– Ты только нас извиняй, – встряла в разговор Марфа, – что мы с Данилкой Макара Егоровича к вам поселили.
– Как это?
– Вот так. Аккурат после того собрания, будь оно неладно, его же с семьёй, с сыном, с невесткой и внуками выселили из дома, а сам дом забрали. Там сейчас заседает товарищество по совместной обработке земли. Вот как замысловато. Еле запомнила.
Оказывается, на том же собрании было предложено районными начальниками выселить Щербичей из хаты и сослать в ссылку, как семью врага народа, которые спят и видят, как бы это сделать очередную гадость родной советской власти.
Ну народ, конечно, забузил, не согласился. Однако нашлись и такие, что поддержали. Вспомнили таинственное исчезновение купца Востротина, начали считать деньги, что выложил Щербич за земли да винокурню, на покупку саженцев и нового оборудования. Мол, вор он и разбойник, честным трудом таких деньжищ не заработаешь. И ещё сомневаться стали, что не спроста он сам, добровольно сдал имущество, богатство своё советской власти.
Мол, с умыслом это сделано, обязательно с тайной мыслью. Это – чтобы сохранилось в смутные времена, а потом свергнут, падёт народная власть. А богатство сохранённое, в целости и сохранности! Не может ведь быть того, чтобы человек сам отказывался от благ. Ну, потом и ещё всякие гадости про Щербичей говорить стали, начали требовать выселения из деревни. Вот тут-то как раз и разошёлся Ефим, так его сразу же и обломали.
Многие тогда были против, но кто с ними считался? Прислушались к бедноте, справным хозяевам и слова не давали сказать, всё норовили рот закрыть. И не попрёшь! Из района, помимо начальства, ещё и пять милиционеров привезли с винтарями да наганами. Однако Макара Егоровича мужики отстояли, не дали арестовать там же, прямо на собрании. Но надолго ли?
Прав дед Прокоп: не правдой возьмут, а силой задавят коммунисты да большевики, холера их бери. Так оно и есть.
– А вы, справные мужики, что? – спросила Глаша. – Неужто не могли веских доводов высказать, своими думками поделиться?
– Утёрли сопли после того собрания, да и разошлись каждый по своей избе, дожёвывать, – подвёл итог Данила. – А что делать будешь? Повторить то, что было в Пустошке? А больно надо?
Неужели мы с Фимкой пропадём, не проживём без сада да винокурни?
Семью Щербичей приютили соседи в Борках. Безногий сапожник Лосев Михаил Михайлович забрал к себе сноху с детишками, Степана. Предлагал и Макару Егоровичу, но тот отказался. Куда, мол, и свои дети, и мои, будем толкаться в тесноте, стеснять друг друга.
– И правда, – снова заговорила Марфа. – Тебя, Глашка, нет, Ефим в тюрьме, а изба одна стоит. Вот и предложил Данилка, поживи, мол, Егорыч, пока хозяева объявятся. Ты не обиделась, сестричка?
– Нет-нет, что вы? – поспешно ответила Глафира. – Правильно, пускай живёт. Он для нас столько добра сделал. Так что правильно всё.
Успокоилась, отлегло от сердца, когда узнала всё про Ефима. На самом деле, за драку на каторгу не пошлют. Хотя при нынешних властях могут хулиганство переделать в политику, и ваши не пляшут. Скажут, на советскую власть руку поднял, и всё. Им что, привыкать? Сделают так, как им нужно, не считаясь ни с чем.
Да-а, жаль Макара Егоровича, искренне жаль. Вишь, Данилка говорит, что мужики встали за него горой, даже до драки дошло. Однако не перешибёшь власть, нет, не перешибёшь.
А как самим теперь жить? Где работать и кем? Ну им-то с Фимкой куда ни шло, а вот как Кольцовым? Нехотя с ума сойдёшь. Это ж такую ораву прокормить надо.
Опасения не оправдались. Не успела Глаша прийти от соседей, как и Ефим вернулся, стоит во дворе, улыбается, распростёр руки, бежит навстречу жене. Ну и слава Богу!
– Три раза улицу подмёл у райисполкома, и шабаш! – довольный, Ефим приобнял жену, повёл в дом. – Ну, а ты-то как?
– Потом, Фимушка, потом. Всё хорошо, будем надеяться. Вот жить-то как сейчас станем? Работы-то нет, а есть-пить надо.
Из избы вышел Щербич, постоял с минутку, наблюдая, направился к калитке на улицу.
– Куда же вы, Макар Егорович, – Глаша кинулась вслед, взяла за рукав, вернула во двор. – У меня для вас новости, ой, какие интересные!
– Хм! – хмыкнул мужчина, но подчинился, заинтригованный. – Чего там ты для меня интересного узнала? Говори.
Уже в доме за столом, за чаем, Глаша рассказала в подробностях разговор со старцем Афиногеном.
– Вроде слушал меня внимательно, участливо, а как назвала нашу деревеньку Вишенки, ожил как-то, встрепенулся. И ещё переспросил, мол, а Щербич как? Ну, я и обсказала всё как есть, Макар Егорович, не обессудьте меня, грешную. Хотела как лучше.
– Ну-ну, – Щербич даже подался вперёд, навис над столом. – Дальше-то что? Не томи, говори быстрее.
– Выслушал меня внимательно и, как теперь понимаю, даже всплакнул. Я-то, глупая, сразу подумала, что глаза от старости слезятся, а вот сейчас поняла. И ещё прошептал, но я услышала, мол, ну и слава Богу, мол, сам отдал. Теперь, говорит, душа его успокоится, и помирать можно. Вот так-то, Макар Егорович, – закончила хозяйка.
– А сам-то как, какой из себя этот старец Афиноген?
– Обыкновенный. Белый как лунь, в рубище.
– Так я не понял, – вмешался в разговор Ефим. – Ты что, Егорыч, со святыми знаком?
– Кто его знает? – развёл руками Щербич. – Я же раньше видной особой был, со многими знался. Вот и получается, что кто-то из моих знакомых. Как ты говоришь, место называется то?
– Сейчас скажу. Диковинные названия, нерусские. Но я запомнила. Верст двадцать не доходя Кеми, сразу за сопкой Кахляяра есть Мяйяозеро. По правую руку гряда каменная да две протоки. И там, на возвышенности в пещере, обитает старец Афиноген. Вот.
– Дай-ка карандаш, Ефим Егорович, и клочок бумажки, запишу, а то на память надежды нет, стареть начал.
Не допив чай, Макар Егорович вылез из-за стола, поблагодарил хозяев, вышел из хаты.
«Вот и подходит к концу твоя деятельность, необходимость твоего присутствия на земле, – неспешно направился в сторону леса. – Может и вправду, стоило уехать из страны? Да, переболел бы, перестрадал, зато был бы у дел, а не так как сейчас. Словно пил, а не напился, лишь облился, прости Господи.
А что важнее? Мои дела или вот эти деревеньки, где жил, рожал детей, любил? Но душа-то моя здесь, зачем обманывать самого себя. И дела мои, и помыслы направлены были именно на то, чтобы стали краше эти места, лучше, богаче и добрее люди, населяющие их.
Пусть отняли, забрали всё, но оно, богатство моё, осталось здесь и будет служить моим потомкам, потомкам моих земляков. Да и богатство ли это было – земля, сады, винокурня? Для кого оно, богатство? Для меня? Какая чушь! Прав Егор Егорович Востротин: Бог дал, Бог забрал. Неужели оно продлит мне жизнь на этой земле? Или я заберу его с собой в могилу на тот свет? Опять чушь. Никогда не считал себя скрягой, жадным, нет, не считал. Даже не ставил целью обогатиться ради богатства, денег. Направлял свои сбережения на новые рабочие места, то есть на людей. Давал им возможность жить, работать, содержать семьи, чувствовать себя людьми в лучшем понимании этого слова. И вдруг меня объявляют врагом народа. И снова чушь! Только из уст властьпредержащих. Так и хочется спросить: «А вы что дали этому народу? Может, вы как раз и есть его враги, раз лишаете элементарных человеческих условий, гоните на убой, как скотину? Так кто из нас больший враг? Вот то-то и оно. Только у вас вооружённая сила, а я безоружен, не стал противиться вам, не противился злу насилием». Может, и зря? Помимо церковных заповедей никто не отменял и народной мудрости: как поют, так и отпевают, око за око, зуб за зуб. Хотя нельзя ставить на одни весы власть, богатство и человеческую жизнь. Значит, правильно я делал, что противился насилию. Совесть моя чиста, руки не запятнаны кровью людской. Как это можно совместить: любовь, заботу о людях с их кровью на твоих руках? Вот он где, ужас-то! Нет, все богатства мои не стоят и капельки крови людской. Это немаловажно при подведении итогов жизненных.
По молодости об этом как-то не думаем, считаем себя правыми и безгрешными, но наступают в жизни минуты, нет, возраст, когда начинаешь думать о вечном, тогда-то, именно тогда и происходит переоценка ценностей. Вдруг обнаруживаешь, что чёрное становится и не таким уж тёмным, а на светлом появляются посторонние пятна.
Нет, не стоит и скромничать. Жил если не на широкую ногу, то уж многим на зависть. Получал удовольствие от работы, не от блеска золота, не от вин заморских, не от палат каменных, а именно от работы. Мне нравилось работать, видеть результат, тихо гордиться собой, не выпячивая свои заслуги. Осознание этого возвышает меня, должно возвышать. Это же благодаря мне крутятся жернова, и растут сады, и колосятся поля, и радуются жизни люди. Чем не благодать земная для души? И почему нельзя гордиться собой, своим трудом, успехом? Нет, это не гордыня, а тихая гордость самим собой, здоровая человеческая гордость за сделанное тобой дело. Она-то и придаёт силы, зажигает задор в глазах, подвигает на новые дела. И всё-то я делал не для себя в конечном итоге. Я оставляю людям. Не сделал ни единого шага, ни единой попытки сохранить за собой, защитить силой нажитого именно мною. Напротив, пошёл навстречу новой власти, добровольно вручил в руки – нате, берите, пользуйтесь! А они меня врагом. Э-эх!».
Макару Егоровичу вдруг вспомнилось последнее собрание, что проводили жители Слободы, Борков, Вишенок и Пустошки по требованию товарища Чадова Николая Николаевича.
С первого знакомства между ними возникла некая неприязнь, хотя Щербич и пытался гасить в себе такие чувства. Однако с противоположной стороны это уже была неприкрытая вражда, ненависть, презрение к нему, Щербичу, как к человеку. Впрочем, чему удивляться, если по требованию того же Чадова арестовали, отстранили от должности Сидоркина Николая Ивановича. О какой непредвзятости может идти речь? Это же единомышленники, однопартийцы, а поди ж ты… Что тогда можно говорить о простых людях? Вишь, расстреливали жителей Пустошки после подавления восстания без суда и следствия, как бродячих собак. Вот оно, уважение к людям. И тут же орут на каждом перекрёстке об уважении, о заботе и внимании к труженикам, работягам. А Сидоркин, что, лодырь? Оказывается, вся вина его в том, что послушал Щербича, оставил Гриня Ефима Егоровича и Кольцова Данилу Никитича на прежних должностях при винокурне да в садах. И к нему был благосклонен.
И оппортунист, и соглашатель, пособник буржуазии! В каких только грехах прилюдно ни обвинил товарищ Чадов Сидоркина, в голове не укладывается. В конечном итоге принародно объявили врагом этого же народа! И арестовали здесь же, на собрании, не дали даже попрощаться с семьёй человеку.
Высшая форма маразма во власти. Человек всего себя отдал служению народу и оказался его же врагом!
– При попустительстве Сидоркина и при его молчаливом согласии восстали крестьяне в Пустошке, – гремел голос Чадова на том собрании. – На своей груди пригрел недобитого, переродившегося, притаившегося кулака Щербича с семейством и его пособниками. Они спят и видят, как бы свергнуть родную рабоче-крестьянскую советскую власть.
Макар Егорович вынужден был напомнить товарищу кое-какие прописные истины.
– Уважаемый, не хочу знать, как вас кличут, но смею уточнить, что по вашей градации людей я отношусь к буржуазии. Выходит, вы – политически неграмотная личность. А кулак – это зажиточный, как здесь говорят, справный хозяин, на котором испокон веков держалась Россия. Что здесь плохого? Стыдно и преступно не работать, лодырничать, как делаете вы и вам подобные, что дерут здесь глотки в вашу поддержку. А растить хлеб, кормить страну всегда и во все времена почиталось за честь. Но это – труд в первую очередь. Тяжёлый, изнурительный труд.
– Меня не кличут, – гневно произнёс, не дал договорить побледневший в одно мгновение Чадов, – а зовут, недорезанный ты буржуй, Николаем Николаевичем Чадовым! Понял, недобиток? Я не позволю таким тоном разговаривать с представителем советской власти!
– У вас, партийных, клички как у собак, – не сдавался Макар Егорович. – Не я придумал. Ульянов – Ленин, Джугашвили – Коба, Сталин, Рубинштейн – Троцкий. Ну и так далее. Осталась самая малость: Бобик, Тузик, Шавка, Мопсик. Так что вас кличут, неуважаемый, что бы вы ни говорили, кличут, как собак в деревне. Вы сами себе их дали, эти клички. Этим самым вы обрекли себя на презрение трудового народа русского. Именно трудового, а не лодырей и неудачников по жизни.
– А… а… арестовать! – взбесился представитель района, – за оскорбление святых имен для коммунистов, для нашей родной советской власти!
К Щербичу направились все пять милиционеров, что прибыли вместе с Чадовым, с твёрдым намерением арестовать вот здесь, на собрании. Макар Егорович уже был готов к аресту, но в последнее мгновение увидел, почувствовал, как наперерез вооружённым стражам порядка двинулась толпа мужиков. Решительные, злые лица говорили сами за себя. Это почувствовал и Чадов. Выхватив наган, бросился на помощь милиционерам, но толпа оставалась непреклонной: ещё теснее сомкнулась, прикрыв собой Щербича. Среди собравшихся завязалась драка, схлестнулись сторонники и противники.
Вот этого момента, момента единения его и простых деревенских мужиков, готовых ради него и на смерть, никогда не забудет Макар Егорович, ни-ког-да! Сам потом признает, что этот шаг, мужественный поступок мужиков окрестных деревень стал для него высшей наградой в жизни. Значит, не даром жил! Нет, всё правильно: хорошо, что не покинул страну, остался с нею до последнего. Ради такого мгновения стоило жить.
Макар Егорович прекрасно понимает, что этот поступок для него просто так не пройдёт, не сойдёт с рук. Как и всякие слабые людишки, коммунисты злопамятны, и это уже факт. Его обязательно арестуют. В этом коммунистам отказать нельзя: к своим противникам у них отношение особое – тюрьма или смерть. Диалог, когда в спорах рождается истина, – это для сильных, умных людей. Чадов? Увы, увы! Не та порода.
И всё равно он не станет прибегать к крови, прятаться за спины людей, нет, это не его путь. Пускай большевики считают его арест своей победой, но история рассудит, поставит всё на свои места. Они победили. Пока победили.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.