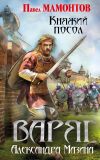Текст книги "Вишенки"
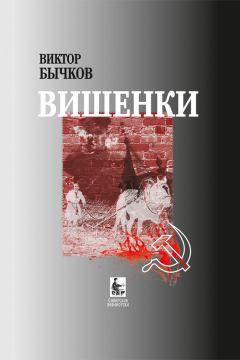
Автор книги: Виктор Бычков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
О последних словах старца Афиногена так никому и не сказала, сама не до конца разобравшись в них, да и стала забывать их потихоньку. Ефим ни единым жестом, словом не упрекал жену, и она была благодарна ему.
После того рокового дня, когда Данила и Ефим говорили в лесу, изливая боль друг другу, между ними сохранились всё те же дружеские, родственные отношения. Скреплённые кровью ещё в войну, а потом и нападением медведя, они стали ещё крепче. Правда, на словах не обговаривали это дело, но чувствовали, понимали друг друга без слов.
Грини считали своим долгом угостить племянников чем-нибудь вкусненьким, принести гостинцы, сделать подарки крестникам на праздники. И детишки льнули, не чурались дяди Ефима и тёти Глаши, всегда с удовольствием бежали к ним навстречу, ходили в гости, помогали, чем могли.
Чего греха таить, чего скрывать, тайком Ефим и Глаша подкармливали племянников. Нет-нет да сунут тому или иному ребёнку то шанежку, то кусочек сахара, а то и за стол посадят, накормят чем-нибудь вкусным. В открытую не делали, отец уж больно грозен в этом плане. Говорит, сумели с Марфой родить, сумеем и прокормить. Гордые. Но Грини-то видят, как из последних сил тянутся родители, как трещат оттяжкой, непосильной работы их хребты.
Ефим выкашивал траву вдоль Деснянки среди кустов краснотала и лозы, старался прокос делать не очень широким, не хватало ещё сил после болезни. Марфа тут же меж кустами ворочала сено, уже подсохшее вытаскивала вилами на открытое место, чтобы легче было сносить в копны.
Грозовая туча шла со стороны Слободы. Нижний тёмный край её почти цеплялся за вершины лип и дубов, зловеще надвигался на Вишенки. Видно было, что в Борках уже поливает: стена дождя отгородила деревеньки друг от друга.
Аисты срочно вернулись домой и теперь притихли в ожидании грозы. И в каждом гнезде один аист сидел, прикрывая аистят, другой, рядом стоя, встречал стихию.
Молнии то и дело пронзали небосвод, упираясь одним концом в землю, другой терялся где-то в тучах. Оглушительные удары грома всякий раз сопровождали всполохи молний.
Всё сено было уже сложено в копны, лишь недавно скошенное Ефимом, но уже порядком подсохшее еще находилось в валках. Именно с ним и возились Ефим и Марфа. Данила запряг коня, усадил всех детей, Глашу, подъехал к ним.
– Да бросайте вы его к чёртовой матери! Видите, что идёт? – указал кнутом на грозовую тучу, что неумолимо надвигалась на луга.
– Как же бросить? Сгниёт ведь, – Марфа не прекращала работу, усиленно гребла кучку за кучкой, Ефим хватал их, складывал в небольшие, но все же копёшки.
– Вы езжайте, а мы уж закончим, – поддержал женщину и Ефим. – Жалко, пропадет ведь. В случае чего, в копнах спрячемся. Не ждите нас. Не сахарные, не растаем.
– Ну, смотрите сами, – стегнув коня, Данила направил его к переправе через Деснянку, к дому.
Первые тяжёлые капли дождя упали на луга, когда последний валок сено был уложен в хорошую высокую копну. В неё же и спрятались Ефим и Марфа, успев вырыть углубление в сене.
Налетевший вдруг ветер подхватывал, закручивал клочки сухой травы, носил их над лугом, хватал струи дождя, бросал в лицо сидящим в копне людям. Прижавшись друг к другу, мужчина и женщина с содроганием встречали очередной всполох молнии и последующий за ней хлёсткий, оглушительный удар грома.
А над рекой стояло облако пара, которое порывами ветра сносило в сторону Вишенок и дальше, за деревню в лес. Нагретая за день земля на лугу тоже парила, клубилась, смешиваясь с дождём.
– Фимка, – тихо прошептала Марфа. – Скажи честно: ты не обижаешься на мою сестрицу Глашеньку?
– За что? – так же тихо спросил и он.
– Ну, что у вас так и до сих пор нет деток?
Ефим повернул голову, близко встретился с глазами Марфы: такими же голубыми, глубокими, большими, выразительными, чуть с поволокой, похожими, как две капли, на глаза его жены Глафиры, и, еле сдерживая себя, с дрожью в голосе произнёс:
– А ты возьми и роди нам ребенка вместо сестры, – сказал, и сам вдруг поверил в это, встрепенулся.
Руки мужчины коснулись лица женщины, она вначале отшатнулась, отгородившись руками, потом вдруг нашла его руки, прижала к себе, к груди.
– Как это? – зашептала жарко, прерывисто. – Грешно это, грех тяжкий, Фимушка, – а сама прижималась горячим, дрожащим телом к его такому же горячему, дрожащему телу, искала его губы своими жадными губами. – Пусть, пускай, пусть, это судьба, ради сестрички, – жаркий прерывистый женский шёпот утонул, растворился в ослепительно блеснувшей молнии, исчез в оглушительном, страшном ударе грома, что, казалось, в одно мгновение расколол землю надвое.
А дождь прекратился. Сразу же откуда-то из-за туч выглянуло солнце, заискрилось, заиграло в лужах, в каплях, что пока ещё оставались на листьях деревьев, кустов, на стерне. Тёплый пар окутал луга, повис над рекой, клубился в лёгких дуновениях ветра.
Марфа шла впереди, несла в руках грабли. За ней, чуть поотстав, шёл Ефим с косой и вилами-тройчатками на плече. Молчали.
– Как же быть теперь, Марфушка? – Ефим догнал женщину, пристроился к её шагу. – Как же быть-то нам теперь, а? Как в глаза глядеть?
Она шла, не поднимая глаз, смотрела под ноги, о чём-то думала. Потом вдруг остановилась у самой кромки воды на переправе, повернулась в мужчине. Открытое, худощавое, загорелое лицо её озарялось такой же светлой улыбкой.
– А никак, Фимушка! Ни-как! – произнесла раздельно, с вызовом, с улыбкой. – Как Бог даст, так и будет, – и решительно шагнула в воду.
Уже на средине реки, где вода достигла колен, приподняла юбку, снова остановилась, повернулась к попутчику.
– Вот уж не думала, что мужики такие, такие… – она подбирала слова, чтобы не обидеть его, но так и не нашла, – такие трусливые, – закончила опять-таки с улыбкой на устах.
– Ну уж, – потупив взор, Ефим подошёл к ней, встал рядом. – А всё-таки, Марфа, ты отдашь нам ребёнка? Правда? – открыто и прямо смотрел ей в глаза.
– Конечно, – просто и уже серьёзно произнесла она, глядя в глаза собеседнику. – Только его сначала родить надо, ты об этом не подумал? Рожу, там видно будет, как оно станется. Иди домой, Ефим Егорович, не переживай и жди.
Женщина ушла, а мужчина ещё долго стоял посреди реки, то ли думал, то ли остужал разгорячённые мысли или горячее тело, то ли просто так стоял, любовался рекой, деревенькой, лесом.
После того дождя до самого Успенского поста, до четырнадцатого августа, на землю не упало ни единой капли влаги. Как отрезало.
Солнце палило и палило, как будто намеривалось изжечь, испепелить всё, что попадало под его лучи. Первой пожухла трава вдоль дорог, за ней пожелтели, высохли одинокие кусты лозы.
Овёс как не успел войти в колос, так и остался в одной поре, с чахлым соцветием, с каждым днём приобретая всё больше и больше серый, неживой цвет. Озимая рожь ещё держалась за счёт глубокого корня да густоты своей, не давая солнцу в одночасье высушить почву. Пшеница успела войти в колос, начала наливаться зерном, но жара не дала дальше развиться, задержала рост, и теперь она стояла с жалкими тощенькими колосками, с такими же зёрнышками в них.
Ячмень погибал вслед за овсом. Земля под зерновыми трескалась, покрываясь ранками-морщинками, сквозь которые с ещё большей интенсивностью уходила влага, обезвоживались корни растений.
Ефим с Данилой приняли решение скосить пока ещё живой овёс, высушить в валках, сложить в скирды и скормить зимой скоту вместо сена. Заменить зерно не сможет, но всё же будет сытней, чем простая трава. Глядя на них, потянулись и другие единоличники, убирали с поля сначала овёс, а потом и ячмень.
Колхозники выжидали, говорили, что жара вот-вот спадёт, зачем гробить урожай на корню? Ещё всё образуется, встанет на место. Природа, мол, своё возьмёт. Ну-ну.
Ежедневно с утра и до вечера возили бочками воду с Деснянки, поливали огороды у дома, пытаясь хоть как-то сохранить, уберечь какие-никакие овощи. С вечера и до самой ночи поливали каждый кустик картошки в полях, и она, слава Богу, цвела. Конечно, не так, как в былые добрые годы, но надежда на картошку была.
Завязь на яблонях оставалась в одной поре, плоды росли очень плохо и были какими-то серыми, неживыми. На листьях постоянно лежал слой пыли, убивал их, сушил. Ягоды на вишнях поморщились, созревали раньше времени и осыпались, не набрав сока, сморщенными и сухими.
Мужики и бабы собирались где-нибудь в тенёчке или на берегу Деснянки, судачили, спорили, успокаивали друг друга или, напротив, стращали почём зря концом света.
Ефим, улучив момент, подошёл к Марфе, когда та была в огороде одна, нагнулся через плетень, подозвал к себе.
– Ты, это, ничего не хочешь мне сказать? – и с надеждой и смущением уставился на женщину. – Я… тут… волнуюсь, Марфушка.
Та подошла, вытерла руки о край фартука, поправила платок и улыбнулась, как тогда на речке, открыто и с некоторой иронией, неким превосходством.
– А чего волнуешься? Тебе ведь не рожать. Это я должна волноваться, переживать.
– Я не о том, – ещё больше засмущался мужчина. – Как там у тебя… это… – показал дрожащей рукой в сторону живота. – Там… есть кто-нибудь?
– А куда ему деться? Растёт маленький Гринёнок.
– Точно? – заулыбался Ефим. – Мой? Ты уверена?
– Дурачок ты, Фимка, – снова улыбнулась Марфа, легонько коснулась рукой бороды соседа. – Кто, кроме мамки, знает, чей ребёнок в её утробе? Эх, ты! Твой он, твой, – и, повернувшись, ушла в глубь огорода, принялась выдёргивать веточки укропа, перья лука.
А Ефим остался стоять, глупо улыбаясь, не веря своим ушам.
У него будет ребёнок! Его ребёнок, его дитя, его кровь и плоть! Господи, неужели?! Неужели и он почувствует себя отцом, родителем?! Гос-по-ди! Счастье-то какое!
– Марфа, Марфушка! – зашептал вдруг Ефим.
Она обернулась, услышав.
– Чего тебе?
– А как же Глаша, Данила?
– Потом, потом, Ефим Егорович, потом. Будет дитё, вот тогда и будем думать, как и что. А сейчас иди, работай, не стой над душой. Ты своё дело уже сделал, остальное я сделаю не хуже тебя.
Не чувствуя под собою ног, Ефим направился домой. А самого распирало от радости. Хотелось прямо вот сейчас зайти в хату, рассказать, обрадовать Глашу, поделиться с ней такой приятной и долгожданной новостью. Он уже и сделал, было, шаг в сени, но вдруг остановил себя, замер, как вкопанный.
«А как же Данила? Как он отнёсётся? А Глаша? А Марфина семья?
У них же детишки старшие всё понимают, как они отнесутся? А люди? Они что скажут? О, Господи! Я же знаю Данилу, а как он? Выходит, счастьё моё и не такое безоблачное? Как же так?
Неужели я не имею права быть отцом, родителем? А как Марфа? Ей каково? О-о! Господи! Как же так? Как быть? И что ж это за счастье, если рядом куча народу из-за твоего счастья становится несчастными?»
С этого дня Ефима как подменили. Замкнулся, всё чаще старался уединиться, уйти, чтобы никто не мешал ему думать, радоваться и переживать. Вот именно: радоваться и переживать. И как это совместить – радость и сомнения, страх, что нет-нет да закрадывался в душу, выворачивал, крутил её как хотел?
Да, он верит, свято верит, что Марфа сдержит слово, родит и передаст ребёнка ему, Ефиму Гриню. Дальше что? Вот так возьмёт эту кроху и принесёт в дом? А что он скажет Глаше? Скажет, вот, мол, наше дитё, мы его вместе с твоей сестрой родили, ты уж не обессудь, что не посоветовались и согласия не спросили.
И тут же успокаивал себя. Успокаивал тем, что Глаша – умная женщина и, как никто другой, прекрасно понимает, что иного способа завести в их семье ребёнка, как взять его со стороны, нет и не будет. Так почему бы не у её сестры? Это же родная кровь, самый близкий родственник. И Ефим, муж, вроде как участие принимал. Во-от, всё одно к одному. Может, по поводу Глаши и не стоит так волноваться, переживать? Надо загодя поговорить с ней, подготовить. Смирится, куда денется.
А как Данила? Да, здесь полный тупик. Если с Глашей где-то глубоко, так глубоко в душе, что еле видно, ещё теплится надежда на благополучный исход, то с мужем Марфы воистину полный тупик, стена, мрак, жуткий мрак и ни капельки просвета, ни единого проблеска. Ефим боится даже развивать мысли в этом направлении дальше, боится представить, что за этим может последовать.
Соседи, друзья, сколько лет вместе, на фронте спасали друг друга, по жизни рука об руку, и вдруг жена одного изменила с другим?
Что может быть кошмарней, ужасней? Тем более Ефим, как никто другой, знает истинный характер Данилы, знает, что он ни перед чем не остановится. А вот это уже страшно. Надеяться на его благоразумие, что он сможет войти в ситуацию, понять, вряд ли приходится.
Ефим хорошо знает, что нет более страшных, беспощадных врагов, чем близкие люди. Так что выходит, они с Данилкой станут врагами? Марфа с Глашей тоже? Во, натворил делов, завязал узелки, запутал и без того не очень лёгкую жизнь так, что и не знает, как распутать, развязать их, клубок житейский. Впору пойти к отцу Василию за помощью.
Тянуло сходить на своё любимое место, на берег Деснянки, к сосне, но что-то сдерживало, не позволяло, как в прежние времена пойти, посидеть. Может, случай с медведем повлиял? Возможно, но ступить на то место не решался, хотя желание и было. Тот страх, те чувства, что испытывал Ефим, лёжа под брюхом разъярённого зверя, не выветрились, не исчезли. Даже по ночам иногда вскакивает, потому как снится всё это, кошмары не оставили его сознание, приходят во сне, и ощущения всё те же, что и тогда, в яви.
– Дядя Фима, – мужчина не заметил, как подошёл сын Данилы Вовка и уже дёргал за рукав. – Дядя Фимка, папка просил прийти к нему.
– А где он? Зачем, не знаешь?
– Он в овине, крышу чинит, а зачем зовёт – не знаю. Но ребята на деревне говорят, что из города приехали партийцы, вместе с колхозниками ходят по хатам справных мужиков. Петька Акима Козлова сказал, что у них были, говорили с его папкой, обещали раскулачить и выселить к чёрту на кулички, если сам не вступит в колхоз.
– Не врёшь?
– За что купил, за то и продаю, – обиженно промолвил мальчик. – Только вы, дядя Ефим, поспешайте. Там, у нас в овине все справные мужики собрались, вас ждут. Ну, я побежал?
– Беги, беги. Скажи, что иду.
Всю дорогу только одна думка тревожила: «Неужели вправду выселят, раскулачат? А как же Марфа? Дитё?»
Уже за огородами встретил Никиту Кондратова. Тот подтвердил, что ходит по хатам бригада агитаторов во главе с двумя вооружёнными коммунистами из города. С ними и колхозная беднота. Семёна Курочкина уже выселяют, на том конце Вишенок ревмя ревут жена его Анна и трое дочек. Забирают из хаты всё, что попадёт под руки.
Двух волов, тёлку-летошницу стельную, корову уже повели на колхозный скотный двор, плуги, бороны, другой инвентарь загрузили на телеги, тоже увозят. Часть бедноты из амбара у Семёна выгребает последнее зерно. Плохо дело.
В овине, на подготовленном к молотьбе глиняном току, сидел на корточках сам хозяин. Аким Козлов пристроился на чурбачке, ещё пятеро мужиков расположились рядом, курили.
– Говори, Аким, – попросил Володька Комаров. – Говори, все собрались.
– Вот, я и говорю. Приходили ко мне двое из города, городские, незнакомые, при винтарях, с наганами на боку. С ними наши:
Никита Семенихин, Галька Петрик, Кузьма Лютый, ну, и ещё штук пять голытьбы колхозной. Набилась полная хата. Так я их попросил всех на улицу и там беседовали.
Никита начал. Мол, постановил колхозный актив вместе с их партийной организацией раскулачить меня, Акима Козлов, а семью со мной вместе выселить в дремучие незаселенные места. «Чего ж так?» – спрашиваю. Отвечает один городской, что постарше. Мол, есть указание партии большевистской об ликвидации на деревне кулака как класса и выселении его в тьму-таракань.
Аким встал с чурбачка, выставил вперёд ногу с костылём, обвёл всех пытливым взглядом.
– Дальше, дальше что? – поторопил Данила.
– А я и спрашиваю: «Как и кто определил меня с пятью детишками и с тремя хозяйственными десятинами земли в кулаки? Иль я не плачу налоги? Трещу, но плачу. Так в чём дело?»
– Ну-ну, а они что? – снова не выдержал Данила.
– Вот я и спросил. А мне этот городской, что постарше, и говорит, что партия большевиков хочет видеть всех крестьян в колхозах. А кто не хочет или упирается, тех будут раскулачивать как врагов советской власти и выселять к чёртовой матери. Вот так. А кто, не дай Бог, вздумает плохо этой власти сделать, того сразу к стенке, и ваши не пляшут.
– А ты что? – это уже Ефим от нетерпения подошёл ближе к рассказчику, ухватил за рукав. – Чего ж тебя не раскулачили?
– А я что – дурак, что ли? Жена моя Агаша в ноги кинулась, дети вслед за мамкой в один голос ревмя заревели. А я и говорю, мол, дайте время до утра, подумать надо. Даже перед смертью жертве дают последний шанс, а я чем хуже смертника? Так Галька Петрик, мол, ни в какую! Говорит, у его жёнки, у моей, значит, Агаши, кофт одних штук пять! Вот сука! Кофты успела подсчитать! Ей бы быстрее до сундука хозяйского дорваться. Плевать она хотела на колхозы и партию. Ей добро хозяйское скорее на себя напялить бы, стерва! – рассказчик смачно сплюнул, вытер рукавом усы.
– Вот и вся недолга, – Володя Комаров, мужчина под сорок лет, с аккуратной бородкой, нервно затянулся, присел на освободившийся чурбак. – Племяш из Борков прибегал утром. Рассказал, что у них пятерых раскулачили, отправили в район. И, говорит, в Слободе то же самое. Правда, кто из хозяевов согласился добровольно отдать всё и вступить в колхоз, того не трогали. Вот и думай: стоит ли, нет против ветра мочиться, холера его знает?
– Слышал, в Пустошке арестовали Кольку Попова, знаете такого? Ну, деда Прокопа Волчкова зять старший, – Никита Кондратов взял слово. – Так этот на агитатора с вилами кинулся, за малейшим не насадил на тройчатку, да жёнка с детишками повисли на руках, не дали. Там, в Пустошке, всех мужиков бешеный поп крестил. Им сам чёрт не сват. Судить теперь будут Николая за покушение на представителя власти. А за это у большевиков суд один – расстрел.
В овине наступила гнетущая тишина. Слышно было, как с той стороны деревни, с выгона, шли коровы. Хлёсткие удары пастушьего кнута оповещали о конце рабочего дня.
– А может, за винтари да в лес? – Данила нарушил молчание. – Как же я такую ораву прокормлю? Где трудодней набраться? Легше из-под моста зарабатывать, грабить, чем получить честным трудом.
– Слабы мы. Вон в Пустошке мужики не нам чета, а после первого восстания так теперь притихли, как тридцать человек у них расстреляли в двадцатом годе. Куда ж больше рисковать собственными головами да жизнями?
– Я так думаю, – снова начал Аким. – Как бы там ни было тяжело, а придётся смириться, идти к большевикам на поклон, вот так. Список я смотрел у Никиты Семенихина. Там мы все записаны. Так что думайте, мужики, а я пойду с повинной. Куда мне, как говорит Данила, с такой оравой в тмутаракань ехать? Лучше уж дома полторы ноги протянуть, чем со всей семьёй по свету скитаться.
– Да-а, – поддержал его и Володька Комаров. – Слабы мы в коленках. Придётся кланяться голытьбе. Жизнь дороже. Только успеть за ночь хоть что-то спрятать.
– Правы мужики, – Никита Кондратов собрался уходить. – Противиться, так всем, а если сдаваться, тоже вместе. На миру и смерть красна, не то, что колхоз.
Все разошлись, остались Данила с Ефимом.
– Что скажешь, сродственник? – Кольцов грубо выругался. – Да что ж это за власть, что житья не даёт, твою гробину мать.
– Давай лучше спрячем хоть что-нибудь, – предложил Гринь. – Волов да коня жалко, земельку тоже, но жизнь жальчее.
Всю ночь прятали оставшиеся гречку, пшено, несколько пудов пшеницы, пуда три ржи. Овёс и на этот раз не прятали, оставили на виду. Перенесли за ночь зерно в заросший полынью и крапивой, полуобвалившийся погребок деда Прокопа. Даже если и найдут, пусть докажут, что это Грини и Кольцовы спрятали. Отрекутся, и всё!
С утра пошли в колхозную контору, но были уже не первыми.
Почти все единоличники собрались там, стояли на улице, курили, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Только что пастух прогнал стадо на пастбище, пыль ещё не осела, искрилась в лучах летнего солнца.
Председатель колхоза, направленный в Вишенки из Слободы, младший брат арестованного Сидоркина Николая Ивановича Пантелей Иванович подъехал на бричке, подошёл к стоящим единоличникам, поздоровался с каждым за руку.
– Вот что, мужики, – воровато оглянулся вокруг. – Пока городские да актив спят, скажу без обиняков, не скрывая. Вас собираются раскулачивать, а потом и выселить из деревни. Установку такую получили от товарища Чадова Николая Николаевича, знаете такого?
– Знаем, знаем, – закивали головами мужики. – По Щербичу Макару Егоровичу да брату твоёму помним.
– Ну вот. Но я это к тому, что скоренько несите ко мне заявления о приёме в колхоз, а тягловую скотину и инвентарь так же быстренько доставьте на скотный двор, сдайте заведующей фермой Гальке Петрик. Таким образом, заткнёте глотки многим из колхозного актива, да и члены комиссии из района будут несказанно рады, что только от одного их появления все единоличники в Вишенках сдались. Да, коров не надо, оставьте дома. Тем более, они уже в поле.
– Может, обойдётся? – высказал недоверие Данила.
– Слушай и делай, что тебе говорят, – вспылил Сидоркин. – В противном случае я не отвечаю за вас. А так я возьму на себя ответственность за вас, хозяевов, перед городскими коммунистами, постараюсь уладить всё. Вас, семьи ваши не тронут. Останетесь в Вишенках, а на месте и камень обрастает, наживёте, были бы сами да здоровье. А руки у вас к тому месту прикреплены, что надо. Так что обживётесь, работы вы не страшитесь. Сдюжите.
– Не боишься, Пантелей Иванович? – спросил Ефим.
– Нас, Сидоркиных, не просто спужать, понял? И не такие пугали, да, вишь, живём пока, дышим. Поспешайте сделать так, как я сказал.
И вдруг изменил и тон, и тему: по направлению к конторе шли оба представителя райкома партии.
– Ишь, удумали! Расходитесь, не мешайте работать. И к амбарам своим не подходить, я людей поставлю для надзора за вами.
Неведомо, что и как говорил с городскими коммунистами Пантелей Иванович, как убеждал местную партийную ячейку во главе с Никитой Семенихиным, только вроде обошлось с единоличниками в Вишенках без выселений. Правда, Галька Петрик, этот конь в юбке, уличила соседа Володьку Комарова в утаивании зерна. Мол, она ночью не спала, видела, как бегали по двору у Комаровых люди, мельтешили. Требовала незамедлительно провести обыск.
К чести мужика, отбрехался, вроде поверили, обыск делать не стали, Сидоркин настоял. Говорит Вовка, жену всю ночь гонял, не хотела в колхоз, так он убеждал вожжами. Ну понятно, та в крик, в слёзы, детишек разбудили, те и бегали, шарахались из угла в угол, мельтешили по двору. И смех, и грех.
Уже к вечеру на колхозном дворе были все волы, кони единоличников, инвентарь. Зерно решили вывести отдельно, сначала сделать опись, опечатать амбары, а потом, когда колхозные амбары починят, подготовят, тогда уж. Да и зерно старое, во многих с гнильцой. Над ним тоже потрудиться придётся, пока в норму приведут.
Всё, что стояло на полях единоличников, обмерили, взяли на строгий учёт. И сейчас уже не в десятинах мерили землю, а в гектарах. Ну, и Бог с ними. Бывшим хозяевам это уже ни к чему.
Ни Данила, ни Ефим не пошли с комиссией в поле, не стали лишний раз бередить души. И так натерпелись, испереживались, куда уж больше? Вон у Кольцовых и по сей час рёв да плач стоит, Марфа никак не успокоится. Ей вторит почти десяток детских голосов. И на самом деле, как же прокормить столько душ с одного огорода? И правда, голова кругом идти будет.
Глаша с Ефимом погоревали-погоревали, да рассудили здраво, успокоились, смирились. А что делать? Жизнь дороже. Как-нибудь вдвоём, два взрослых человека прокормят себя, даст Бог. А вот Кольцовым каково?
Сейчас вся надежда на огород Волчковых. Как чувствовали, как знали, засеяли весь приусадебный участок по весне, а это почти полгектара, пятьдесят соток, картошкой. По меже так заросло чернобылом да полынью, что и не видно. Правда, и не поливали, как на своих огородах, но вроде в саду, в тени ещё держится картошечка, слава Богу. Как-никак, а подспорье будет хорошее, не сглазить бы.
Собрание по принятию новых членов в колхоз прошло уже через три дня, и прошло на удивление спокойно, гладко, потому как вёл его сам председатель Сидоркин Пантелей Иванович.
– Товарищи колхозники! – обратился он к собранию. – Может, кто-нибудь из вас скажет хоть одно плохое слово в адрес новых членов нашего крестьянского коллектива? Может, кто из них лодырь или пьяница?
– Может, кто из них был замечен в борьбе против нашей родной рабоче-крестьянской советской власти? – вопрошал в зал и партийный секретарь Никита Семенихин.
А что можно было говорить? Все новые члены колхоза, бывшие единоличники, росли на глазах всей деревни, обвинить их в тунеядстве так никто и не осмелился. Да и не видели люди, что бы кто-то из них с винтовкой выступил против новой власти. А если и кого видели, так когда это было? Да и было ли оно вообще? Разве что на словах бранили. Так кто её, власть эту, на Руси не бранил?
– Не тяни кота за хвост, председатель, – немолодой уже колхозник Иван Зубарев прервал выступление начальства. – Мы их знаем как облупленных. Если и в колхозе они будут работать так, как и на своей земле ломили, и если все колхозники будут такими, как эти единоличники, тогда я первый за такой колхоз. Принять, и баста! Отдохнуть после работы пора, а то мы всё заседаем да заседаем.
Принимали единоличников общим списком: не стали обсуждать каждую кандидатуру в отдельности. С таким предложением выступил председатель колхоза Пантелей Иванович Сидоркин. Других предложений не последовало.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.