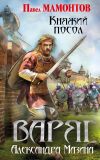Текст книги "Вишенки"
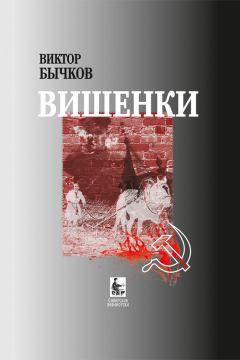
Автор книги: Виктор Бычков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Матушка давно помолилась за спасение батюшки, а теперь осталась стоять на коленях у иконы, вспоминала. Да-а, надо жить. Она верит мужу и верит свято. Вернётся, обязательно разберутся и отпустят отца Василия восвояси. Надо только сходить в церковь, проверить да не забывать без устали молиться во спасение батюшки. Каково же было удивление матушки, когда она на дверях обнаружила огромный амбарный замок!
– Вот тебе на! – всплеснула женщина руками. – Откуда замок? Кто навесил? Кто закрыл храм? У нас таких замков отродясь не водилось.
Матушка прислушалась, но ни единого постороннего звука не обнаружила.
– Странно, – с недоумением огляделась вокруг. – Странно. Но это знак хороший, добрый знак. К добру, слава тебе Господи, – решила женщина и уже со спокойной душой направилась в избу.
Отца Василия сразу бросили в камеру, где на полу лежало и сидело множество людей. Сколько? Он не мог определить сразу, тем более при таком тусклом свете. Прижав узелок с вещами к груди, постоял немного, привыкая к полумраку, к спёртому, тяжёлому воздуху, что резко ударил в нос, перехватил дыхание.
– Идите сюда, батюшка, – раздался шёпот слева. – Здесь место есть.
Говорил кто-то молодой, и голос вроде знакомый, хотя отец Василий не смог сразу вспомнить, как и не смог разглядеть говорившего.
– Идите за мной, – рядом возник небольшого росточка, но крепенький, как молодой дубок, парень. Взял батюшку за руку, повёл за собой, перешагивая через ноги спящих сокамерников.
– Вы меня не узнали? – зашептал юноша, когда они присели у стенки, подтянув колени к подбородку.
– Нет, молодой человек. Хотя голос твой знаком, – так же шёпотом ответил священник.
– Я – Пётр Сидоркин, сын Пантелея Ивановича.
– A-а, вспомнил.
Батюшка хорошо помнит, до смерти своей не забудет, как несколько лет назад пришли на церковный двор молодые люди, так называемые комсомольцы и заявили, что колокол на колоколенке храма мешает населению Слободы и соседних деревень. И вообще, советской власти сейчас не хватает цветных металлов, а тут, в Слободе, пропадает почём зря столько пудов меди! Это непорядок! Верховодил ими как раз вот этот юноша, сын уважаемого человека Пантелея Ивановича Сидоркина, что к тому времени ещё не работал председателем колхоза в Вишенках, а был секретарём волостного комитета партии большевиков.
Напрасно тогда взывал священник к совести, к истокам русского народа, православной веры, к истории государства Российского – всё напрасно. Не послушали комсомольцы и верующих, что прибежали на защиту храма, колокола, этого гласа Господня. Даже над юродивым Емелюшкой поизгалялись, антихристы, когда тот перекрыл лестницу на колоколенку. Да-а, помнит, хорошо помнит отец Василий, всё помнит. Спасибо, память ещё не отшибло, слава Богу. Да-а, вот она какая жизнь, и вот она какая новая власть. Вчерашний активист, борец за интересы партии сегодня сидит с ним, отцом Василием, очередным врагом народа, в одной тюремной камере.
– Вы на меня не в обиде? – молчание священника парень принял на свой счёт, посчитал за обиду на его те, давние действия.
– Ну-у, что ж так, юноша. Обижаться – участь слабых.
– Спасибо, спасибо вам, отец Василий! – Пётр с чувством пожал руку священника, с жаром зашептал: – Я потом себя казнил, говорю, чтобы вы знали. Дураком был, простите, пожалуйста.
– Бог простит. На нас уже внимание обращают, – батюшка заметил, как стали подниматься многие сокамерники, бросать в их сторону недовольные взгляды.
Замолчали, погружённый каждый в свои мысли.
Священник прикрыл глаза, не заметил, как и задремал. Очнулся от истошного крика.
– По-о-оп! Робя-а-а! По-о-оп!
Только теперь отец Василий разглядел и всю камеру, довольно большую, с нарами вдоль двух стен, с двумя окнами под потолком и массой народа, что лежал на нарах, сидел на полу. Кричал, истошно вопил мужчина лет тридцати в противоположном углу камеры, сидя на нижних нарах.
– Блатные. Урки, – успел шепнуть Пётр Сидоркин.
– Братва! Точно поп! Зуб даю – поп!
Вокруг него столпилось несколько человек, с интересом уставились на отца Василия. Тот, который кричал, вдруг поднялся с нар и пошёл к нему, вытянув вперёд руку. Лежащие и сидящие на полу в спешке освобождали место для прохода.
– По-оп, по-о-опик! – блаженная, умильная улыбка зависла на его небритом лице, обнажив металлическую фиксу на верхних передних зубах.
Все в камере замерли, только подельники ещё продолжали смеяться шутке товарища и с интересом наблюдали за происходящим. Отец Василий ждал, не двигаясь с места. Петя попытался, было, броситься навстречу, но священник одёрнул его, заставил сидеть на месте.
– Сидеть! – шёпотом приказал соседу.
– Уй, мой попик! – сделал попытку шлёпнуть ладонью по лицу отцу Василию.
Не уворачиваясь, оставаясь на месте, батюшка резко и сильно дёрнул его за руку на себя, чуть в сторону. От неожиданности тот потерял равновесие и, грохнувшись головой о бетонную стену камеры, сполз прямо на руки священнику.
Мгновенно к ним кинулись подельники блатного, обступили, готовые разорвать, растерзать батюшку. Человек шесть нависли над отцом Василием, но тот по-прежнему сохранял спокойствие, и они почувствовали в нём некую силу, им доселе неведомую. А неизвестность пугала. Потому только бранились, махали руками и сыпали в его адрес столько угроз, что претворись в жизнь хотя бы две из них, от батюшки осталось бы мокрое место.
– А как же подставить другую щёку? – донеслось до отца Василия откуда-то сбоку.
– Да я, да я… – пришедший в себя блатной уже вытирал рукавом с лица сопли и кровь, при поддержке подельников коршуном кружил над батюшкой. – Ну, мля, я тебе, ты ещё меня узнаешь! Всё! Ты мой кровный враг, а я… а я… – но так и не посмел больше коснуться священника.
И вдруг вся камера разразилась хохотом! Это было настолько неожиданно для отца Василия, что в первое мгновение он даже растерялся. И только потом, когда глянул на блатного, понял причину смеха: вместо фиксы у того во рту зияла дырка!
– Да я… да я… – шепеляво заблажил блатной, но тут поднялся отец Василий и высокой, огромной глыбой завис над малорослыми противниками.
Всем в камере сразу бросилось в глаза разительное отличие священника от хлипких, тощеньких блатных.
– Давай, сынок, я вытру тебе сопли, – взяв подол рясы, попытался, было, вытереть окровавленное лицо мужичка, чем ещё больше вызвал хохот у сокамерников.
Смеялись даже подельники блатного, только батюшка прятал улыбку в усы и бороду, хитро, с прищуром окинул камеру.
Наконец, всё улеглось, успокоилось. В своём углу блатные что-то обсуждали, отец Василий опять пристроился у стенки, сидел молча, смотрел и слушал безучастно.
– Так как же подставить другую щёку, святой отец? – снова раздался голос справа от него.
Батюшка повернул голову, встретился взглядом с незнакомым ему мужчиной лет пятидесяти, с седой, курчавой бородой и такими же усами. Слегка прищуренные глаза излучали если не радость, то благодушие точно.
– Будем знакомы, – протянул он руку священнику. – Симаков, Дмитрий Иванович Симаков, в прошлом – цирюльник, сейчас – враг народа.
– Отец Василий, – представился и батюшка, пожав протянутую руку. – Статус пока не определён, так что просто священник или простой узник сей темницы, – принял и поддержал слегка ироничный тон разговора.
– Я смотрю, вы уже познакомились с Петром Сидоркиным?
– Да, спасибо ему, с первых минут взял под свою опеку.
– Да-а, вам как раз опека и не нужна. Где этому научились, батюшка?
Заслышав, что разговор идёт о нём, к ним присоединился и молодой человек. После расспросов, как и что на воле, на которые долго и обстоятельно отвечал батюшка, дипломатично избегая острых тем, принялись делиться своими историями и старожилы.
Оказывается, Пётр Пантелеевич Сидоркин – сын председателя колхоза в Вишенках Пантелея Ивановича. С месяц назад до них докатились слухи, что старший брат Пантелея Сидоркина Николай, что был долгое время председателем сельсовета в Слободе, расстрелян как враг народа.
Где и при ком Петя поделился такой новостью, он не помнит.
– И, главное, никому не говорил, вот в чём дело. Однако следователь утверждает, что якобы я сказал, что мой дядя Николай Иванович вовсе и не враг, а преданный делу партии коммунист. Да не говорил я такого! – искренне недоумевал Пётр. – А меня взяли и арестовали. Где справедливость?
– А сам как считаешь? – поинтересовался отец Василий. – Я-то хорошо знал Николая Ивановича, царствие ему небесное.
– Знаете, после случившегося я уже боюсь что-либо говорить, – виновато ответил парень. – Мне уже кажется, что и у стен уши есть. А если честно – уважал я дядю Колю, вот как.
– Это делает вам честь, молодой человек, – священник похлопал по плечу Петра.
– А со мной вообще смешная история приключилась, – проговорил Дмитрий Иванович.
Усевшись поудобнее, жестом рук попросил слушателей придвинуться поближе, принялся рассказывать с лёгким юмором, полушёпотом.
– Я же цирюльник, брадобрей. Сижу у себя на днях, клиентов – ноль! Хоть самого себя брей или таракану усы ровняй. Поразительно, но с приходом новой власти народишко опустился, не стал следить за собой, не стал обращать внимание на свой внешний вид. Это, знаете ли, моё личное наблюдение, моё видение советской власти, вот так вот-с. Утверждение спорное, но что есть, то есть. Да-а. И тут слышу – машина рычит. Я в окно: сам секретарь районного комитета партии товарищ Чадов Николай Николаевич собственной персоной к нам пожаловали-с!
– Постой-постой! – прервал священник. – У него же другая должность была.
– Всё правильно, батюшка. С месяц, как избрали секретарём, вот так. На повышение пошёл товарищ Чадов. С хозяйственной работы на партийную, а это уже повышение, прошу учесть, и значимое продвижение по службе.
– Так я это о чём? – продолжил Симаков. – Вы знаете, как меняет человека должность? – вдруг резко сменил тему рассказчик, испытующе глядя в глаза собеседникам.
– Гордыня, уважаемый, ещё не вычеркнута из списка грехов человеческих, чего ж вы хотите, – поддержал разговор отец Василий.
– Вот я и говорю, – но продолжить не успел.
Дверь тюремной камеры открылась, и на пороге появился солдат-конвоир.
– Который тут Старостин Василий Петрович? На выход!
– Я – Старостин, – вздрогнул батюшка.
Он ждал, ждал этой команды с самого утра и волновался. Как нормальный, законопослушный гражданин он тушевался, не принимал заточения, вольнолюбивая натура батюшки противилась такому положению. Хотя как любой русский всегда был готов, готов подспудно к такому развитию событий. «От сумы и от тюрьмы…» – для русского человека не пустой звук, а, увы, реальность, явь. И никуда от этого не деться, не скрыться. Это прекрасно понимал священник. Но все же… Возможно, именно поэтому не испытывал страха, того животного страха, что сковывает волю и душу, у него не было. Волнение – да, было, а вот страха – нет, не присутствовал страх у бывшего полкового священника отца Василия. А волнение? Куда же от него деться в такой ситуации здравомыслящему человеку, в тюрьме-то?
Вот поэтому ответил с некоторой поспешностью, с волнением, и сам себя немножко презирал за это. Встал, нервно мял в руках котомку, не зная, что делать с ней, положить или брать с собой?
– Оставьте здесь, отец Василий, – Симаков почти вырвал из рук священника торбу. – С Богом, батюшка, – подбодрил, улыбнувшись.
– Ага, ага, – поспешно ответил отец Василий. – Спасибо большое, пошёл я.
Кабинет следователя был здесь же, в ответвлении коридора, в тупике.
Следователь сидел под открытым зарешёченным окном, на столе только чернильный прибор, стопка бумаги и колокольчик. Всё. Напротив стола стояла табуретка. Именно такой и представлял себе батюшка обстановку в подобных кабинетах.
Зачёсанные назад чёрные, длинные волосы, широкий лоб, бледное то ли от рождения, то ли от недостатка солнца лицо слегка лоснилось от выступившей на нём болезненной испарины. Большие выразительные глаза смотрели пронизывающим, злым взглядом, что никак не соответствовало добродушному выражению лица. А ресницы, по-девчоночьи длинные, удивлённо хлопали раз за разом.
«Дитё совсем», – первое, что подумал священник, увидев следователя.
– Что уставились? – слегка пухлые губы разомкнулись, издав скрипучие, старческие звуки.
«О-о! Какое несоответствие вида и содержания», – снова мелькнула случайная мысль.
– Здравствуйте, мил человек, – степенно поприветствовал батюшка хозяина кабинета.
– Не «мил человек», а гражданин начальник! Понятно вам? – следователь встал, и только теперь батюшка с изумлением разглядел в нём женщину!
– Батюшки святы! – не смог сдержать эмоций отец Василий, перекрестившись. – Как есть баба! Истинно говорю тебе, баба!
Женщина с минуту стояла молча, наслаждаясь произведённым эффектом. Что-то наподобие улыбки блуждало по её лицу.
– Садитесь, – устало махнув рукой, смилостивилась, разрешила сесть на стоящую посреди кабинета табуретку священнику.
– Благодарю вас, – батюшка никак не мог смириться, что в таких кабинетах работают женщины. Для него это было дико.
В его представлении женщина – это мать, женщина – это вожделенная мечта мужчины, его идол, на которого он должен молиться, и молиться всю жизнь. Но чтобы в тюрьме и следователь? Среди этого смрада и нечистот не столько физических, сколько нравственных, духовных? Нет, только не здесь должна находиться женщина, в тюрьме, о нравах которой не раз ему рассказывал хороший товарищ по прошлой жизни начальник уездной полиции Скворцов Григорий Степанович.
После обязательных процедурных вопросов следователь приступила к главному.
– Какое отношение вы имеете к троцкистско-зиновьевской банде?
Первое мгновение священник ещё сидел, с недоумением взирая на женщину, не зная, что отвечать на этот абсурдный, в высшей степени странный вопрос. В его жизни уже бывали случаи, когда он сталкивался с подобным. Порой настолько переиначат очевидные факты, вроде два плюс два ровно четыре, все и вся об этом знают, но с тебя требуют доказательств этой прописной истины. Или спросить вот сейчас: «Как тебя зовут?» Ответить: «Вася» и услышать следующий вопрос: «А почему?»
Так и в этом случае. Да, отец Василий при всех своих недостатках следил, очень внимательно следил за всеми перипетиями партийной борьбы во властных структурах. Но не более того! Какое он имеет отношение к партийной борьбе? Дикость! Он священник, и его дело совершенно не то, оно в корне отличается от светских интриг, войн кого-то с кем-то. Но как объяснить очевидное вот этой мужеподобной женщине? Она ведь не для того вызвала к себе батюшку, чтобы ещё раз уверовать в очевидное. Наверное, она на самом деле твёрдо убеждена в обратном. В том, что он, священник, мог вступать в партийные дискуссии, споры, поддерживать Троцкого, критиковать Сталина. Да-а, дальше идти некуда.
И вдруг осенило: клин следует вышибать клином! Она задала абсурдный вопрос, следовательно, чтобы сохранить гармонию в логике этой дамы, надо отвечать ей подобным абсурдом.
– Простите, дитя моё, вы сказали троцкистско-зиновьевской банды?
– Да, именно так я и сказала, – следователь ещё не чувствовала подвоха и ждала конкретного ответа на конкретно и ясно поставленный ею вопрос.
– Простите, на промилуй Бог, – тихим, вкрадчивым голосом уточнил священник. – А эта банда чем промышляет? Домушничает? Гоп-стопом честных советских граждан разводят? Или картишки в своих бесовских делах задействуют? А может, не дай тебе Господь, по-мокрому злодействует, мокрушничает? О-о, бесовское племя!
Столь искренний тон, невинное выражение лица батюшки несколько выбили женщину из колеи, из привычного плана допроса очередного политического врага народа.
– Не знаю, – интуитивно, по инерции ответила следователь, но потом вдруг спохватилась. – Вы мне дурака не валяйте, арестованный. Я не позволю превращать допрос в балаган!
– Я, конечно, прошу прощения, но на самом деле незнаком с такой бандой. Кстати, они в наших краях промышляют, орудуют?
– Прекратите валять дурака! – проскрипела женщина. – Всё вы знаете, всё понимаете, только хотите выкрутиться, уйти от советского правосудия! Но мы не позволим! Зло будет наказано!
– Вот вам крест, – батюшка и на самом деле перекрестился. – В моём приходе о таких людишках я не слыхивал, поверьте мне на слово. Если бы какая банда появилась в округе, то я непременно знал бы об этом. Мне обо всех новостях рассказывает мой сосед юродивый Емеля. Он за день всю округу на лошадке обежит, всё обо всех узнает, высмотрит и мне вечерком доложит.
– Емеля – это ваш соучастник, член вашей банды? Он тоже сторонник Троцкого и Зиновьева? Кто даёт ему коня для проведения разведки?
– Ну-у что вы, что вы, – искренно удивился отец Василий. – Емеля вряд ли знает и помнит свою фамилию Афонин, не говоря уж о каких-то бандитах. Нет, он спокойный, безобидный, зла никому не чинил за свои почти пятьдесят лет. А лошадкой у него служит любая палка, прутик. Вставит между ног и побежит галопом, как лошадка бегает. Что с него возьмёшь? Юродивый.
– Вы меня тоже юродивой считаете, гражданин Старостин? – взбесилась женщина. – Я спрашиваю русским языком: вы призывали молиться за расстрелянных членов банды Троцкого и Зиновьева?
– Погодите, погодите, дитя моё, – подняв руку, жестом попытался батюшка успокоить следователя. – Поймите меня правильно. Я молюсь за упокой души любого, это мой долг, моя работа.
Приходит ко мне прихожанин, даёт бумажку с именами и просит помолиться за упокой души рабов божьих на бумажке записанных, вот я и молюсь. По списку прямо читаю. Бюрократия, знаете ли, и нашу работу портит.
– Я смотрю, вы не хотите идти на сотрудничество со следствием?
– Зачем же так? Если мне и ваше имя внесут в святцы, то и о вашей душе помолюсь, дитя моё. Вы не переживайте: мы, священнослужители, заупокойную службу отслужим любому.
– Ну, хватит! Терпение моё кончилось! – схватив колокольчик со стола, женщина зло зазвонила в него.
Тотчас дверь в кабинет открылась, и в дверном проёме возникли один за другим два крепких солдата.
– Гражданин не понимает, где находится, – бросила небрежно солдатам следователь, устало опустившись на стул. – Помочь надо освежить память.
От неожиданного удара сзади в голову отец Василий соскользнул с табуретки, но не упал, успев выставить вперёд руки, встав на четвереньки. Однако от последующих ударов сапогами сначала в грудь, а потом и в лицо рухнул на цементный пол, хотя попытки вернуть себе вертикальное положение не бросил. Но удары сыпались один за другим. Некоторое время батюшка пытался закрываться руками, и вдруг острая, страшная боль пронзила грудь, силы в какой-то момент покинули его, а с ними вместе ушло и сознание.
Сколько он был в таком состоянии, отец Василий не знает. Пришёл в себя, открыл глаза уже в камере. Над ним склонились Петя и Дмитрий Иванович. Из-за их спин выглядывали ещё какие-то люди, и священник хотел, было, улыбнуться, показать, что не всё так и плохо, но снова потерял сознание.
Очнулся в очередной раз: полумрак и храп вокруг. Почувствовал, что лежит не на полу, а на досках, под головой – подушка. Ныла спина, горело внутри, саднило, казалось, всё тело, попытался, было, повернуться, как тут же страшной болью отозвалось в груди, под правым боком, и отец Василий застонал.
– Вот и хорошо, – послышался шёпот Дмитрия Ивановича. – Вот и хорошо, батюшка.
Мокрая тряпка лежала на лбу, снимая жар, такой же влажной тряпкой Симаков протирал израненное, всё в крови лицо священника.
– А вы молодец, отец Василий, – снова зашептал Дмитрий Иванович. – Это же так изуродовать человека, а вы ничего, ожили. Кто вас так? Небось Дуська-пулемётчица и её два апостола Пётр и Павел?
– Женщина-следователь, – слабо произнёс в ответ батюшка. – А помощников не видел. Сзади бить начали.
– Ну-у, всё правильно. Это их стиль работы. А вы спите, спите. Попытайтесь уснуть. В отсутствие докторов в этом заведении время – лучший лекарь, – Симаков поправил подушку в изголовье, укрыл батюшку какой-то рваниной. – Спите, отец Василий. Набирайтесь сил. Судя по первому допросу, они вам ещё потребуются, и не один раз.
Видения или сон, но в глазах, в голове снова закружило, замелькало, и священник то ли уснул, то ли впал в беспамятство. Потом несколько раз просыпался среди ночи. И тогда возвращалось сознание, оно позволяло чувствовать боль. Но больше всего мучила не боль физическая, сколько осознание того, что эти терзания совершаются людьми, которых он, отец Василий, безумно любит, которым предан до последнего своего дыхания. Совершают свои, не враги какие-то российского народа, России-матушки – япошки, немцы или ещё какой-то иноземец-ворог, а свой брат православный. Осознание этого факта убивало самые лучшие, самые светлые, святые для русского человека чувства единения его, Василия Старостина, с этим народом, с русскими людьми.
Как могло случиться, что в государстве, которое и стоит-то до сих пор только благодаря вере, вере в Христа и вере в свой народ, не существующих отдельно друг от друга, так могли озвереть эти же люди? Откуда такая ненависть друг к другу? Почему один посчитал себя в праве распоряжаться судьбами другого, если это только в руках Божьих? И рождение, и смерть в руках Господа нашего. Неужели кто-то посчитал себя выше Бога? Что это? Ошибка? Недопонимание? А может это плановая акция, нацеленная на истребление русского народа? Видно, враги Руси нашей поняли, что победить, поставить её на колени никогда и никому не удастся. Так решили руками самих же россиян, православных изменников, предателей, проделать это, подорвать изнутри? Или слепая жажда власти над русским человеком, власти безграничной, невзирая на любые жертвы, на кровь людскую? Если это так, тогда мы живём уже в аду, в аду не том, который предрекают в святых писаниях, а ещё хуже, страшнее. Возможно, тот, кто провозгласил себя Богом, болен? Болен физически, духовно. Или у него ненормально с психикой. Он маньяк. Жаждет власти и крови. Неужели он не понимает, что высшая ценность на земле – человек, его жизнь? Не блага сиюминутные, не власть над человеком, а жизнь!
Спроси у любого русского человека, что он понимает под словом «Родина» и священник уверен, больше чем уверен, что любой православный скажет, что это место, где он родился, дом, в котором рос, и обязательно с иконой в красном углу, с ликом Господа нашего. И Бог не только в красном углу на иконе, но и в душе. Главное – в душе. А Бог в душе – это в первую очередь любовь к ближнему, к тебе подобному. И вдруг такое? Какой дьявол посмел забраться в душу русского православного человека? Как попал он туда? Кто привел его?
Видимо, новая власть понимает силу церкви православной на Руси. Потому-то и запретила её, убрав со своей дьявольской дороги проводников божьих, священников, освободив дорогу своему дьяволу. Так ли, нет, время рассудит.
Сон сменялся тревожным забытьём, а когда батюшка бодрствовал, рядом всегда находил Петра или Дмитрия Ивановича.
– А ты, попик, ничего, – один из блатных присел на нары в ногах у священника. – Сильно же тебя апостолы уделали. В несознанку пошёл или как? Вишь, мы тебе даже нары уступили. Цени.
В ответ батюшка только моргнул глазами и попытался признательно улыбнуться. Говорить сил не было. И болел правый бок, да так, что казалось, будто нечто острое, с рваными краями вонзили туда и продолжают продвигать. Медленно так двигают. Похожую боль он чувствовал в далёком 1905 году после ранения на фронте. Но там боль причинили враги, враги Отечества, его Родины. Потому та боль была лишь физической. А вот теперь к боли физической добавляются и страдания душевные. Ведь не враги наносили отцу Василию увечья, а свои люди, славяне. Это было страшнее, ужаснее для понимания священнослужителя. Правда, он никогда не был наивным, чтобы не понять происходящего. И вот именно от этого понимания, от осмысленного осознания глубины падения русского человека болела, страдала душа православного батюшки.
Дмитрий Иванович уже не балагурил, а, осмотрев священника, пришёл к выводу, что сломаны рёбра.
– В лазарет бы надо вам, отец Василий.
Своими сомнениями поделился с блатными, и, к удивлению всей камеры, те тут же принялись стучать в дверь.
– Зови начальника, поп концы отдаёт, – потребовали у солдатика-охранника.
Как же удивлён был отец Василий, когда в тюремном лазарете, куда его перевели в тот же день, застал слободского доктора Дрогунова Павла Петровича!
– Все расспросы потом, батюшка, потом. А сейчас будем лечиться, – предвосхитил вопросы врач. – Чем меньше будете говорить и двигаться, тем быстрее поставим вас на ноги.
И действительно, священник вскоре пошёл на поправку, стал вставать, ходить по палате. Там же он и узнал, что ведёт его дело следователь Дуська-пулемётчица, она же Гранкина Евдокия Семёновна, активный участник Гражданской войны, бывший комиссар пехотного полка. Прославилась тем, что любила лично приводить в исполнение расстрелы пленных белых офицеров.
Выстраивала жертвы в шеренгу, ложилась за пулемёт и короткими очередями, два-три патрона на одного, производила расстрел.
А если ей в руки попадали казаки, то с ними забава была совершенно иной. Ставила казачков в затылок друг другу, заставляла заднего крепко обнимать впереди стоящего, приставляла наган или ствол винтовки в затылок последнему и нажимала курок. Экспериментировала, сколько тел способна пробить одна пуля.
Страшный человек Дунька-пулемётчица, страшный. В этом уже убедился отец Василий. И костоломами у неё работают два солдата Пётр и Павел, отчего и прозвали их апостолами. Где и откуда взяла их следователь, тюремная молва не знает, но то, что в свободное от работы время эти два мужичка обслуживают Дуньку уже как женщину, утверждает точно.
Ну что ж. Один порок без другого не ходит, считает отец Василий.
И там, на том свете, этому человеку всё зачтётся. Гореть ей в гиене огненной, этому исчадию ада, а не женщине. Всякое он повидал за свою жизнь, но такого, чтобы женщина и такая… В страшном сне не приснится, а вот в жизни есть.
Доктора Дрогунова взяли с постели, сонного, привезли в тюрьму, приказали работать в лазарете. Без объяснений. Привезли, и всё!
И ведь никуда не денешься, будешь работать. А пикнешь – сразу же поменяешься местами с пациентами. К радости, узнал недавно, что врачей сюда командируют: отработают положенный срок, и отпускают по домам. Вот и надеется сейчас, что пребывание его здесь будет недолгим.
Уже вторую неделю, как отец Василий обитает в тюремном лазарете. Думал, что забыли о нём, слава Богу. Но не тут-то было. Снова стали вызывать на допросы, оттуда – в камеру.
Батюшка уже понял, что в его допросах существует система: вызывают в кабинет к следователю Дуське-пулемётчице, там бьют, но уже не так страшно, как в первый раз. Потом три дня он отдыхает в камере, приходит в себя, и снова к ней, чтобы потом опять через три дня вызвать на допрос.
Хотя бывали случаи, что били сразу, без вопросов, а то могли оставить одного в комнате следователя, ждать. Чего? А кто его знает? Возможно, Дуська таким образом пыталась действовать на нервы батюшке. Наверное, понимала, что вот так сидеть, ждать намного страшнее и труднее для священника, чем быть битым сразу? Кто его знает, чем руководствовалась следователь, что у неё в голове. Да и вообще, как можно понять такую женщину? Да и женщина ли она? Возможно, от женщины у неё остались только физиологические приметы, признаки. А так, по жизни, это исчадие ада, зверь страшный, ужасный в человеческом обличии? Нет, не каждого зверя можно сравнить с ней, нет, не каждого. Зверь нападает на жертву в момент опасности, защищаясь, или в моменты голода. А эта почему бросается на людей? По идеологическим соображениям? А почему так жестоко? Лидера большевиков Ульянова-Ленина при царе тоже арестовывали, но не пытали. Ссылали, однако, насколько знает отец Василий, обращались гуманно. А он зачем такую репрессивную машину создал? И против кого? Страх пытается выработать у населения? Так что ж эта за власть, основанная на страхе? И долго ли она продержится на страхе, на человеческих пороках? Такие думы рвали, терзали душу священника. Они не давали спокойно спать, а не боли телесные.
Да-а, сейчас бы матушка Евфросиния с трудом смогла узнать своего мужа. Некогда крепкий, высокий, сильный мужчина, которого-то и стариком было трудно назвать, превратился в своё жалкое подобие, старца в рубище из рясы. Свалявшиеся волосы, рваньё на теле, что когда-то называлось рясой, и вши. Огромное количество вшей! Вши в остатках одежды, в волосах на голове, бороде, даже в бровях.
Однако с первого допроса взяв слегка ироничный, глуповатый тон и стиль в ответах, в поведении, священник так и не отступил от него, как и не отступила от своих вопросов следователь Дуська-пулемётчица.
– Ты по-прежнему будешь утверждать, что не состоял в банде троцкистов-зиновьевцев? – теперь она ещё и грубила, хамила, обращаясь к священнику на «ты», могла и заматериться крепким мужским трёхэтажным матом.
– Это ваши знакомые, барышня? – невинно спрашивал в ответ отец Василий. – При случае познакомьте, уж очень хочется с ними поручкаться. Вы так настойчиво рекомендуете, что я уже готов на них посмотреть.
После этого она брала колокольчик, священник сжимался весь в предчувствии избиения, на пороге появлялись два «апостола», и конвой уводил под руки или уволакивал избитого в очередной раз в кровь отца Василия.
Дмитрий Иванович Симаков всё же успел дорассказать историю своего ареста. В тот день, когда к нему в парикмахерскую заехал первый секретарь райкома ВКП (б) товарищ Чадов Николай Николаевич, Дмитрий Иванович был преисполнен чувством собственной значимости: не в каждую цирюльню приезжают такие знатные особы! И так тщательно взбил мыльную пену, ещё тщательнее нанёс её на трёхдневную щетину клиента, для пущей уверенности махнул бритвой по кожаному ремешку, подточил и без того острое лезвие, приступил к бритью.
Ох, и как же брил секретаря райкома Коммунистической партии товарища Чадова беспартийный цирюльник Симаков! Как младенца: нежно, нет, очень нежно, словно гусиным пёрышком, а не бритвой касаясь щёк партийного начальника. Тот от блаженства прикрыл глаза и даже вздремнул немного в кресле брадобрея.
И надо же было случиться такому недоразумению?! В этой благоговейной тишине вдруг вздрогнул вздремнувший клиент. От неожиданности рука Дмитрия Ивановича дёрнулась, и как результат – порез, маленький порез, больше похожий на царапину, на шее важной партийной особы был явной уликой покушения на жизнь первого лица района.
– Шутки шутками, отец Василий, но уже почти семь месяцев я сижу здесь. С вами только полгода. И до вас месяц, вот так, – грустно закончил рассказчик. – Было бы смешно, если бы не было так грустно. Скажу больше, батюшка, вы только не удивляйтесь: мы с Колькой Чадовым росли вместе, детство прошло в бараках на окраине города. В одни игры играли, одних девчонок провожали, одни песни пели. Мама моя у него кормилицей была. Его-то мать при родах померла, а тут я родился по соседству. Вот его отец и принёс своё чадо к мамке моей. Он, Колька, маму мою лет до пятнадцати мамкой называл, вот так. Потом что-то произошло с парнем, отбился от дома, с блатными связался, а после свержения царя смотрим, объявился Колька. Толька не Колька уже, а Николай Николаевич, это вам не кот начихал. А ведь были друзьями, батюшка, и он меня, друга детства своего, сюда, в камеру?! Вот что страшно, вот что грустно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.