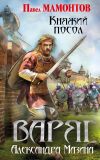Текст книги "Вишенки"
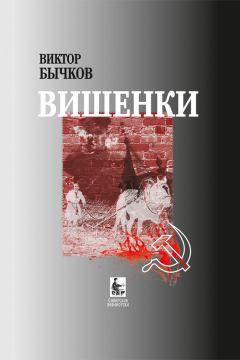
Автор книги: Виктор Бычков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
А сейчас ему надо пройти по деревням, посетить отца Василия, попрощаться с семьёй. Дело времени, и за ним приедут, арестуют, обязательно арестуют. Уничтожение кулаков и буржуазии как класса – для коммунистов вопрос жизни и смерти. Вот именно, что ради своей жизни они не остановятся ни перед чьей смертью. Ну что ж, от судьбы не уйдёшь, не спрячешься. Свой крест Макар Егорович нёс не ропща, не будет изменять себе и сейчас.
– Лизонька, доченька, я возьму внучат, пройдусь, с твоего позволения, – невестка возилась в огороде вместе с Лосевыми, докапывали картошку.
– Здравствуй, Макар Егорович, – поприветствовал его хозяин Михаил Михайлович. – Может, зайдёшь на чай? Посидим, поговорим.
– Спасибо тебе, добрый человек. Я и так в долгу перед тобою, Михалыч.
– Брось ты, чего там, – засмущался мужчина. – Свои люди, сочтёмся. Ты меня в своё время не бросил, а долг платежом красен. Или не так?
– По нынешним временам это с полной уверенностью уже подтвердить не могу, – гость всё же прошёл во двор, присел на скамеечку у стенки дома.
Рядом пристроился и хозяин, вытянув протез.
– Пускай отдохнёт, – пояснил Лосев. – А помнишь, как меня ты ругал? И не только ругал, а, Егорыч?
Да, помнит, хорошо помнит Макар Егорович тот момент. В конце 1914 – начале 1915 года в Слободу с фронта начали возвращаться инвалиды да приходить похоронки. Вот и Лосев вернулся с обрубком вместо ноги, на костылях. И запил, да так запил, что стал из дома выносить чугунки, последние мамкины тряпки менять на выпивку. Тогда Макар Егорович ещё не жил постоянно в Борках, периодически наведывался, приезжал проведать сына Степана.
Вот и в ту пору он приехал, а сына дома не оказалась. Прислуга пожаловалась, что Степан в последнее время отбился от рук и пристрастился к водке. Говорили, что и с девками дурными его видели.
Неприятно был поражён отец, взыграло ретивое, вскочил на коня, поехал искать непутёвого сына. Нашёл у монопольки, пил водку вместе с соседом, фронтовиком, инвалидом Лосевым. Не стал разбирать тогда, где сын, а где его собутыльник. Стегал нагайкой того и другого, не слезая с лошади, впереди себя гнал Степана домой на виду у всей деревни. Потом вроде стыдно стало перед инвалидом, совесть мучить начала.
На второй день пришёл к соседям, пригласил к себе Мишку.
Сидели на террасе почти весь день. Хозяин, на удивление гостя, угостил даже водкой, сам пригубил и не раз. И говорили. Говорили долго, спорили, чуть не за грудки хватали друг дружку.
– Сопля, тряпка, жаба болотная! – ревел хозяин. – Иди, вешайся, дать верёвку?
– А зачем жить, скажи, торгашеская твоя душа? – пьяно кричал Мишка, тыкая в грудь собеседнику костылём. – Что я могу теперь на этой земле, что, скажи? «Да ветру» даже присесть хорошо не могу, а как за волами идти, за сохой, землю пахать? На, попробуй, пройди, – совал костыли Макару Егоровичу. – А теперь представь, что соху держать надо, волами управлять и самому ходули переставлять. А, получилось? – злорадствовал Лосев, глядя на неуклюжие попытки соседа изобразить пахаря на костылях.
После той беседы Макар Егорович пристроил в Бобруйск к старому еврею-сапожнику Лосева Михаила Михайловича, оплатил обучение, а в следующий приезд купил все инструменты, необходимые по сапожному ремеслу. Правда, перед этим взял слово, что Мишка никогда не опустится больше до пьянок, попоек.
– А то получится, что я помог тебе спиться, – незлобно ворчал Щербич.
– Вот моя рука, Егорыч, – с дрожью в голосе произнёс Михаил. – Запомни, Лосева через колено не переломить. Кремень! Мы, Лосевы, слово держать умеем. И добро помним.
Поверил тогда Щербич соседу и не ошибся. Работает до сих пор сапожником, ходят к нему не только борковские, но и из других деревень. А вот водки больше в рот ни капли.
– Слово дал самому Макару Егоровичу! – поднимал кверху обкуренный заскорузлый палец сапожник, когда кто-то уж больно настойчиво предлагал выпить. – Самому Макару Егоровичу! Понимать надо, а мы, Лосевы, слово держим, вот так-то, дорогой товарищ. Тем более перед самим Щербичем! А это не хухры-мухры, понятно? Человек не нам с тобой чета.
Видишь, как жизнь-то устроена. Когда-то Макар Егорович помогал соседу, теперь сосед взял к себе его семью, опекает, кормит. Да-а, жизнь, итить его в раз!
Щербич сидел, перебирал в памяти события последних дней, молчал. А что говорить?
– Знаю, – первым нарушил молчание Лосев, – открыли на тебя охоту, Егорыч. Тут уж я тебе не помощник, сам как-нибудь, сам. Хотя и драл горло за тебя на том собрании, но сам знаешь, хреном лом не перешибёшь. Уходи с лёгким сердцем, за своих не волнуйся, не переживай, в обиду не дам, любому глотку за них перегрызу, не гляди, что безногий. Мы, Лосевы, добро помним, но и никому зла не спустим. У меня однополчанин в Руни, Кузьма Сергеевич Панин, хороший товарищ, крепкий хозяин. Давай, я тебя с ним сведу. В ту дыру, в Руню, ни один чёрт от власти не кажет и носа. Спрячет так, что ни одна собака не найдёт. Мы тишком, тайно. Переживёшь, пересидишь лихие времена, а там, даст Бог, утихнет, забудется. Может, на дорогу котомку собрать, а, Егорыч?
– Спасибо, – Макар Егорович нашёл руку соседа, пожал. – Только скрываться я и не думаю. Это моя родина, и что она со мной ни сделает, я ей прощу, вот так вот, дорогой Михаил Михайлович. Это судьба. Моя судьба, и я её проживу такой, какая она есть; и это мой крест, и пронесу его только я, и никто иной.
– Дай тебе Бог здоровья и удачи, дорогой ты мой соседушка, – сапожник даже прослезился после таких слов Щербича. – Вот за это я, мы все тебя уважаем и любим, Макар Егорович. Мужик ты, настоящий русский мужик. Таких как ты не сломить, такие сами кого угодно в могилу загонят. Вот моя рука, Егорыч, если что, то я, то мы…
Во двор забежали внучка Танюша и внучек Антоша, бросились к дедушке, обняли, прижались и замерли. Следом зашёл сын Лосевых Лёня с подбитым глазом и исцарапанным лицом.
– Это что за такое? – грозно спросил Михаил Михайлович сына.
Тот, насупившись, молчал, только изредка вытирал кулаком под носом.
– Ну, я тебя спрашиваю?
– Это он дрался с коммунарскими, – за Лёньку ответила восьмилетняя Танюша. – Они нас с Антошей обзывали буржуями недобитыми и не пускали купаться на пристани.
– Кого это нас? – переспросил Щербич.
– Нас. Меня и Антошку.
– Ну и?
– Вот Лёнька и дал им по соплям, а их было пять штук. А нас только трое.
– Да, но мы всё равно им накостыляли, – поддержал сестру семилетний Антон, ровесник Лёни. – Пускай только попробуют в следующий раз, мы им покажем!
Макар Егорович слушал детей, прижимал их к себе, с благодарностью смотрел на Лосевых – отца и сына. И тёплая волна признательности наполнила душу, нашла выход в вдруг повлажневших глазах.
– Ну-у, теперь я спокоен, Михаил Михалыч, – произнёс с дрожью в голосе. – Душа моя спокойна. Раз такие парни да девчата растут нам на смену, так я точно спокоен.
Внуки кинулись провожать дедушку, встали с двух сторон, взяли за руки. Невестка тоже прошла немного, вышли за околицу, остановились перед гатью.
– Неужели, папа? – Лиза не могла сдержать слёз, расплакалась вдруг. – Может, не стоит волноваться? Забудут?
– Дело времени, дочка, – не стал успокаивать сноху Щербич. – Раз колесо государственной машины раскрутилось, остановить его я не в силах. А ты береги детей, Лосевы – хорошие люди, поверь мне. Положись на них. И не обижайся на людей. Внучатам моим внуши, что родины плохой не бывает и дедушка любил её такой, какая она есть. Иди, доченька, подготовь мужа, он у тебя требует поддержки.
Уже на горушке, за гатью, по дороге в Слободу старик остановился, оглянулся назад. На том же месте, где и расстались, стояла невестка Лиза, прижимая к себе двоих детей, внуков Макара Егоровича Щербича. Рядом застыла фигурка сына Лосева Михаила Михайловича – Лёньки.
Спустя годы он ещё не один раз будет вспоминать свою родину, и всегда в первую очередь на память будет приходить вот эта картина – сноха и внуки, стоящие на той стороне гати, провожающие своего дедушку и свёкра. И рядом – Лосев-младший. А за ними – его деревня Борки и сады, им посаженные, что тянутся до самых Вишенок.
– Ну что, радость моя? – отец Василий расхаживал по хате, потирая руки. – Вздрогнем, как в добрые времена?
Матушка Евфросиния уже накрывала стол, ставила самовар, не упуская возможности поговорить, перекинуться словцом с гостем.
– Успеешь, батюшка. Дай поговорить с человеком. Тут о нём столько разговоров, слухов, а он к нам, друзьям своим, не ногой. Это как понимать, Макарушка?
Наверное, сказать, что здесь, в семье священника, Щербич чувствовал себя как дома, будет неверно. Ему всегда казалось, что лучше, больше, чем дома. Вот и сейчас он сидел у печки, смотрел на хлопоты хозяев, и тёплая волна благодарности снова нахлынула, затуманила глаза. Хотелось высказать всё то, что чувствует он в доме священника, своего друга, но слов не находилось.
– Вот опять что-то, как у красной девица, глаза на мокром месте, – пожаловался Макар Егорович. – С чего бы это?
– К добру, Макарушка, к добру, – матушка на мгновение прикоснулась рукой к плечу гостя. – Значит, не очерствел душой-то, Макарушка, человеком остался, не озлился на белый свет. А это, по моему бабьему разумению, высшая похвала для мужчины. И не сдался, не сломался, но и не озверел на людей. Только сильные духом на это способны, дружок ты наш родной.
– Ну-у, скажешь тоже, матушка. Мне прямо неудобно, – потупил взор Щербич.
– Всё правильно, Макар Егорович, – поддержал жену священник. – Не только уста младенца глаголют истину, но и женщины некоторые тоже способны на это. Однако не пора ли к столу?
Первое время за столом не говорили, разве что гость считал своим долгом лишний раз похвалить хозяйку за вкусный обед. Хозяева ждали, что сам Щербич расскажет, поделится новостями из первых рук. А он не хотел, не хотел расстраивать хороших людей, загружать их своими проблемами. Он справится, сам справится, нечего перекладывать на чужие плечи, хотя это и такие могучие плечи его друга отца Василия.
– Что дальше, Макарушка? Семья, слышали, у Лосевых? Хорошие люди, нет? – не выдержала матушка Евфросиния.
– С семьёй пока в порядке. Люди хорошие, надёжные. Но неспокойна душа всё равно. Веры властям нет, могут перекинуться на внучат, невестку. Я чувствую, что и Степана арестуют со мной вместе. Нет, я не пророк, – видя, что матушка замахала руками, не соглашаясь. – Но немного изучил коммунистов. Поверьте мне, мои родные, а я чуть-чуть разбираюсь в людях. Дай Бог, ошибиться, но их тезис «дети не отвечают за родителей» даст сбой на моей семье. Или частичный сбой, – уточнил через мгновение.
– Не дай Бог, – перекрестился отец Василий. – Упаси, Господи, заступница наша матерь Божья от лихих помыслов. Даруй, Господи, мир, покой и благополучие земное деткам неразумным.
Матушка всхлипнула, приложила кончик платка к глазам, вытерла слёзы. Гость, потупив взор, молча сидел за столом, лишь пальцы, что нервно перебирали бахрому скатерти, выдавали истинное состояние Макара Егоровича.
– Дело времени, – заговорил вновь гость. – Дело времени, может, сегодня? А может и завтра? Кто знает? Но не избежать ареста, высылки. Вы понимаете, что ждать, ждать неприятностей – тяжёлое испытание. Большевики – психологи, понимают это и тянут время, изматывают меня.
– Слушай, Макарушка, может, рано петь заупокойную? – оживился отец Василий, положив руку на плечо товарища. – Давай лучше наши любимые, а?
– Душа не готова, отец родной. Взбодрить бы её, батюшка, душу-то мою взгрустнувшую, что ли? Помнишь, как в былые времена?
– Это мы с удовольствием, Макарушка, дружок ты мой! Матушка, будь так добра, выставь нам водочки да наливочки, а сама забирай внучат, беги к соседям. Негоже молодёжи смотреть на нас, непотребных. А мы уж тут! Души наши рвутся, страдают. Спасать надо, матушка!
К полуночи сосед батюшки Василия юродивый Емеля сидел под стеной поповского дома, с замиранием сердца слушал очередную песню в исполнении священника и его гостя.
– Хорошо! Благодать! – вытирал грязным рукавом слёзы и крестился. – Хорошо! Благодать!
А они выходили несколько раз во двор и под луной пытались сплясать «Барыню». Но всё заканчивалось очередным падением кого-то из них, и голос батюшки опять гремел в ночи:
– Пойдём, сын мой Макарушка, искать равновесие на дне бутылки! Там оно, там! Истинно говорю, там!
В такие минуты юродивый прятался за угол и, высунув язык, пытался пританцовывать, повторяя движения друзей, также как и они, падал на землю, смешно взбрыкивая ногами.
Макар Егорович не ошибся: к обеду, когда он вернулся в Вишенки, у дома Гриней увидел две подводы и четырёх милиционеров. На передней подводе сидел сын Степан, низко опустив голову.
– Вот и сам пришёл, а то искать, было, собирались, – довольно произнёс один из них, потирая руки. – Молодец, папаша. А то мы уже собирались разыскивать тебя, думали – сбежал.
Из дома выбежала Глаша, подошли Ефим, Данила с Марфой. Детишки Кольцовых замерли по ту сторону плетня, с интересом смотрели на незнакомцев.
– Вот, возьмите в дорогу, Макар Егорович, – Глаша сунула в руки Щербичу котомку. – Тут немного сухарей, шанежки, шматок сала да исподнее бельё с онучами.
– И от нас возьмите, не побрезгуйте, – Марфа сунула в руки Степана похожую котомку. – Та пускай папке твоему будет, а эта тебе, Стёпа.
Садиться в телегу не стал, снял шапку, шёл рядом, высоко неся голову, смотрел на земляков, прощался. Почти вся деревня Вишенки высыпала на улицу, стояли у плетней, молча смотрели, как уводили отца и сына Щербичей. Часть женщин и мужиков пошли следом, проводили за околицу и ещё долго стояли, махали руками вслед. Та же картина повторилась и в Борках, через которые пришлось идти процессии.
– Крепись, Егорыч! – Михаил Михайлович Лосев махал зажатой в руке палкой. – Не поминай лихом! Не переживайте, крепитесь! Нас с тобой не сломить!
Макар Егорович разглядел в толпе невестку, внучат, что прижались к мамке, рядом с ними стояла жена Лосева Вера с сыном Лёнькой.
И ещё кричали из толпы, прощались. Спасибо, конвой не вмешивался, не мешал. Так же, как и в Вишенках, вся толпа двинулась следом, проводили до гати. В Слободе долго, больше версты, бежал за обозом юродивый Емеля. Плакал, кидался землёй в конвой, плевал в их сторону.
Где-то под Питером, впрочем, теперь уже Ленинградом, вагон, в котором ехал Степан, прицепили к другому составу. А поезд, где находился Макар Егорович, повернул на север.
– На Соловки, – мгновенно разнеслось среди выселенцев. – Обратной дороги нет! На смертушку везут.
– Слава тебе, Господи! На Соловки! – тихо молился в углу вагона Макар Егорович Щербич, отпустивший к этому времени густую бороду и пышные усы. – Это знак, знак свыше, слава тебе, Господи!
Глава 14
– Отнять! Отнять всю землю! – ревела одна часть собрания. – Или пускай идут в колхоз, будут как все, нечего им наособицу жить.
Они будут для нас, как бельмо на глазу.
– Нет, сохранить! Оставить! – ревела другая часть.
Ефим молча сидел, не встревал в перепалку. Данила нервно курил, смачно сплёвывая на пол.
– Какой же кулак Данила Кольцов? – в который раз начинал Аким Козлов. – Детей, считай, девять душ да они с жёнкой? Ну? Что такое две десятины на такую семью? Вот я и предлагаю оставить Гриням и Кольцовым всё как есть – три десятины на две семьи. Они же родичи, поделятся друг с дружкой, раз не хотят в колхоз.
Никита Семенихин, который недавно вернулся в деревню после службы в Красной армии, а теперь был секретарём партийной ячейки в Вишенках, вёл собрание.
– Я согласен. Но у них очень хорошая земля: воткни оглоблю, телега вырастет. А колхозу достаются бросовые земли, даже целик в некоторых местах. Это как понимать?
– Так ещё их родители удобряли эту землю. Посчитай, каждую весну по сколько возов перегноя развозят по полям. Потому-то и землица благодарна, отдача есть. А если ты, кроме пепла табачного да птичьей какашки, на своём наделе больше ничего не ронял, оттого и урожай такой, – гнул свою линию Аким.
Его поддерживали все справные хозяева. Голытьба, что кинулась в колхоз, стояла на своём.
– Вот и пускай идут в колхоз, вместе, поровну всё будет, не обидно. А то они лучше, что ли? Из другого теста? Всем, так всем идти.
– А если я не хочу? – вмешивался Данила.
Его поддерживал Ефим.
– А если и я не хочу в колхоз, тогда что? Нас арестуют? Землю отберут? А как же тогда добровольность? Вот и получается, что вроде добровольно вступать в колхоз можно, а на самом деле принуждаете нас. Это ж неправильно.
– Но советская власть не может позволить пользоваться хорошей землёй единоличникам, а колхозы оставить на бедных землях, – не сдавался и Никита Семенихин. – Это ж как получится? Советская власть делает блага для колхозников, а мы в Вишенках пойдём поперёк?
– Так это ж тоже наши люди – Кольцовы с Гринями. Или американцы? – в который раз доказывал Никита Кондратов, также оставшийся в единоличниках. – Или советская власть снимает с себя ответственность за их семьи, а? Это как понимать?
Расходились в темноте, однако решение приняли. Одну десятину, что примыкает к колхозным полям, у Данилы заберут. Завтра пригласят землемера, и он прирежет к десятине Гриней кусок целины. Вот и будет на две семьи три десятины. А вы, мол, разбирайтесь между собой сами. Спасибо, от волов и от коня отстали. А то Гришка Быстров, колхозник новый, предложил, было, обобществить и скот единоличников. Но его осмеяли, хотя и Никита Семенихин вначале поддержал такое предложение. Но, слава Богу, пронесло.
Впрочем, какая это тягловая сила? Так, одно название. Волы старые, ещё год если потягают плуг, и то хорошо. А что сможет одна коняшка? Правда, подрастают два бычка, но сколько ещё времени пройдёт, пока в силу войдут, обучишь?
Данила с Ефимом возвращались домой, почти всю дорогу молчали. И только у калитки Кольцов остановился, тронул за рукав Ефима.
– Оно, может, и правда стоило вступать нам в этот колхоз? Как думаешь? – огонёк цигарки на мгновение выхватил из темноты тяжёлый, уставший взгляд Данилы. – На миру и смерть красна.
Ефим ответил вопросом на вопрос.
– Ты знаешь, как рассчитываться будут с колхозниками?
– Трудоднями.
– Вот, правильно. И сколько ты трудодней наработаешь, если в году триста шестьдесят пять дней? Ладно, гни спину весь год без праздников. Твоё дело. Важно, что ты заработаешь? Что дадут тебе на эти трудодни? А вдруг хворь прикинется? Тогда что?
– А хрен его знает! – зло ответил Данила. – Не знаю, вот и спрашиваю, советуюсь с тобой. А ты меня политграмоте учить начал. Я может, больше сомневаюсь. Там, говорят, по результатам уборки, по урожаю.
– Вот-вот. А если неурожай? Да что у них вырастет, если у самих руки растут из задницы, а голова не на месте?
– Оно вроде так, но сомнения, холера их бери.
– Это если нам с Глашкой в колхоз, то куда ни шло. Как-нибудь сами себя прокормим. А у тебя? Десять, скоро будет одиннадцать ртов, и на один твой трудодень! Это как?
– Оно так, но всё-таки… Голова кругом.
Так и разошлись, ни до чего не договорившись.
Вплоть до этого года помимо своих десятин засевали и десятину Волчковых. Старик, конечно, уже не был помощником года три-четыре, а в этом вообще не выходил из хаты, но ратовал, чтобы земля его не осталась незасеянной. Оно и понятно: есть-то всё равно надо, вот соседи и обрабатывали, а потом делились с Волчковыми, поддерживали стариков.
На Родительскую субботу отошла на тот свет бабушка Юзефа, а на четвёртый день после похорон жены за ней следом поспешил и Прокоп Силантьич. Ушёл легко, сразу, без мучений.
Глаша зашла в дом, принесла дедушке горячей картошки-толчёнки на сметане с яйцом, чашку молока. Хозяин ещё успел спустить ноги с кровати, ответил на приветствие соседки, и вдруг замер, упал обратно на постель, дёрнулся, так и застыл с улыбкой на устах.
Земля Волчковых, та десятина, что в поле по соседству с Гринями, сразу же отошла колхозу, ну и Бог с ней. Старшая дочка стариков приезжала из Пустошки, всё, что можно было вывезти из хаты, вывезла, забрала с собой. Избу заколотили досками, так и стоит теперь, ветшает без хозяина.
Худо-бедно, но в зиму вступили, имея кое-что в амбарах. Не так, как в прошлую, чуть меньше, но грех жаловаться.
Введённый государством продовольственный налог позволил планировать посевы, выкраивать часть урожая и на продажу на ярмарке, что возобновила свою работу два года назад в Слободе.
А теперь, поговаривают, можно будет сдавать государству на хлебопоставки, вот оно-то и будет рассчитываться по твёрдым ценам. Оно, конечно, в деньгах потеряет хозяин, что ни говори, но, с другой стороны, на ярмарке где гарантия, что у тебя зернецо заберут сразу и всё? И за хорошие денежки? Во-от, то-то и оно!
Тут слух прошёл, что единоличникам выдадут планы по обязательной сдаче шерсти, шкур, мяса, молока. И это помимо хлеба. Где ж справедливость? Мол, таким образом хотят заставить всех идти в колхозы. Не мытьём, так катаньем.
Почти каждый день встречались соседи Данила и Ефим, обсуждали, думали, как по весне быть, выдюжат или нет эти планы по обязательным заготовкам на следующий год? А если выдюжат, тогда что останется им на пропитание, на прокорм скотины? Не надо забывать, что детишек одевать-обувать надо, да и жёнки который год ходят без обнов, и самим сапоги хорошие, поддёвки на вате не помешали бы. Не ходить же круглый год в лаптях?
Продолжительными зимними вечерами собирались по очереди то у одного, то у другого единоличника, вместе судили и рядили и так, и этак, но всё получалось наперекосяк. Выходило, что государство задавливало, обложило непосильными налогами, прямо хоть волком вой, да вынуждало идти в колхозы. Пищи, да иди. А не сдашь, могут привлечь к уголовной ответственности. Тюрьма маячила за спиной у каждого.
Аким Козлов предложил, было, объединиться всем единоличникам-хозяевам в свой колхоз. И сообща попытаться выстоять, выжить.
Осадили быстро товарища.
– Власть увидит такое чудо и повысит планы, будет повышать, пока твой хозяйский колхоз не лопнет, как мыльный пузырь, – Никита Кондратов нервно бегал по избе, размахивал руками. – Неужели ты не видишь, что большевики сначала освободились от богатых крестьян, кулаков, как они их называли, повыселили их к чёрту на куличики, а теперь взялись за нас, единоличников?
Посмеялись даже попервости над Акимом, а потом хорошенько рассудили, и не до смеха стало. Куда ни кинь, везде клин получается. Так за всю зиму к единому мнению и не пришли, остался каждый при своём, один на один со своим горем-бедой. И по весне в одиночку вылезли на наделы, готовить начали к посевной.
А тут с Ефимом такая беда приключилась: медведь поломал. Да и одна она не ходит, обязательно ещё несколько бед с собой прихватит. Как сейчас Даниле одному на трёх десятинах управиться? Голова кругом. Хотя, холера их бери, эти десятины. Ефим бы выжил, вот что главное. Вроде дыхал, а как там дальше – одному Богу ведомо.
Кольцов несколько раз уже засыпал в телеге, снова просыпался, с надеждой смотрел на больничный двор. Всё ждал, что кто-то выйдет, расскажет, как там Фимка Гринь?
– Ну-ка, подвинься, – санитар Ванька-Каин уселся рядом с Данилой, протянул лапищи к кисету Кольцова, что тот неосмотрительно бросил поверх рядна. – Ух, как же я люблю чужой табачок! – воскликнул от удовольствия.
А сам уже по-хозяйски оторвал двойную полоску бумаги, запустил в кисет толстые пальцы, зацепил махорки на добрых две цигарки.
– Совесть поимей! – выхватил кисет Данила. – Так и проживёшь на чужом табачке, итить твою кочерыжку. Ты мне лучше скажи, как там мой сродственник Фимка Гринь? Сами вылечите или мне идти помогать вам?
А санитар не спешил отвечать. Свернув толстую папиросу, прикурил от Даниловой самокрутки, сильно затянулся, на мгновение замер и, наконец, шумно выпустил струю дыма.
– Хороший табачок, – довольный, упал спиной в телегу, раскинув руки. – Ещё мамка в детстве учила, мол, сынок, не жалей чужой табачок, он завсегда слаще, а свой – побереги! Хорошая мамка у меня была, царствие ей небесное.
– Фимка как? – Данила не склонен был к балагурству, уже терял терпение и с силой тряс за груди санитара. – Душу не тяни, Фимка как?
– Я же говорю, что вы в своих лесах одичали, кричите. А с тобой рядом отдыхает культурный человек, понимать надо. Вон твой родич, только в себя пришёл и тоже давай орать на доктора. Мол, чего так больно. Вы что, сговорились кричать на культурных людей? Или медведь ломал – не кричал, а доктор лечит – так кричать надо?
– Так он жив, жив Ефимка? – Данила соскочил с телеги, забегал вокруг, хлопая руками по ляжкам.
– Только что вот этими руками, – Иван вытянул в сторону собеседника огромные лапищи, – я отнёс его, как барина, нет, нежно, как чужую жену, в палату. Иди к доктору, он лучше меня расскажет, а я посплю за тебя. Да, – остановил кинувшегося, было, к больнице Данилу, – ты с Павлом Петровичем с уважением, понял? Даром, что молодой, но не хуже папки своего будет Петра Петровича Дрогунова. Думаю, что даже переплюнет родителя наш доктор. По уважению, по обходительности обойдёт, по мастерству докторскому. Так склеил твоего дружка, что я диву дался.
Данила не дослушал санитара, побежал к больнице. Перед входом столкнулся с молодым доктором.
– О! Вы здесь? Не уехали?
– Нет, ждал вот, – засмущался Кольцов. – Фима, Ефимка как там?
– Раненый? Как может чувствовать себя человек, побывавший в лапах медведя? – доктор взял под руку Данилу, провёл к кусту сирени на больничном дворе, присел на лавочку.
– С вашего позволения, я посижу, отдохну, – устало улыбнулся Павел Петрович. – А другу вашему повезло, да, повезло. Сломаны два ребра, содрана кожа с лица, с правой стороны. Но я вроде пришил, как мог. Будем надеяться. Вот на левой стороне грудной клетки вырвано мясо до кости. Даст Бог, заживёт, затянется. И большая потеря крови. Но жить будет. Да, чуть не забыл. Санитар дал свою кровь, я перелил. Недели через две-три придёт домой ваш товарищ.
– Так, это, спасибо, доктор, спасибочки вам большое, – Данила схватил руку врача, с чувством пожал, и сам кланялся. – Вот порадовали, слава Богу. Поеду, порадую своих, успокою.
Повернул голову: с расширенными от ужаса глазами, с застывшим в них немым вопросом в больничный двор направлялась запыхавшаяся Глаша.
Конь шёл не торопясь, успевая сощипнуть клок травы у дороги, а возница и не торопил, сидел, свесив ноги с телеги.
Спиной к нему расположился только что вышедший из больницы Ефим Гринь. Правил конём Данила Кольцов. В задке телеги, с интересом разглядывая окрестности, стоял на коленях старший сын Данилы Кузьма, крутил головой: не каждый день доводится ребёнку бывать дальше своей деревеньки.
Ефим слушал последние новости, не перебивал, только изредка задавал вопросы, если что недослышал.
– Кузю к плугу ставить пришлось. Хорошо, волы старые, борозду добре держат, вот он и вспахал, как мог, под овёс. Я потом проверил, терпимо. А так всё самому довелось делать. Конём пахал сам. Правда, Глаша тоже помогала, нечего сказать. Так что не переживай, как-нибудь отсеялись, – Данила в очередной раз поворачивался к Ефиму, смотрел сбоку на израненное лицо товарища. – А за шрамы не переживай, чай, не девица, сватов не ждать.
– Да я и не волнуюсь, – Гринь провёл по лицу ладонью. – Даст Бог, отрастут волосы, бриться не стану, вот они и скроют всё.
– И то правда, как же я не подумал, – встрепенулся Данила.
У Слободской церкви остановились.
– Кузя, попридержи коня, побудь здесь, а мы с дядькой Фимкой до отца Василия сходим.
– С чего это? – спросил Ефим, слезая с телеги.
– При пацане не стал говорить, – заговорищески зашептал Данила, отойдя в сторону. – Приезжали вчера из милиции. Больно интересовались Макаром Егоровичем, вот какое дело, Ефимушка. Говорят, не объявлялся ли часом в Вишенках? С чего бы это, как думаешь?
– Не знаю, – удивлённо пожал плечами Гринь. – А милиция не сказала, что случилось?
– В том-то и дело, что нет. Может, отец Василий знает? Друзьями они были как-никак.
Священника дома не оказалось, был за церковью в хозяйственной постройке. Посетители дождались, пошли навстречу.
– Добрый день, батюшка, – сняли шапки, поприветствовали отца Василия. – Не помешали?
– Добрый, добрый день, добры молодцы, – пошутил батюшка. – Чем обязан такому посещению? О! Не тебя ли, сын мой, медведь надломил? – увидев обезображенное лицо Ефима, подошёл вплотную, внимательно рассматривая раны. – Герой! Чисто герой!
– с чувством, крепко пожал руку Гриня. – Я всегда говорил, что нашего мужика не сломить. Он сам кому хочешь рога обломает. Как себя чувствуешь?
– Спасибо, хорошо, – засмущался Ефим от такого внимания к себе.
– Мы по делу.
Внимательно выслушав мужчин, отец Василий стоял, поглаживая бороду, не спешил с ответом.
– А ко мне зачем пришли?
– Ну, так вы же вроде как друзьями были. Макар Егорыч о вас всегда с уважением, – сказал Ефим. – Думали, может, вы что знаете, батюшка.
– Ага, ага, – кивал сбоку Данила, подтверждая сказанное другом.
– Приходили и ко мне, спрашивали про Макарушку, дай ему Бог здоровья. А я что сказать могу? – развёл руками священник. – Вот так, как и вам, пожал плечами. Хотя догадываюсь, что исчез выселенец Щербич Макар Егорович в неизвестном направлении, дай ему Бог здоровья. Скажу вам по секрету, что помимо терпения, других хороших качеств, Макарушка очень уж вольнолюбивый человек. И себя уважает и ценит.
К сенокосу раны затянулись, зажили хорошо, больше не тревожили, разве что когда Ефим брал большой навильник сырой травы или захватывал широкий прокос косой, то болью отдавалось в груди, где сломаны были рёбра. Поэтому он всегда становился косить, где трава помельче, пониже, вместе со старшим сыном Данилы Кузьмой, а сам Данила брал себе участки с густой, высокой травой. Следом шли Глаша с Марфой, детишки, ворочали траву, а потом и сгребали уже высохшее сено, ставили в копны.
Десятилетняя Агаша оставалась дома с младшим шестимесячным Никитой и двухлетней Танюшей. Остальные, включая и трёхлетнего Гришу, были на сенокосе, помогали, как могли.
Ефим с Глашей больше не разговаривали по поводу бесплодия, смирились. После Соловков женщина притихла, не заводила разговоры на больную для них тему, старались общаться друг с другом, не упоминая детей. На первый взгляд в их отношениях оставалось всё по-прежнему, однако они сами чувствовали некий холодок между собой, недосказанность и вину. Особенно Глаша. Всё чаще она заискивающе смотрела в глаза мужу, с такими же чувствами ловила его желания, стараясь угодить. Но в этих отношениях уже не было той теплоты, душевности, что были раньше. На смену им пришли житейская мудрость, прагматизм. Смирились и понимали, что по-другому между ними не будет и надо жить так, как есть. В Киевскую лавру Глаша больше не собиралась и даже не заикалась на эту тему.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.