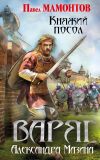Текст книги "Вишенки"
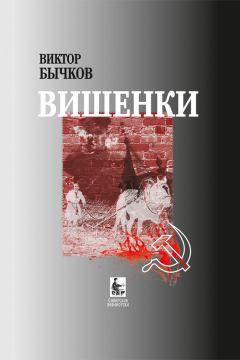
Автор книги: Виктор Бычков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
– Так страшно, а не грустно, – поправил священник. – Страшно это, дорогой Дмитрий Иванович, страшно. Особенно, когда предаёт близкий человек. Но вы на него сердца не держите, останьтесь выше склок и обид. Это возвысит вас, дорогой Дмитрий Иванович.
– Ладно, мы с вами, батюшка, хоть что-то прожили, хотя бы какой-то отрезок Богом данной жизни прошли, – продолжил Симаков. – А вот молодёжь? – показал глазами на притихшего Сидоркина Петра.
– Мало того, что жизнь сломали своими лозунгами, так ещё сейчас и прервать могут. За что? На каком основании?
Периодически из камеры исчезали люди, на их место приходили другие, и камера не пустовала, оставалась полной, еле размещались на ночь её обитатели. Дольше всех держалась троица – отец Василий, Дмитрий Иванович Симаков и Пётр Пантелеевич Сидоркин.
С первых дней пребывания так получилось, что они подружились, сблизились, как родственные души. Притом товарищеские отношения батюшки и лица, разорявшего церковь, покушавшегося на церковные, христианские устои, были очень трогательными. То у священника вдруг пропадал аппетит, и вторую чашку баланды съедал молодой товарищ, который, к слову, высох, словно мумия. То Пётр не отходил ни на минуту от батюшки, держал сутками у себя на коленях израненную голову священника, врачевал вместе с Дмитрием Ивановичем в очередной раз избитое в кровь тело старика.
Но однажды отец Василий пришёл в себя от предыдущего допроса и не обнаружил рядом милейшего Дмитрия Ивановича Симакова.
По заплаканным глазам молодого друга без слов понял, что случилось самое страшное: увели, чтобы больше никогда не вернуть.
Батюшка в последнее время всё настойчивее призывал к себе смерть. Каждый новый день начинал с молитвы, где просил Господа забрать его в мир иной, где нет Дуськи-пулемётчицы и её «апостолов» Петра и Павла. Его тело уже не воспринимало боль физическую, но душа не могла больше терпеть те страдания, что выпали на её долю. И жизнь, и он сам в этой жизни в его глазах потеряли всякий интерес. Если раньше священнослужитель ещё мог рассуждать, беседовать с товарищами, успокаивая их, а заодно и себя, вселять и поддерживать надежду на благополучный исход, то теперь заряд здорового оптимизма иссякал с каждым прожитым днём, с каждым новым допросом, пока не иссяк полностью. На последние допросы отца Василия уже не водили, а таскали за руки, идти сам не мог. Даже не помнит, о чём спрашивала следователь Дуська-пулемётчица и были ли «апостолы», – выпало из памяти.
Последующие два дня лежал на нарах, не вставая, в ожидании смерти. Всё чаще сознание мутилось, начал путать явь с бредом. То чудилась матушка Евфросиния, то вдруг видел себя молодым полковым священником, идущим с одним крестом в руках в атаку на японцев; то грезился фронтовой товарищ покойный капитан Некрасов, и они снова вдвоём сидят в ротном блиндаже за чашкой чая, ведут светские беседы. Приходил в себя, снова видел тюремную камеру, и опять впадал в беспамятство. Сколько длилось такое состояние – не знал. Потерял ощущение времени, путал день с ночью, не помнил, ел что-либо в последние дни или нет.
А тут вдруг пришёл в себя от чистого воздуха, от солнца. Открыл глаза и сразу же ослеп от солнечного света. Почувствовал, что его везут на телеге, он лежит вверх лицом, видит яркое солнце, голубое небо над собой. Явственно слышит пофыркивание лошади, ощущает тряску телеги на выбоинах, даже слышит незлобивые покрикивания возницы. Значит, везут на кладбище, решил для себя батюшка, и слёзы умиления застили глаза. Наконец-то закончатся его земные мучения.
Потом его несли на руках какие-то люди, нет, какой-то человек. Один. Что весу в старичке? Так, одна оболочка, чтобы зря утруждать нескольких человек.
И вдруг опять озарение, и рядом заплаканное лицо матушки Евфросинии. Мелькнула мысль, что это снова бред, но слезинка из глаз жены упала на лицо старика, и он ощутил эту каплю. Значит не бредит? Явь это? А вот и её руки, он не может спутать их прикосновение ни с чем иным на свете, пытается улыбнуться матушке, но сил нет на улыбку, только ответная слеза выкатилась из его обесцвеченных глаз, да жалкая гримаса исказила и без того измождённое лицо отца Василия. Оказывается, он так молил, так жаждал увидеть самое родное, самое желанное лицо на земле – лицо своей Фросюшки, что Господь смилостивился, дал ему такую возможность. Господи! Слава тебе, Господи, за радость последнюю, сейчас можно с чистой душой уходить в мир иной. Хотел перекреститься, но сил не было поднять руку, сотворить крест, последний крест благодати Господней.
– Где я? – еле слышно прошептал старик и не услышал своего голоса, обвёл глазами какую-то комнату, доселе ему незнакомую, с высоким белым потолком, с большими окнами без решёток. Он привык в последнее время видеть решётки на окнах, а здесь их нет.
– В больнице, батюшка родной, в больнице, – к нему наклонилась матушка Евфросиния, провела пальцами по лицу, погладила голову, бороду. – Доктор наш Павел Петрович Дрогунов привёз тебя, радость моя, из тюрьмы. Умирать отдали, выхлопотал, сердешный, да видишь, вытащил тебя с того света, дай Бог ему здоровья.
Вот теперь понял батюшка, где он. Слёзы благодарности и умиления снова навернулись, побежали из глаз, терялись в волосах.
– Поплачь, поплачь, радость моя, – снова шептала матушка. – Раз плачешь, значит, душой оттаиваешь, Василёк мой ненаглядный. Плачь, плачь, душа моя.
Для неё он так и оставался Васильком, светом, светочем, идолом, иконой, на которую она молилась и молится всю свою сознательную жизнь. Вот и теперь она рядом с ним, своим Васильком-Васенькой. Она выходит его, вытащит, вернёт к жизни, это же её дело, дело преданной жены и любящей женщины. Кто же, если не она, это обязан сделать? А если, не дай Боже, что случится и не станет Василька, не сможет удержать мужа своего на этом свете, Господу будет угодно его присутствие там, на том свете, то и она рядом ляжет с ним, своим родным, любимым Васильком. Без него себя не мыслит эта хрупкая матушка Евфросиния, женщина с любящим, горячим сердцем и огромной, щедрой, жалостливой, жертвенной православной душой.
Говорила, гладила мужа и сама плакала вместе с ним, положив свою голову рядом на подушку. В таком положении они замирали часто в первые дни: он, священник, настоятель церкви, некогда сильный, богатырского телосложения, а теперь высохший до неузнаваемости старик, и она, его жена, маленькая, худенькая матушка Евфросиния. Она таким образом пыталась помочь ему, мужу, желала взять его боль, страдания на себя.
Только на второй день пришёл в себя батюшка, матушка уже и не чаяла поговорить с ним, такой плохой он был из тюрьмы-то. Спасибо доктору, дай ему Бог здоровья, спас, дал такую возможность говорить с Васенькой, её Васенькой. Она и сама тут же рядом с ним умерла бы. А зачем жить, если не будет рядом самого родного, любимого человека, которому посвятила всю себя? Какое счастье снова видеть его, говорить с ним, слышать его голос! Она же не мыслит себя отдельно от него. Он и она – это же для неё единое целое.
Матушка Евфросиния только на минутку сбегает домой, подуправится и снова в больницу к отцу Василию, а тому уже легче, намного легче. Правда, не рассказывает, что и как было в тюрьме, но жена догадывается. Она видела его тело, когда вместе с санитаром Иваном переодевали батюшку во всё чистое. Господи! Неужели это могли сделать люди? Так изуродовать человека, старого человека, священника. Неужели нет креста на них, нет души? Впрочем, о какой душе может идти речь. Это бездушные, страшные люди. Кто породил их? Есть ли у них мать? То, что у них нет ничего святого, она уже знает. И это всё в стране, которую безумно любят отец Василий и матушка Евфросиния. Господи! Что тогда могут сделать с Россией враги, если свои творят такое?
Батюшка спит, а матушка сидит рядом, сторожит сон мужа. Во-о-он, в окно опять кто-то смотрит, крестится какая-то женщина. Ей на смену пришёл уже мужчина, и так, почитай, весь день.
Как только прихожане узнали, что отец Василий вышел из тюрьмы и поправляет здоровье в местной больнице, так несть числа ходокам. Так и идут, так и идут люди. В палату санитар не пускает, Павел Петрович запретил даже детям и внукам посещать священника, так они к окну подходят, прильнут к стеклу и смотрят. А потом стоят рядом, крестятся, молятся за здоровье батюшки. Ну что ж. Уже легче на душе, что не потерял народ веру в Христа, не растерял в повседневной сутолоке, страхе ежедневном чувство сострадания к ближнему, жива вера православная. Значит, не все потеряли совесть христианскую. Даже молодёжь, молодые люди нет-нет да появятся в окне. А ведь им запретили посещать церковь, преследуют за веру христианскую, а в больницу к священнику бегут. О-о, как же им жить дальше без веры в Христа?
Матушка иногда подходит к окну или после настоятельных просьб выходит на улицу, её тут же обступают прихожане, и стар, и млад – все судьбой батюшки интересуются. Прибегали на днях из Вишенок, Пустошки, Борков, даже из самой далёкой деревеньки прихода Руни приходили. Матушка обстоятельно рассказывает всё, что можно о батюшке, его состоянии. Только не осуждает власть, ни единым словом. Зачем? Не стоит дразнить собак, нет, не стоит. Себе дороже. Она уже хорошо знает истинное лицо этой власти.
А сегодня доктор разрешил отцу Василию выйти на улицу. Впервые за всё время, как привезли из тюрьмы. Вроде не так стал харкать кровью, срослись рёбра, исчезли головокружение и боли в голове. Есть стал, аппетит появился. Это особенно радует матушку Евфросинию: значит по-настоящему пошёл на поправку.
– Всё, милейший Павел Петрович, – священник ухватил доктора за рукав. – Я, право, не знаю, как вас благодарить, но мне пора домой, в нашу церковку, не обессудьте, душа моя, но пора и честь знать. Слишком уж я у вас загостился.
– Будет вам, отец Василий! – Дрогунов приобнял священника. – Будет вам благодарить как курсистке, ей – же Богу! Это мой долг, моя прямая обязанность спасать, лечить людей.
– Вы знаете, Павел Петрович, – вмешалась в разговор матушка Евфросиния. – Мы были очень хорошо знакомы с вашим батюшкой, покойным Петром Петровичем, царствие ему небесное. Так я скажу, что ему не должно быть стыдно на том свете за своего сына, нет, не должно. Я не кривлю душой и не льщу вам, уважаемый доктор.
– Спасибо, конечно. Хорошее слово и кошке, так сказать, приятно. Но я бы попросил остаться вас, отец Василий, ещё хотя бы на пару деньков.
– Нет-нет, что вы! – замахал руками священник. – Вот уже мой оруженосец верный маячит под окном с самого утра, – показал в сторону окна, где видна была приплюснутая к стеклу рожица юродивого Емели.
– Ну, тогда не смею задерживать, батюшка, но оставляю за собой право навестить вас в ближайшие дни.
– С превеликим удовольствием, спаситель вы наш, – матушка даже всхлипнула, приложив кончик платка к разом повлажневшим глазам. – И правда, приходите, чаю попьём, посидим, посудачим. В эти времена такие тяжкие, страшные должна же быть отдушина для души, как вы считаете, милейший Павел Петрович?
Уводили в тюрьму отца Василия в конце апреля, а возвращается обратно уже в подзастывшем октябре. Идет аккуратно, с опаской ставит ещё не до конца окрепшие ноги на подмёрзшую так рано в этом году землю.
Люди высыпали из домов, стоят вдоль улицы, как почётный караул, машут руками, низко кланяются, приветствуют своего священника. А он опирается на руку матушки Евфросинии, кивает всем и осеняет людей крестным знамением.
– Храни вас Господь, храни вас Господь.
И глаза почему-то повлажнели, на душе так тепло, так благостно от улыбок людских доброжелательных! Домой вернулся, и здесь его ждут! Будто не было тюрьмы, истязаний в ней, следователя Дуньки-пулемётчицы с её палачами-«апостолами» Петром и Павлом.
Не в дом зашёл, а в храм направился в первую очередь. Слава Богу, стоит, вот только замок амбарный на двери кто-то навесил, чья-то добрая душа прикрыла церковку на время отсутствия её настоятеля отца Василия. Но он вернулся, он пришёл!
Потрогал руками, решил завтра с утра заняться замком, попросить кузнеца деревенского Ермолая открыть, самому не справиться, не осилить. А утром с удивлением обнаружил, что замка нет, дверь в храм открыта! С волнением отворил её, шагнул внутрь. Всё цело, только тонкий слой пыли полу. Ну и слава Богу!
А на церковном дворе за хозяйственной постройкой танцевал сосед отца Василия – юродивый Емеля. Он помнит, как когда-то здесь танцевали два его лучших друга – отец Василий и Макар Егорович Щербич. Вот и Емеля так же смешно выбрасывает ноги, потом падает, как когда-то падали они, дрыгает ногами. Хорошо! Он снова спокоен, снова будет каждый день видеть близкого человека батюшку и его жену матушку Евфросинию и никому не даст их в обиду. А чтобы больше плохие сны про священника не снились, он будет спать на печке, а не на полатях. Это от полатей все неприятности. Емеля это знает точно. Не спи он тогда на них, не приснился бы тот сон и никуда отца Василия от него и не забирали бы. Может, разобрать эти ненавистные полати, выбросить их, изрубить на дрова? Это же столько переживаний из-за них выпало на долю Емели!
Глава 18
Провожать Кузьму до Слободы собрались все, включая и восьмилетнюю Ульянку. А что? Она уже взрослая, заканчивает первый класс начальной школы здесь же в Вишенках. Ещё чуть-чуть, и каникулы! На всё лето!
– Может, не пойдёшь, доченька? – просит Марфа ребёнка. – Всё ж таки далековато, устанут ножки твои.
– Ну что ты, мамка! Мне маменька разрешила, а ты нет. Так не бывает.
Девочка, как себя помнит, называет маму Марфу мамкой, а другую маму Глашу, с кем живёт и которую тоже безумно любит, называет маменькой.
– Правильно! Сестричка Танюша старше на какой-то один-единственный год, ей можно, а мне нет? Кузя – мой братик. Как это я не пойду? – исподлобья на женщину смотрели упрямые глазки-бусинки девчонки, плотно сжатые тонкие губки побелели, крылья носика подрагивают. – Я сказала – пойду! – требовательно и властно топает ножкой в светло-жёлтом сандалике. – Маменька разрешила! – и направилась во двор Кольцовых, но остановилась на половине дороги. – А если ты не разрешишь, то я к вам больше ни ногой! Потом ещё просить будешь, а я подумаю, вот так вот!
– Ну-ну, – покачала головой женщина и пошла вслед за девчонкой. – И в кого она такая упрямая уродилась? – сетует Марфа.
Но она не знает, хотя и догадывается, что буквально минуту назад Ульянку пыталась отговорить Глаша, на что девочка ответила:
– Не пустишь на проводы Кузи до Слободы, я уйду к мамке жить. Она мне разрешила, а ты запрещаешь. Так не бывает, чтобы один человек разрешал, а другой запрещал.
Сегодня в семье Кольцовых праздник: провожают старшего сына Кузьму в Красную армию. В военкомате сказали, что такие специалисты вот как нужны в танковых войсках. А то! Всё ж таки Кузьма Данилович – первый тракторист в колхозе, бригадир. С дядей Ефимом начинали. Это сейчас трактористов стало больше, так никого этим не удивишь. А тогда… Э-э, да что говорить.
Во дворе расставлены столы, самодельные скамейки из струганых досок на чурках, гостей – почитай, вся деревенька. Да и то сказать: соседи, друзья, родственники. Вот и наберётся…
Сам председатель колхоза товарищ Сидоркин Пантелей Иванович пришёл, поздравил призывника, сказал напутственное слово. Всё ж таки не последним человеком был Кузьма в колхозе. Вот уже полгода руководил тракторной бригадой, в подчинении дяди Ефима был. Тот начальствует над колхозным гаражом, в который входят и тракторы, и машины, вся сельскохозяйственная техника.
Кузьма кинулся к Гриням, пригласить на проводы дядю Ефима, тётю Глашу, так отец встал против.
– Ты меня не понял, сынок? – остановил сына Данила. – Или напомнить?
– Да перестань, папа! Сколько можно? – вспылил и Кузьма. – Когда что было, а ты до сих пор. Ну хотя бы ради меня ты должен пойти на примирение. Ты извини, но дядя Ефим для меня не чужой человек. И потом, не тебя провожают, а меня.
– Я сказал – нет! – отрезал Данила. – Не смей приводить на мой двор этого человека! Не хочешь скандала, не приведёшь.
– Тогда я всё равно пойду, попрощаюсь. Ваши отношения с ним – это ваши отношения. А мои – это мои. И ты в них не лезь, понятно?
– Кузьма решительно зашагал на соседний двор.
– Ну-ну, – хмыкнув, Данила остался стоять у калитки, смотрел на деревенскую улицу.
Да-а, это же почти восемь лет прошло с того дня, как Марфа чуть не лишилась мужика. За малейшим не пустил себе пулю в лоб в тот раз Данила, когда лежал пьяным в саду. Винтовкой не смог: длинная, не достал пальцем до спускового крючка. Пришлось сходить в тайник за револьвером. Такая обида глушила, прямо давила, вгоняла в землю. Жить не хотелось на самом деле. Это же где видано? Жена любимая с самым близким другом? Потерял в одночасье и жену, и друга. Не каждый вынесет такое. Вот и Данила не смог.
Крутанул барабан револьвера, взвёл курок, приставил к виску, попрощался с детишками мысленно и нажал спуск. А оттуда – холостой щелчок! Осечка! Отсырели патроны от долгого хранения. Хватило ума признать, что это судьба и надо жить. Не стал искушать себя больше, допил наливку и уснул там же, в саду. А сейчас сын хочет пригласить Ефима к Даниле во двор на проводы Кузьмы. Не-ет! Не бывать этому.
Если бы хоть кто-то попытался забраться в душу Данилы, наверное, ужаснулся бы его окровавленной, израненной, исстрадавшейся душе. Как он ещё живёт с ней – одному Богу ведомо. А ведь живёт. Стонет, переживает, тоскует по прежним дням, страшно тоскует и живёт. А что делать? Детей-то растить надо, выводить в люди. Хорошо, с Кузьмой как-то само собой сложилось, да и сложилось очень хорошо. С Ефимом сразу в жизнь входил, а тот плохому не научит, Данила знает это как никто другой в Вишенках. Даже после случившегося не стал отделять их друг от друга, хотя попытка все же была. Он хорошо помнит её.
В тот раз на второй день потребовал от сына отказаться работать с Гринем на одном тракторе, собрался, было, поговорить и с председателем, чтобы поспособствовал.
– Ты, сынок, не ходил бы больше к трактору. Я не вынесу, что ты вместе с ним, – даже говорить, произносить ненавистное имя не хотелось. – Я поговорю с Сидоркиным, он поможет.
Как тогда подскочил к нему его родной сын! Как подскочил!
– Не смей! Слышишь! Не смей! – загорелое, обветренное лицо Кузьмы побелело, схватил отца за грудь, приблизился вплотную. – Не смей так говорить! Разберись в себе, а я понимаю и маму, и дядю Ефима, и тётю Глашу. Понял? Я – по-ни-ма-ю! А тебя не понимаю. Охладись, остынь, пойми их и простишь. И снова будешь жить как человек. Собственник, вишь ли, сыскался!
Холодный блеск сыновних глаз не может забыть Данила и до сих пор.
А ведь Кузьма в чём-то оказался прав. Спустя годы Данила в этом не раз убеждался. Начать хотя бы с того, что за всё это время он, Данила, ни разу не увидел в глазах, не услышал из уст земляков ни единого укора в свой адрес. Он твёрдо был уверен, что вся деревня знала их историю с Ульянкой. Но! Может быть, что-то за глаза и говорили, обсуждали эту новость, в деревне по-другому и не бывает. Однако вот чтобы открыто уколоть – нет, не видел и не слышал. И, что самое главное, детишки его родные живут, как ни в чём не бывало. Как будто так и надо, как будто не их мамка согрешила с соседом. Он видит, как бегают они к Гриням, и бегали с того самого дня. Пытался, было, строжиться, запрещать, так куда там, всё равно ходят, как и прежде.
И в голодный год ходили, Грини подкармливали ребятню. Тогда тоже злился Данила, да ещё как! Но злость на себя была за то, что не смог прокормить семью так, как надо, что люди должны спасать от голода его ребятишек. Злился, страшно злился, но терпел, ради тех же детишек и терпел, наступил себе на горло. Но всё равно так и не простил Ефиму, может быть, злость, ярость в отношении бывшего друга стали ещё больше, ещё сильнее. Одно на другое наслоилось, увеличив, усилив до небывалых размеров ненависть к Ефиму.
Несколько раз пытался глазами своих детей, Марфиным взглядом посмотреть на события того ужасного дня, войти в положение. Но не мог до конца додумать, срывался на злость, матерки. А тут сын Кузьма, мол, пойми и простишь! Ага! Разбежался! Ненависть так вошла в жизнь Данилы, в его плоть и кровь, что вряд ли когда-либо сможет выветриться, сгладиться, забыться. Как бы не так! Это его ноша, его, Данилы, крест продолжать и дальше жить с камнем, нет, с огромным-преогромным валуном в душе.
Простил ли он Марфу? Кто его знает? Он и сам понять не может, простил ли, нет ли? Хотя разговаривают, общаются друг с другом, обсуждают семейные вопросы, в гости, на собрания ходят вместе. Но вот тех отношений, тех чувств, что были до того случая, между ними уже нет. Бывает, когда Данила забудет на мгновение, тайком любуется женой своей, комок благодарный в горле застревает, и вдруг озарит, и всё! Исчезает тот комок, ему на смену приходит ком обиды, громаднейший злости и ещё чего-то такого гадкого, паскудного, чему он не может дать точного названия, однако оно мешает, не даёт ему жить той, прежней жизнью. И ещё становится плохо, так плохо, что жить не хочется. Появляется желание завыть по-волчьи или закричать, заорать так громко, чтобы земля раскололась, лопнула.
А к Ефиму ненависть закостенела, осталась на прежнем уровне. Стала неотъемлемой чертой характера. Он с ней засыпает и просыпается каждое утро. Всё ж таки предательство друга, да какого друга – самого лучшего, надёжного, с кем не только пуд соли, а тонны горя хапнули, пережили вместе, в окопах вшей кормили, друг за друга насмерть шли – это не кот начихал, так просто не проходит. Нет, Данила не относит себя к тем людям, кто прощает предательство.
Несколько раз Ефим пытался помириться, приходил даже с бутылкой водки в дом к Даниле, но не тут-то было! Кольцов Данила не из тех людей, кто легко забывает, запивает водкой кровную обиду. Рана это, рана на душе его, её водкой не зальёшь, не залечишь. Как нельзя повернуть время вспять, так, наверное, нельзя вернуть прежнюю дружбу между Данилой и Ефимом. Да, он сожалеет, сильно сожалеет о потерянной, разорванной дружбе, но не простит. Так и умрёт, когда придётся, когда Бог решит призвать к себе, с болью в душе, с обидой, со злостью на некогда лучшего друга в жизни.
А девчушка ничего. Красивенькая. На мать Марфину и Глашкину похожа. Ещё красивее, чем мамка с тёткой. А может, это потому, что ребёнок? Ведь детишки все красивые, это когда состаримся, одряхлеем, тогда все становимся на одно сморщенное, дряхлое лицо.
Данила иногда даже любуется девчушкой тайком. Это ж надо! Но характер?! Оторви и выбрось! И в кого она такая? Понятно, что Грини в ней души не чают, пылинки сдувают, балуют почём зря. Глаша почти каждые выходные бежит на попутную машину, везет в город яйца, масло, творог со сметаной, продаёт на колхозном рынке, все девчонке обновы покупает. В деревне так никого не одевают и обувают, как эту пигалицу. Даже те девчата, что на выданье, которые сами уже работают в колхозе, и те не так одеваются. Если Даниловы дети фабричную обувь надевают только по праздникам, а то всё в лаптях да в лаптях, даже в школу в них ходят, то эта – не-е-ет! А как она играет мамкой и маменькой? Вот же пройдоха, которых свет ни видывал!
Мужчина стоит у калитки, вспоминает, думает, и лёгкая улыбка блуждает на лице.
На днях прибегает из школы младшенькая Танюша, она классом раньше идёт, чем Ульянка, однако учатся вместе. Рассказывает, захлёбываясь.
– Мамка, мамка! Что наша Ульянка учудила!
– Ну-ну, – Марфа чистила картошку, оторвалась на минутку, заинтересованная.
Данила тоже перестал крошить табак у печки, прислушался.
– Ванька Мухин из третьего класса на переменке нашу Ульянку назвал подкидышем, падчерицей, выпендрялкой и показал ей язык.
– Вот же паршивец, – укоризненно покачала головой Марфа. – Ну, и дальше что?
– А что дальше? Наши Стёпка с Никиткой тут же в драку к этой Мухе. Так Уля как зыкнет на них, как сверкнёт своими глазищами! Не смейте, говорит, я сама! И как кинется на Ваньку, да давай царапать его, таскать за волосы! Еле отбился от неё. Сейчас домой пошла вся в царапинах, и платье новое в цветочек розовый, что маменька Глаша покупала на днях, ей Ванька порвал. Правда, она ему рубаху тоже порвала.
– А ты где была? А парни? Что разнять не смогли? – спросила мама. – Неужто не смогли помешать драке-то?
– Ага, разнимешь её, как же. Блажит: сама, сама разберусь! И разобралась. Еле убёг Ванька от неё.
– Дальше-то что? – это уже Данила спросил. – Интересное кино получается.
– А что дальше? – снова пожала плечами дочка. – Наши Стёпка с Никиткой подкараулили Ваньку за кузницей после школы и так накостыляли Мухе, что юшкой красной с носа умылся. Больше не будет обзываться. Ещё брат евойный старший из четвёртого класса Вовка хотел встрять, так я ему сумкой с книгами по голове! Пускай не трогают наших!
– Вот же семейка! – возмутился в тот раз Данила. – Где эти огольцы? Я им сейчас устрою юшку! Я им покажу, как драться! И ты, девочка, парню сумкой по голове! Ты думаешь, что делаешь? А если б он тебя? А? Что тогда? Хорошо тебе было бы?
– Так он Ульянку нашу обидел, папа, – недоумевала Танька. – А я молчать буду? Вот уж нет!
– Успокойся, отец! – замахала руками Марфа. – Забыл, как сам с Фимкой в драку кидался, когда кто-нибудь нас с Глашкой в детстве обижал? Не смотрели ни на возраст, ни на количество. Порода, холера вас побери, а туда же. Покажет он парням! Сам такой, и сыны такие. Спуску никому не даёте.
– Вот же бабье племя! Всё по-своему переиначит. Я для воспитания, чтобы вперёд неповадно было, а она своё. Всё ж таки я отец или так себе? Кто ж воспитывать этих охламонов будет?
– Вспомни, мало твой батя, царствие ему небесное, кнутом тебя отучал драться? Помогло? Вот то-то и оно. Сядь и сопи в две дырочки. Дети сами разберутся. Вам бы ещё драчуна деда Прокопа покойного, и всё, живи и радуйся, прости Господи. А то он воспитает. И надо же такое сказать, что нечего слушать, – бурчит по привычке Марфа.
– Да-а, – вздохнул мужчина. – Жи-и-изнь, итить её в коромысло. Как накручено, наверчено, хрен чёрт без попа разберёт, распутает.
Вон во двор вышел Ефим, за ним и Глашка пожаловала, стоят, с Кузьмой разговаривают, обнимаются. Как бы и ему, Даниле, хотелось быть там, вместе, но как вспомнит луг, грозу, копну сена и Марфу с Ефимом там, и они там… Всё! Обрывается всё внутри, сердце останавливается, и снова дикая злоба, злость такая, что самому боязно становится.
– Ы-ы-э-эх! – выдохнул из себя мужчина, резко повернулся к дому, пошёл, не поднимая головы, отчаянно, с силой взмахнув руками, как отрезал, оборвал что-то.
Колхоз выделил три подводы, на них призывники сложили котомки, а сами шли пешком в окружении провожающих. А их собралось много – почти вся деревня.
Ефим с Глашей вышли за огороды, к просеке с дорогой мимо сада на Борки и на Слободу, остановились там, ещё раз обняли Кузьму.
Марфа повисла на шее сына, Данила пыхтел папиросой, поминутно тёр глаза, кашлял.
– Ну, сынок, – теперь уже отец положил руки на плечи Кузьме. – Ты, это… Мы, Кольцовы, сам знаешь. Неспокойно на границе, но… Не стыдно чтоб. Батя твой труса никогда не праздновал, если что, помни об этом. Мы – Кольцовы, за нами – как за каменной стеной в любом деле.
– Да свидания, папа. Ну и ты тут не буянь. Может, помирился бы, а, папа? Вижу, как маешься, себя мучаешь. Ну, чего тебе стоит? Дядя Ефим с радостью.
– Иди, иди, советчик нашёлся, – недовольно, но и без обычной злобы пробурчал Данила, слегка подтолкнул сына. – Мы сами как-нибудь. Ты там смотри, не подкачай, не то приеду, не посмотрю, что уже выше батьки вымахал. Отхожу хлудиной за милую душу. Смотри, сынок, – снова напомнил Кузьме, обнял сына на прощание, прижал к себе. – Ну всё, ступай, иди с Богом, сынок.
Потом ещё долго стояли с Марфой, махали, глядели вслед.
Младшие все побежали провожать до Слободы. В Борках к вишнёвским призывникам присоединятся борковские, потом и слободские. Ну а там, в Слободе, их уже ждут машины из военкомата.
Данила вернулся домой, принялся разбирать столы, скамейки во дворе. Нет-нет присядет, мысли набегут, оторвут от работы.
Осенью прошлой как раз на Покров Пресвятой Богородицы вот так же собирал во дворе скамейки да столы, выдавали с Марфой старшую Надежду замуж в Пустошку. Спасибо, погода была хорошей, солнечной. Расписались в сельсовете, но дочка настояла, чтобы и в церкви потом, чтобы отец Василий обвенчал.
Оклемался после тюрьмы-то батюшка, слава Богу. Марфа тогда с Глашей ходили в больницу, когда привезли старика умирать. Да тогда все ходили туда, даже сам Данила порывался. До сих пор чувствует свою вину перед батюшкой, что на венчании Ефима и Глаши учудил. Во дураком был! Но как укатали человека в тюрьме-то?! Это же страсти Господни, разве ж можно так с людьми? Данила перекрестился, вспоминая священника.
Никиту Кондратова тоже потом в тюрьму сажали после батюшки.
Он же зять отца Василия, на его дочке старшей женат. Старший внук вместе с Кузьмой в армию пошёл, младшие выросли уже. Вот и оказался виноватым человек. Неведомо, чтобы сталось с мужиком, если бы не председатель колхоза товарищ Сидоркин Пантелей Иванович: собрал срочное собрание, написал какую-то бумагу, что, мол, Никита Кондратов принародно отрёкся от тестя, от отца Василия значит.
Так или нет, но поверили там, в районе, отпустили Никиту. Так тот потом неделю бражку пил, в себя приходил, хотя за ним такого раньше никогда не наблюдалось.
Жи-изнь, итить её в доску! Иной раз так вытянет человека, так напряжёт, что волком выть станешь, не то что запьёшь.
Клялся по пьянке Никита Даниле, что не отрекался он от отца Василия, говорил, что за своего тестя он любому глотку перегрызёт. А та бумажка – так, просто бумажка, отписка.
Мысли снова перекинулись на детей.
Да-а, растут дети, растут. Надька уже с таким животом ходит, скоро и дедом сделает. Господи-и, когда было, когда было?! Сами с Ефимом, кажется, недавно с фронта сбежали, сидели вот так же во дворе, решали, жениться или нет, а вот уже и сын в армии, дочка замужем, внуков ждут.
Доски да щиты прятать не стоит далеко, Агаша на днях приходила с Петей Кондратовым, местным пареньком, ровесником своим. Согласия спрашивали у родителей, тоже на Кириллов день, как раз на двадцать второе июня, свадьбу назначили. Снова батька с маткой готовьтесь встречать гостей, накрывай столы во дворе. Да-а, жизнь.
Вовка заменил Кузьму, окончил курсы трактористов, на тракторе работает. Пока Ефим ставит его на подмену, не доверяет трактор самостоятельно, Кузьма настоял. И то верно. Данила не в обиде. Если старший сын с раннего детства слишком уж самостоятельный был, рассудительный, что взрослый мужик, то Вовка – нет, не то. Ещё ветер в голове, так и норовит коленце какое выкинуть. Что удумал, паршивец, недели две назад?!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.