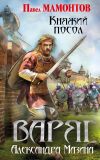Текст книги "Вишенки"
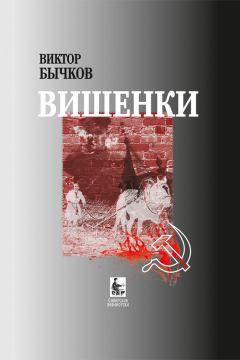
Автор книги: Виктор Бычков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Мужики встали в проходе, остановили председателя.
– Охолонь, Иваныч! Не обращай внимания, мало ли что скажет Назар. У него кила в мозгах, вправлять уже поздно. Надо было в детстве головкой о печку. Хотя его мамка с папкой и роняли головкой вниз, не помогло.
– Покинь собрание, прошу по-хорошему, – стоял на своём Сидоркин. – Если эта сволочь не уйдёт, я сам уйду. Всё! Терпение моё лопнуло!
– А-а-а! Забоялся! Значит, моя правда, вор ты, во-ор! – злорадствовал Сёмкин, видя, что председатель не может пробиться сквозь людскую стенку к нему, чувствовал свою безнаказанность.
Данила с Ефимом подошли к Назару, молча взяли с двух сторон за руки, повернули к выходу.
– На счёт раз, – кивнул головой Фимка, и Сёмкин в тот же миг полетел к двери, успев руками с разгона открыть её, выскочил из зала.
– Бесшабашные, бесшабашные! Одна шайка-лейка! – гремело из-за двери. – Я выведу вас на чистую воду!
Однако вернуться на собрание побоялся, блажил с улицы.
– Говори, Иваныч, – зал успокоился, собрание продолжилось.
– Вот я и говорю, голод в стране, страшный голод. В некоторых сёлах вымирают все, до единого жителя. Скажу страшную правду: есть случаи людоедства.
По залу пронёсся тяжёлый стон.
– Я не вру, уполномоченный из района, что у нас на уборке был, говорил. Не верить ему я не могу. Такими вещами не шутят. Так это к чему? Понимать должны, что семь детских трудодней мы всё же приравняли к одному взрослому. И это не из-за нашей вредности. А всё потому, что у нас, слава Богу, такого голода не будет, не должно быть, – поправился Пантелей Иванович. – В то же время мы должны и думать о государстве. Оно нам даёт два трактора, машину – это не кот наплакал. А мы зажмём и будем под иконой втихаря жрать хлебушко, а где-то люди едят самих себя. Разве это правильно? Или мы не христиане? Да и у каждого из нас ещё и свой огородишко при доме имеется.
– Да ладно, Иваныч, – кто-то выкрикнул из зала. – Как-нибудь.
Нам не привыкать.
– А на машину кого направишь? – спросил Аким Козлов. – Кто на ней рулить будет? Уж не я ли с одной ногой?
– Вот-вот. А тракторами кто? – поддержала его и Галька Петрик, которую недавно сняли с заведующей фермой и отправили в доярки. А заодно и вывели из состава правления колхоза. – Опять кто-то из кулаков недобитых, зятевьёв поповских?
Это она от обиды, что вместо неё поставили бывшего единоличника Никиту Кондратова.
Данила с Марфой в тот же миг покраснели, потом побелели как мел. Вот оно, начинается! Сейчас таких гадостей наговорят на Ефима с Кузьмой, что хоть беги на край света от стыда. И это-то при всём честном народе! Данила стал второпях крутить цигарку, нервно рвал бумагу, просыпал махорку, не смея поднять глаза. Марфа зажала руки на груди, застыла, закусивши губу до боли.
Но председатель как будто и не заметил подвоха, говорил как всегда ровным, твёрдым голосом.
– У нас сейчас, граждане дорогие, нет кулаков, тем более недобитых. У нас теперь все колхозники, только один грамотный, добросовестный, трудяга, работяга настоящий, можно сказать. А другой – лодырь, неумеха, человек безответственный и, самое страшное – завистливый. Вот так-то вот, гражданка Петрик.
– Так вот, – продолжил председатель, – на правлении колхоза решили, что управлять машиной будет, дорогой Акимушка, Володя, Владимир Петрович Комаров, устраивает? – и обвёл зал пытливым взглядом.
– Ну-у, – за всех ответил Козлов. – Этот парень хоть куда, согласен.
Его поддержали гулом одобрительных голосов.
– Проголосуем, товарищи колхозники. Кто за то, чтобы отправить на курсы шоферов товарища Владимира Петровича Комарова?
Проголосовали все, даже Галька Петрик подняла руку.
– А сейчас ставлю на ваше голосование кандидатуры будущих колхозных трактористов, – снова заговорил председатель. – Правлением колхоза единодушно и единогласно одобрены товарищи Ефим Егорович Гринь и его племяш товарищ Кузьма Данилович Кольцов. Кто за этих товарищей, прошу голосовать.
Данила так и не скрутил цигарку, не получилась. Марфа как застыла с закушенной губой, так и сидела, только почувствовала, как сердце вдруг подскочило к горлу, потом резко бросилось куда-то вниз и уже там, в глубине материнского тела, почти остановилось, в голове образовалась пустота до звона в ушах.
Зал не стал голосовать, а вслед за секретарём партийной организации колхоза товарищем Семенихиным сначала робко, потом всё веселее, азартнее, слаженнее начал аплодировать. При первых звуках аплодисментов Марфа бессильно упала на мужа, теряя сознание. Ей показалось, что вот так люди выражают своё недовольство её сыном и сродственником. Жизнь кончилась!
Такого позора она точно не вынесет! Данила и сам попервости стушевался, растерялся, пока тот же Аким Козлов не заметил, не вмешался.
– Вот же деревня! Ты глянь, тут радоваться надо, народ доверил, а они, мамка с папкой Кольцовы, спужались! Радуйтесь, деревня, что сына такого вырастили! Народ ему доверяет, надежду возлагает.
Вот тут и Данила вспомнил, что ему знакомы аплодисменты, это он почему-то запамятовал, чуток стушевался. А так он рад, нет, не то слово. Он даже не знает, как понять его состояние теперешнее, каким словом обозначить, только зашлась душа, и так потеплело в ней, и тепло ударило в глаза, что слёз сдержать сил больше нет.
А Марфа повисла на мужнином плече и плакала, не могла остановиться. С боков вцепились дочки, добавили свои голоса, к ним присоединилась малышня. Следом и Глаша кинулась в эту кучу. И вот уже на виду всей деревни плакали от счастья почти все Кольцовы. И люди их поняли, поняли правильно, разделяя с ними семейную радость несмолкающими аплодисментами, этим новым для затерявшейся среди лесов деревеньки Вишенки видом человеческого признания.
– Вот, дорогие товарищи Комаров Владимир Петрович, Гринь Ефим Егорович и Кольцов Кузьма Данилович! Народ вам поверил, это аванс. А теперь вы должны оправдать доверие своих односельчан, – закончил собрание председатель колхоза товарищ Сидоркин Пантелей Иванович. – Зиму отучитесь, а по весне и техника подойдёт.
Марфа, Данила, Глаша с Ефимом шли домой с собрания вместе. Малышня окружила Кузьму, и уже не отпускала от себя, как героя.
– Представляете, – в который раз говорила Марфа. – Не Кузьма, не Кузя, а Кузьма Данилович! – поднимала кверху палец, и вновь улыбка застывала на её счастливом лице. – Это вам не кот начихал, то-то! Кузьма Данилович! – и снова прислуживалась к новому, но такому для неё приятному, созвучию: Кузьма Данилович, и это-то в неполных пятнадцать лет! Это ли не благодать для родителя. И снова вытирала кончиком платка в очередной раз набежавшую слезу.
– Будет тебе, будет, мать, – Данила вышагивал впереди, что-то усиленно про себя соображая. Наконец, остановился, подождал всех, взял под руку Ефима. – У тебя самогонка есть? Или настойка вишнёвая?
– Ты чего, отец? – встрепенулась Марфа. – Неужели выпить захотел?
Для неё это было странным: ни Данила, ни Ефим никогда не страдали без водки, и теперь она была приятно поражена, удивлена желанием мужа.
– Конечно, есть, отец! Куда же она подевается? Навыки материнские мы с Глашкой хорошо усвоили в приготовлении наливочки.
– Дедушке Прокопу, царствие ему небесное, – поддержала сестра, – очень уж она нравилась. Тот был штатным ценителем.
– Да и мы с Фимкой ещё не потеряли навыки, хотя и очень редко брали в рот, – заметил Данила.
– Давайте у нас соберёмся, посидим, такое нечасто случается, – предложил Ефим. – Детишкам в лавке надо бы гостинцев купить.
– Это я сейчас, скоренько, – с готовностью отозвалась Глаша, и за ней, не сговариваясь, кинулась вся ребятня, направились к сельмагу.
На второй день Кузьма с Ефимом уехали в район на курсы трактористов. А ещё через неделю, как раз на день святой великомученицы Варвары, выпал снег, да так выпал, что закрыл толстым слоем, укутал и деревеньку, и лес, и все окрестности. Выпал на талую землю, значит, влаги на следующий год будет в достатке. И слава Богу. Не всегда же испытывать на прочность жителей Вишенок, они заслужили по праву и лучшей доли.
Марфа высчитала, что родить ей придётся в конце апреля. И сама для себя решила, что этот ребёнок будет последним, нет, крайним. Больше всё, шабаш! Не выдержит организм.
Это ж хорошо было бы рожать, как городские бабы рожают, в специальных домах, при врачах. Ей об этом рассказывала матушка Евфросиния, когда Марфа ждала отца Василия, хотела исповедоваться, спросить совета, как ей быть? Вот матушка и заняла время, пока батюшка вернулся в церковь с похорон в Пустошке.
Говорит, палаты специальные в больницах, доктора вокруг, то да сё. Прямо барыни, а не простые роженицы. И, главное, дня два после родов лежат бабы, приходят в себя, отдыхают, залечивают раны, если есть. Потом только домой направляются.
Вот если бы ей, Марфе, такой уход, так она еще и не раз родила бы. А что? Чем не барыня? Рожай себе, за тобой все ухаживают. Да-а, такое деревенской бабе может только сниться.
Вон Танюшкой ходила, последней дочуркой. Как раз на Коляды, в самые холода рожала. Только родила, бабка Лукерья пуповину перерезала, лежала Марфа за печкой, отдыхала. Тут Вовка забежал в хату, крикнул, что в хлеву корова Галка телится, да никак не расстелится. Мол, телок поперёк пошёл, папка не справляется, никак не может помочь корове.
Что ты будешь делать? Не лишаться, не дай Бог, коровы-кормилицы. Кое-как вытерлась, подвязалась, да к мужу в хлев на помощь побежала. Там же ему и о дочурке рассказала. А вернулась к ней, бедной, только серёд ночи, когда помогли всё-таки корове, спасли и её, и телка, слава Богу.
Или Стёпку рожала. Так того прямо под копною родила. Сначала почувствовала, что всё, вот-вот, ещё успела связать несколько снопов, сложила в крестец и прямо на нём под копной и родила. Пуповину обрезала Глаша, что жала по соседству.
Полежала-полежала под копной, обсохла маленько, дитё завернула в тряпки, что с собой носила на всякий случай, оставила тут же, укрыла от солнца, а сама снова за серп да давай жать.
Куда деревенской бабе до докторов и специальных родильных домов? Для них каждый кустик – родильный дом.
Отец Василий принял тогда исповедь, долго стоял рядом, молчал. И она, Марфа, ждала. Рассказала ему всё, без утайки, как было в копне сена у неё с Ефимом. И мысли свои поведала, что в тот момент пришли в голову, даже о молнии и о громе страшном, оглушительном рассказала. И совета спросила, как ей быть теперь? Вроде ребёнок-то её, в утробе, вот он, а отец другой, не муж Богом данный, а муж сестры. Она-то не может, Бог не дал ей возможности испытать благо от материнства. Мучается женщина, сильно переживает и мучается, кровоточит душа её, пыталась себя жизни лишить по этой причине. Как не спасти душу православную? Тем более сестра это, единоутробная сестрица. Вот за неё-то болит душа у неё, у Марфы. И для сестры, ради сестры пошла она на грех. Как теперь отдать своего ребёнка? Не страшный ли грех это? Не покарает ли Господь её, Марфу, за грехи её тяжкие? Не падёт ли гнев праведный Господа на неродившегося ещё ребёночка?
– Рождение человека на земле – это есть самое богоугодное дело, дочь моя, – произнёс, наконец, священник. – И если Бог уподобил тебя осчастливить сестру твою, даровать ей ощущения матери чрез чрево твое, это тоже угодно Богу. Ибо жертва во имя друга твоя, что может быть более благостным для христианина? Да благословит тебя Господь, святая ты русская женщина!
И, к удивлению Марфы, вдруг наклонился над ней, на мгновение прижал к себе и поцеловал куда-то в темя, в платок.
– Иди, дочь моя, иди! Дай тебе Бог здоровья и сил душевных, – и буквально вытолкал из церкви.
Как на крыльях домой шла, ног под собой не чуяла. Сняла, наконец, грех с души, в будущее смотреть стала уверенно и смело. Её уже не страшили разборки с мужем, как-нибудь объяснит. Должен понять, а не поймёт, ну что ж… Она от слова, данного Богу, не откажется. И ребёнка отдаст, как и обещала. И вытерпит, всё вытерпит, все суды-пересуды, толки людские снесёт, осилит, но Глашка, сестричка её родная, будет мамкою. Вот что самое главное. Она спасёт сестру! И пускай хоть земля треснет, провалится в тартарары, но от своего Марфа не отступит! Пусть говорят потом люди, что хотят, ей уже будет безразлично. Люди, они – люди, а сестра Глаша – это сестра Глаша.
Да, для неё, как для мамки, это будет удар, страшный удар, расстаться с кровинушкой. Однако она тешит себя мыслью, что ребёнок всегда будет рядом, в соседнем доме, и она, мамка его, всегда сможет увидеть, покачать на ручках, понянькать маленького. И каждый день будет видеть счастливую сестрицу Глашеньку. Пускай ей уже под сорок лет, но она для Марфы останется Глашенькой, сестричкой младшенькой, любимой.
Ну а муж, дети её? Как они отнесутся? Что скажут своей жене, матери? Осудят или поймут? Про чужих людей она думать не хочет. Чужие – вытрутся и привыкнут. А вот родные? Ей с ними жизнь доживать, со счетов не сбросишь, из сердца, из души не выкинешь, не вычеркнешь. Что скажет ребёночек, ею рожденный, но воспитанный в другой семье? Как он посмотрит на свою мамку единокровную?
Господи, столько вопросов, а где ответы? Кто ответит? Кто даст ответы на них? И какие они будут, ответы эти? Господи, дай сил, Господи! Надоумь, Спаситель! Как быть деревенской бабе, что делать, где набраться сил выдержать всё это, не сойти с ума, не сломиться, до конца пронести свой крест?!
Глава 16
Ефим с Кузьмой и не заметили, как зима прошла. С утра до позднего вечера пропадали на курсах, учили устройство трактора СХТЗ 15/30. Слава Богу, страна стала выпускать и свои тракторы.
То на занятиях учили теорию, водили указками по схемам, в другой раз спешили в мастерские, собирали и снова разбирали двигатель, коробку передач, учились ремонтировать в полевых условиях. С особым удовольствием шли на практические занятия, когда наставник разрешал запустить трактор, самому сесть за руль и ехать по учебной территории. Да это же благодать! Рай!
А тут и первый гусеничный трактор поступил, его тоже надо было изучить, что и делали дядя с племянником с превеликим удовольствием. Уставшие, но довольные только к ночи возвращались в общежитие, наспех перекусывали припасённым с ужина куском хлеба, запивали кипятком и падали на кровать, засыпая мгновенно.
Уже в конце марта, когда снег практически растаял, в район на жеребце верхом приехал председатель колхоза Сидоркин Пантелей Иванович. Где и по каким кабинетам он ходил, Ефим с Кузьмой не видели, только к вечеру вдруг появился на курсах, вызвал к себе Гриня с Кольцовым.
– Ну всё, парни, отучились! Молодцы, спрашивал про вас, хвалят, так и должно быть. Завтра с утра едем в МТС, забираем свой трактор, цепляете плуг трёхкорпусной, заправляете керосином полный бак, и вперёд! На Вишенки!
– Как? Своим ходом? – зачем-то уточнил Кузьма.
– Нет, за жеребца Ворона зацепим, пускай тащит, – рассмеялся председатель. – Конечно, своим ходом, Кузьма Данилович! Каким же ещё? Да, обозом сегодня отправили масло и керосин для вашего агрегата в деревню, так что…
С этого момента Сидоркин называл трактористов только по имени-отчеству, заранее возведя их в люди необыкновенные, умеющие управлять такой сложной техникой как трактор СХТЗ.
– И ещё одна радость, парни, – Пантелей Иванович хитро посмотрел на трактористов. – Пока поработайте на одном, а к осени обещали гусеничный ХПЗ, вот! Это вам не кот начихал, а будет таскать за собой плужок с восемью корпусами!
– Вот это да! – восхищенно заметил Кузьма. – Мы такой трактор учили с дядей Фимкой. Он ещё называется Г-50 или Г-75! С кабиной!
– Ну-у, какая там кабина? – осадил племянника Ефим. – Так, крыша над головой, навес, не больше. А вот что мощный трактор, это факт. Ты прав, Пантелей Иванович, с плугом-то. Это ж сколько лошадей да воловьих пар заменит один такой трактор? Страшно даже подумать!
– Не говори, – поддержал председатель. – Так что, Ефим Егорович, пока до осени на этом тракторе поработаете вдвоем, руку набьёте, потом передашь Кузьме Даниловичу. А сам на ХПЗ рулить будешь.
– Как? – снова удивился Кузьма, не веря своему счастью. – Я сам буду работать? Один на тракторе?
– Ну, почему один? – снова улыбнулся Сидоркин. – Можешь мамку с собой брать, если боишься.
– Что вы, что вы, Пантелей Иванович! – замахал руками парень. – Я не к тому.
– А к чему?
– Сам себе не верю, ушам своим не верю, что я – и трактор! Один на один с такой махиной!
– А ты верь. Без веры нигде толку не будет, ни в каком деле.
Трактор подготовили с самого раннего утра, сложили ключи, инструменты, выехали со двора МТС сразу после завтрака, направились в сторону дома. Рулил сначала Ефим, Кузьма сидел сбоку на крыле колеса, с интересом рассматривая окрестности, потом в дороге несколько раз менялись местами.
Уже перед Слободой, когда время было далеко за полдень, Кузьма стал настойчиво проситься к рулю. Ефим его понимал: мальчишка, ему бы покрасоваться перед знакомыми и друзьями. В то же время, он и сам был бы не прочь въехать в деревню за рулём. Взыграло и у него самолюбие! Однако погасил в себе эту мимолетную вспышку, уступил руль племяннику.
К огромному удивлению обоих, сразу за мостом через Деснянку на въезде в Слободу их встречала толпа народа. Помимо слободских Ефим заметил в отдельно стоящей стайке знакомые рожицы. Это под предводительством Вовки прибежали из Вишенок навстречу старшему брату Вася, Фрося и Стёпа.
Вот они выбежали вперёд, радостно замахали руками. Из-за шума трактора расслышать было трудно, что они кричат, но восторг малышни легко читался на их лицах. Пришлось Ефиму сойти с трактора, уступить место гостям, которые с превеликим удовольствием по очереди восседали рядом со старшим братом, неимоверно гордясь собой.
А на краю сада перед Вишенками их встречала вся деревня. Но Ефим выделил для себя Глашу и Марфу, отыскал их глазами и больше не упускал из вида.
Прижавшись друг к другу, женщины с удивлением смотрели на дорогу, на этого железного, гремящего и чадящего монстра, что неумолимо приближался к ним. Ефим решил, было, сразу подойти к ним, потом всё же передумал, увидев рядом с ними и Данилу. Что-то удержало мужчину, что, он пока не понял, не разобрался в себе. Но соседство Марфы, Данилы и Глаши, людей, что особенно дороги ему и перед которыми подспудно, на уровне подсознания чувствовал свою вину, было для него неприемлемо. Притом вину не маленькую, как за не отданный взятый в долг один рубль, а большую, во сто крат большую.
Управлял трактором Кузьма, а Ефим шёл в общей толпе, охваченной ликованием, и не мог настроить себя на праздничный лад. Слушал поздравления земляков, что-то кому-то отвечал, улыбался, но душа уже томилась, исчезло спокойствие, что ещё недавно полноправно властвовало в ней. И даже Данила, что душил в объятиях Ефима, не мог вернуть уверенности последнему.
– Что с тобой, Ефимушка? – жена заметила перемену в поведении мужа, прочитала тревогу в его глазах. – Что-то случилось? – спросило тревожно.
Он хотел, было, ответить, сослаться на усталость, как вдруг встретился с глазами Марфы, с её удивительной, открытой, успокаивающей улыбкой, одной единственной улыбкой. Но именно она поставила всё на свои места, вернула твёрдую уверенность в благополучном исходе дела, а с ним и хорошее, нет, даже отличное настроение, что должно соответствовать такому торжественному моменту в жизни деревни Вишенки, как прибытие первого трактора на её землю.
– Видели?! – радостно прокричал Ефим. – И это ещё не всё.
Осенью будет трактор пострашнее этого!
– Ой, Господи! – делано испугались женщины, перекрестившись. – Куда уж страшнее.
– А Кузьма-то, Кузьма! – Ефим тряс Данилу, повернув того в сторону трактора, что уверенно вёл его сын. – Каково, а?!
Потом был митинг. На нём настоял секретарь партийной организации колхоза товарищ Семенихин Никита Иванович.
Земля подсохла, прогрелась, и уже через неделю-полторы в начале апреля, вывели трактор в поле, что примыкает с восточной стороны к Данилову топилу. С западной стороны – поля Борковского колхоза, они уже частично вспаханы, и свежо чернели, глянцево поблескивая свежими отвалами земли.
Поле длинное, вытянутое между болотом и кромкой леса, одним концом упиралось в земли, принадлежащие Пустошке, другой ограничивала дорога из Борков в Вишенки. В прежние времена не каждая воловья пара способна была осилить, протянуть плуг из одного конца в другой без остановки, без отдыха. Всё-таки почти верста – не шутка!
Пахать решили «в складку», от центра к краям, поэтому Кузьма с вешкой загодя перебрался в тот, пустошкинский конец поля, тщательно шагами вымерил и обозначил серёдку, с волнением смотрел, как дядя Егор вёл первую борозду. От неё, от первой борозды, зависит очень многое. Стоит искривить её, и всё, придётся делать лишние заходы, пустые переезды.
А если ты умудришься провести первый след как по струнке, ровнёхонько, то, во-первых, и самому приятно глядеть на такую пахоту. Во-вторых, избавишь себя от лишних движений на поле, холостых прогонов трактора. Ну и, в-третьих, авторитет грамотного, умелого хозяина ещё никто на селе не отменял.
Хорошо и умело пахать – это мастерство, высшее мастерство пахаря.
Даже когда пахали при пане Буглаке, то первую борозду вёл самый опытный пахарь, на хорошо обученных, спокойных, тягловых волах, которые легко выдерживали такое расстояние. Так же размечали вешками с двух краёв, шагами определяли серединку, пахарь становился за плуг, кто-то из серьёзных, ответственных мужиков брал ведущего вола за сыромятный поводок, и «Цоб-цобе!» – деланно-строгим голосом даст команду волам какой-нибудь дядька Панас, с волнением держащийся за ручки плуга.
Хорошо обученная, привычная к тяжелой монотонной работе животина вначале, не сдвигая с места ног, подастся телом назад и разом, дружно наляжет на ярмо. И пошли, пошли, неторопливо, степенно, с обманчивой лёгкостью взрывая землю, откидывая лемехом отвал блестящего тёмного пласта!
А за ними толпой шли самые строгие судьи, те, кто потом пойдет следом, будет равняться на первую борозду. От их зоркого, проницательного взгляда не скроется ни одна промашка первого пахаря, ни один огрех.
И вот она, первая борозда! Ровная, как струна, соединит оба края поля, создаст задел на будущий урожай.
Мужики соберутся в кучу на том краю в конце борозды, обязательно закурят, щедро угощая друг друга махоркой, чего в другие дни вряд ли дождёшься. Будут обсуждать, спорить, хвалить того или иного вола из тех, что тянул плуг на первой борозде, и столько порасскажут о них, как будто это не бессловесная скотина, а, самое малое, национальный герой, былинный зверь. О том человеке, что стоял за плугом, не будет сказано ни слова: это волы сами всё сделали.
А дядька Панас оглянется назад, даже присядет, прижмурит один глаз, проверит, удостоверится, что борозда-то – ого-го! Что надо! И только после этого отойдёт в сторонку, присядет на корточки, удовлетворённо хмыкнет, крякнет, блаженно улыбнётся весеннему жаворонку, уже зависшему над полем с первой утренней песней, вытрет испарину со лба, достанет кисет, неторопливо примется крутить цигарку слегка дрожащими руками.
Ждать благодарностей от земляков даже не рассчитывает, не приходится, да он и не ждёт. Не принято хвалить пахаря: хорошо пахать – это его дело, его обязанность, и делать он должен только так, а не как иначе. Это же не он с таким напряжением только что держался за рукоятки, мгновенно, а то и на опережение определяя поведение волов, чтобы успеть неуловимым движением, наклоном плуга подправить, подчистить предполагаемый огрех, не допустить его, не искривить, не испортить бороздку. Это же не его прошибало потом, и не у него ещё дрожат руки от усталости. Теперь уже приятной усталости. Это же волы всё сделали, сами, а он так, сбоку припёка, погулять вышел, от нечего делать держался за рукоятки только для того, чтобы плуг не падал. Переубеждать его в обратном – лишняя трата времени. И у него, как и у столпившихся на краю борозды крестьянских мужиков, вера в волов свята, священна, незыблема. Он знает в крестьянском труде место при пахоте человека и животины, где пахарь не может по определению стоять на одной высоте с волами: они – выше, они – главнее, они – всё! А человек, пахарь? Он – довесок к волам.
Одними одобрительными похлопываниями животных по шее да пустыми разговорами о достоинствах волов, точно, не обойдутся. Обязательно сначала кто-то из мужиков тайком достанет из кармана кусок хлеба, что припас для этой цели заранее, оторвал от семьи, сдует с него крошки табака, разломит напополам и сунет к воловьим мордам. Другие – будут делать всё, чтобы не заметить этого жеста, но сами уже держат руки в кармане, теребят корочки хлеба, с нетерпением ждут, когда можно скормить их волам.
Потому как вол для крестьянина – это больше, чем выхолощенный бык, больше, чем друг, брат и сват. Вол, как и сам пахарь на селе, – это всё! На них двоих держится деревня! Только вот себя человек немножко принижает, не выпячивает, добровольно отдавая первенство безмолвной скотине. Может быть, это из-за природной скромности, а может, и на самом деле свято верит в вола, обожествляет тягловую животину? Кто его знает. Не принято на селе выпячивать себя.
Ефим волновался и старался скрыть волнение суетой, покрикиванием на земляков, что чересчур лезли к трактору, норовили всё потрогать, пощупать.
Но вот уже выехал на поле, подмял вешку как раз серёдкой трактора, остановился, окинул взглядом толпу мужиков, баб, ребятишек, что в такую рань сбежались сюда. Диковинка!
– Ефим Егорович, трогай! – председатель волновался не меньше тракториста, поэтому голос был излишне бодрым, но с еле заметной дрожью. – С Богом, Егорыч!
Выжал педаль сцепления, включил скорость и плавно, как учили, тронул трактор, поддав ему газу. Он легко отозвался на веление тракториста, взревев, выбросив в воздух, в чистое весеннее небо клубы иссиня-чёрного дыма, огласив и поле, и округу непривычным доселе рычанием, с завидной лёгкостью пошёл, оставляя после себя ладную полоску вспаханной земли.
Ефим хорошо помнил, чему его учили на курсах, крепко усвоил, что во время движения трактор будет помимо воли тракториста сдвигаться вправо, туда, куда направлены отвалы плуга. Поэтому периодически спокойно доворачивал его влево, твёрдо выдерживая направление на маячившую в конце поля вешку. Обернулся назад, увидел, как шли за ним люди, восхищённо махали руками, что-то кричали вслед. В конце поля развернул трактор, встал в новый заход, с волнением окинул свою первую борозду. Хотелось бы лучше, ровнее, но лиха беда начало, научится, обязательно научится, и тогда точно не будет стыдно за работу.
– Видно, левый тягловый вол у тебя чуток сильнее, – не преминул уколоть Данила за изогнутую вправо борозду. – Так и норовил вперёд вырваться. Тебе бы правого кнутом, кнутом его, Ефимушка!
– и расхохотался, показав всем полный рот крепких, здоровых зубов.
– Будет тебе, зубоскал, – осадил его председатель. – Ты через год приходи, вот тогда и поглядим, да Ефим Егорович?
– Так, это, – попытался оправдаться Гринь, но его опередил Аким Козлов.
– Ефимушка-а! Твой зверь три пары волов заменил! Ты гляди, от безделья волы скоро доиться будут как коровы, молоко давать начнут, итить их в бок!
– А ты, Аким, за сиську одну-единственную их дёргать будешь, – под общий хохот закончил Никита Кондратов.
Ближе к обеду все зеваки разошлись, а Ефим с Кузьмой попеременно делали круг за кругом, оставляя после себя всё расширяющуюся вспаханную полосу, со степенно бродящими по ней грачами.
Работа затянула, увлекла, отодвинув на задний план душевные терзания. Домой приходил затемно, умывался и замертво падал на постель. Даже не было сил помочь Глаше по хозяйству, огороду. Данила вспахал Гриням огород, засадили картошкой, хозяйка сама, одна делала грядки, управлялась по дому. Изредка прибегал кто-нибудь из детей Кольцовых, побудет минутку, да и обратно домой.
В этот день пахал сам Ефим, Кузьма съездил на лошади в Слободу за маслом для техники и теперь сидел на краю поля, поджидая дядьку, чтобы долить масла в двигатель.
Первым младшего брата Вовку заметил Кузьма, однако сразу не придал особого значения его появлению на поле: детишки частенько прибегали покататься на тракторе. Но мальчишка бежал явно не к нему, спотыкался, а то и падал на свежевспаханную землю и отчаянно махал руками. Наконец, его заметил Ефим, остановил трактор, пошёл навстречу пацану.
– Дядя Фимка, – задыхаясь, прокричал мальчик. – Дядя Фимка, мамка кличет. Она у вас в доме с тётей Глашей. Просила срочно, сей момент!
– Чего, не знаешь?
– He-а. Мамка не сказала, велела только позвать, и всё.
Оставив Кузьму на тракторе, бегом пустился домой.
«Вот оно, начинается, – шёл спешно, почти бежал. – Вот оно, начинается, – сверлило, стучало в висках. – Господи! Спаси и помилуй!»
Марфа лежала в передней хате за печкой, Глаша пеленала новорожденного. Это сразу, с первого взгляда определил Ефим.
– Тихо, тихо, Ефимушка, – остановила его жена. – Сюда нельзя, тут Марфа. Девочка родилась, – радостно сообщила Глаша. – На, покорми, дай грудь, – обратилась уже к сестре, поднесла к ней, положила рядом свёрток с ребёнком.
– Нет, сестричка, нет, – тихим, слабым голосом отозвалась Марфа.
– Не-ет, – и зарыдала за печкой.
Ефим стоял на порожке передней хаты и не мог ничего понять, как и не мог сдвинуться с места.
– Как нет? – оторопела Глаша, в недоумении переводя взгляд с мужа на сестру. – Ты что-нибудь понимаешь, Фимка?
В ответ он только развёл руками, как из-за печки снова раздался слабый, прерывистый голос Марфы.
– Мне нельзя, нельзя кормить её.
– Почему? – снова удивилась Глаша. – Нет молока, что ли?
– Нет, молоко как раз-то есть. Боюсь привыкнуть к ребёночку, потом уже не смогу.
– Что, что ты говоришь? – пораженная, почти кричала младшая сестра. – Что, что не сможешь?
Ефим вот только теперь начал понимать происходящее. Марфа готовилась оставить девочку у них, Гриней, потому и пришла рожать к ним в дом, и не хотела, боялась дать ей грудь. Если даст дитю вот сейчас сиську, то всё, не решится, оставит себе. Потому он ждал, боясь своим присутствием вспугнуть, нарушить то, что вот сейчас должно произойти в его доме; то, чего он боялся и страстно желал, ждал всё это последнее время, чем жил, дышал и остерегался, не верил до последней минуты.
– Глаша, сестричка, – снова заговорила Марфа. – Это ваша девочка, ва-аша-а-а, – неимоверным усилием воли ещё пыталась сдержать себя, не закричать. – Её отец – твой Ефим, сестричка. Прости меня, прости, – и уже рыдала, уткнувшись в подушку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.