Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга двенадцатая. После урагана"
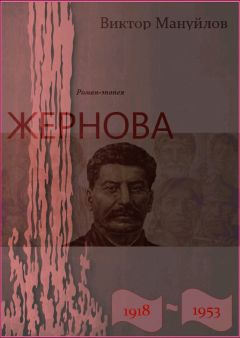
Автор книги: Виктор Мануйлов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Откашлявшись, Петр Степанович закурил папиросу, забыв предложить немцу, и вновь принял озабоченный вид. Слушая длинные монологи Дитерикса, он никак не мог сообразить, надо ли ему поддакивать или, наоборот, возражать? А может, бежать в партком и докладывать, чтобы упредить немца? Или делать вид, что он настолько позабыл немецкий, что не понимает всех тех крамольных высказываний, которые из Дитерикса сыплются, как благие вести из репродуктора?
Наконец Дитерикс утих, перестал метаться по кабинету, устроился возле окна и принялся смолить вонючий самосад, который сам же и выращивает у себя на балконе, чем гордится неимоверно. Мысли его, тоже унылые после того как он выговорился, текли теперь в одном направлении: зря он остался, ничем он тут помочь не сможет: дикая страна, дикий и вывернутый наизнанку социалисмус, лишенный какого-то важного стержня. Может, дело все в том, что так называемая славянская душа приняла из социализма Маркса только то, что ей соответствовало, отвечало ее природе? Так ребенок, попав за обеденный стол, тянется сразу к сладкому, вместо того чтобы начать с супа. А к чему тянутся эти русские, если они вообще к чему-нибудь тянутся, Дитерикс, сколько ни пытался, понять не мог. Правда, сами русские говорят, что для этого надо съесть с ними ни один пуд соли, но в жизни все должно быть разумно и доступно для понимания любого здравомыслящего человека, соответствовать именно человеческой природе, а не чему-то мифическому и не поддающемуся осмыслению.
Нет, Франц Дитерикс готов примириться с какими-то привычками и обычаями, как, например, плевать и сморкаться на пол, даже если рядом стоит плевательница, а в кармане лежит носовой платок. Бог с ними. Главное, чтобы самому не заразиться этими привычками. Но у русских слишком много дурных привычек; иногда создается впечатление, что во всех сферах своей деятельности они руководствуются привычками, а не здравым смыслом. Так, они по привычке берут в руки лопату и лом, когда рядом простаивает бульдозер; они по привычке хлопают всему, что бы им ни говорили с трибуны, и даже не разбирая слов… А еще привычка ко всяким собраниям и совещаниям, к резолюциям и постановлениям, которые никто не читает и, разумеется, никто не выполняет; привычка не выключать свет, бросать что попало и где попало, так что не пройти и не проехать… Очень уж много у русских вредных привычек, к которым трудно привыкнуть западному человеку, но еще труднее эти привычки объяснить, сколько бы соли ты с ними ни съел.
Дитерикс не испытывал к русским той неприязни, которую должен бы испытывать побежденный к победителю. Может, потому, что повоевать ему пришлось совсем немного, с месяц всего, и не против русских, а против американцев, и на Восточный фронт он попал из тех мест, где теперь хозяйничают американцы и англичане. Дитериксу довелось испытать на себе их ковровые бомбежки, в одной из которых погибла его семья, проезжать через те немецкие города, которые были разрушены их, а не русской, авиацией. Он уже тогда знал, что война проиграна, видел ее бессмысленность, но стрелял до самого конца. Затем их батальон был переброшен на Восточный фронт и там, по дороге к передовой, перемолот русскими «катюшами», после чего оглохший и очумелый Франц Дитерикс поднял вверх руки, однако с сознанием до конца исполненного долга.
Только в плену, в России, Дитерикс понял, чем была война на самом деле, разглядел русских в их повседневности и пришел к выводу виновности германской нации перед нацией славян. И решил поставить здешнее допотопное производство на современные технические и технологические рельсы.
Увы, его не сразу поняли, его не хотели оставлять. Ему говорили, что новой Германии, Германии рабочих и крестьян, тоже нужны специалисты. Аргументом, который перевесил все, оказался такой малозначительный по большому счету факт, что на родине его никто не ждет. В этом, видимо, и сказалась таинственная русская душа. Но, вместо технолога, Дитерикса фактически сделали механиком, в обязанности которого входит поддерживать в рабочем состоянии ненавистное ему старье, годное лишь в металлолом. И не видно, чтобы это старье собирались менять на что-то новое в обозримом будущем. А без нового какой же может быть прогресс? Никакого. И вот тут-то никакие аргументы не действовали. Даже попытки воздействовать на русскую душу.
Докурив самокрутку, Дитерикс повернулся к Петру Степановичу, вяло повел рукой.
– Нун, гут[5]5
Нун, гут – ну, хорошо.
[Закрыть], – произнес он. – Ви извинить мих… э-э… мне майн… э-э… Как это по-русски?
– Ничего, ничего! Нихтс![6]6
Нихтс – ничего, неважно.
[Закрыть] – поспешил успокоить его Петр Степанович. – Я все понимать… Э-э, их ферштее зих, абер[7]7
Их ферштее зих, абер… – я понимаю вас, но…
[Закрыть]…
Он поискал немецкие слова, но побоялся, что не сможет правильно выразить свои мысли, а неправильно выраженные мысли могут быть неправильно же истолкованы, так что лучше никаких мыслей, – вздохнул и перешел к технической стороне дела, которое сводилось в основном к ремонту, запасным деталям и профилактике. Немецкая техническая терминология в голове Петра Степановича еще держалась, как ни странно, аж с тех дореволюционных времен, когда он, Петька Всеношный, выпускник Московского технологического института, был направлен в Германию на производственную практику. Шел 1912 год. Какое хорошее и доброе было время. Как бы опираясь на это далекое время, Петр Степанович и Дитерикс быстро договорились.
Глава 23
Выйдя от главного технолога, Франц Дитерикс зашел в столовую. Народу там было мало, все такие же припозднившиеся маленькие начальнички и техники. Он встал в очередь за женщиной лет сорока. Та брала сразу обед и ужин в туеса: видимо, для всего семейства. Получив гуляш с макаронами и стакан компоту с сушеными фруктами, Дитерикс все это съел незаметно для себя, мысленно продолжая бесполезный разговор с главным технологом Всеношным. Отнеся посуду в мойку, он направился в литейку.
Дитерикс шел по заводскому двору и глазел по сторонам. На этом заводе ему знаком каждый закоулочек, потому что, начиная с весны сорок четвертого, он вместе с сотнями других пленных и интернированных своих соотечественников поднимал этот завод из руин, расчищал завалы, возводил стены, монтировал оборудование, на котором часто можно было обнаружить клеймо «Сделано в Германии», – тоже, надо признаться, не самое новое и не самое современное оборудование и машины.
Вот уже более двух лет Дитерикс каждый день, почти не зная выходных и праздников, ходит на этот завод – сначала под конвоем, потом свободно, как специалист, то есть как и любой другой работник этого завода. Он привык к заводу, считает его своим, но никак не может привыкнуть к тому порядку, – вернее, беспорядку, – который здесь существует. Он никак не может смириться с тем, например, что с таким трудом очищенная и благоустроенная заводская территория вновь заполняется всяким хламом, среди которого, что удивительно, можно найти весьма полезные и нужные вещи. Он не может понять, почему в цехах такая грязь и почему рабочие, которым здесь принадлежит все, так наплевательски относятся к своей собственности, и отчего, наконец, скучнеют лица начальников, – того же главного технолога завода Всеношного, – едва он заводит речь о каких-либо усовершенствованиях. Нет, мелочь – это пожалуйста, всякие там рацпредложения вроде: сделать лишнюю дырку в конструкции или, наоборот, не делать – даже поощряются, и по этой части устраиваются соревнования между цехами, но как только речь заходит о чем-то существенном, так начинаются виляния и отговорки, ссылки на объективные трудности, вызванные войной, на первоочередность одних задач, второстепенность других.
Конечно, все так, кто ж спорит, и сам Дитерикс вполне с этими доводами согласен, но должен существовать такой порядок, который понятен всем, надо устроить жизнь так, чтобы все, что окружает человека, радовало глаз, чтобы в скудной жизни у людей были просветы и личное желание что-то изменить. И душа тут совсем ни при чем – русская, немецкая или какая другая, – а все дело в том, существует или отсутствует порядок.
Франц Дитерикс шел в литейку и глазел по сторонам. Ходил он быстро, энергично размахивая руками. Под его стоптанными башмаками скрипел шлак, ржаво звякали какие-то железки. Хотя день уже перевалил за шесть часов пополудни, солнце висело еще высоко и, выныривая из густых дымов, извергаемых многочисленными трубами, немилосердно пекло лысину Франца Дитерикса, чего, впрочем, он не замечал. От территории, усыпанной шлаком и железом, от металлических конструкций поднимались горячие струи воздуха, и дальние сооружения искажались и колебались в этих струях.
Под ногами Дитерикса что-то звякнуло особенно чистым звяком, он остановился, посмотрел себе под ноги и увидел россыпь новеньких болтов, еще лоснящихся от машинного масла.
Дитерикс беспомощно огляделся.
Пыхтя, по рельсам катила «кукушка», толкая перед собой вагонетки; несколько женщин в неуклюжих брезентовых робах ковыряли землю ломами и лопатами около глухой кирпичной стены и складывали ее на ручную тележку; возле раскрытых дверей склада стоял обшарпанный «студебеккер», полученный когда-то от американцев по ленд-лизу и не сданный этим американцам назад по распоряжению Сталина, когда тот узнал, что эти «студебеккеры», отремонтированные и покрашенные, там же, на кораблях, заталкивают под пресс и превращают в металлолом. На такой вот «студебеккер» рабочие грузили ящики, большие и тяжелые, поднимая их на машину по зыбким сходням, мелко переступая напряженными ногами. Дитерикс давно предлагал соорудить возле складов эстакаду в уровень с кузовами машин и закатывать ящики в кузов на тележках, начальство покивало головой, но все осталось по-прежнему.
Дитерикс присел на корточки и стал собирать болты. Он рассовал их по карманам своей черной спецовки и, что-то бормоча, зашагал дальше.
Рабочие у склада проводили его насмешливыми взглядами и устроили перекур. Женщины тоже не оставили без внимания его несколько чудаковатую фигуру, оперлись на ломы и лопаты и принялись обсуждать, каково немцу живется у нас и работается, и долго сочувственно вздыхали и сокрушенно покачивали головами: немец жив, хотя и в плену, а косточки их мужей или близких гниют где-то под чужим небом.
– Женить бы его, – сказала одна из них мечтательно, баба худая и высокая, с приятным, но изможденным лицом, с робой, висящей на ней, как на пугале в огороде.
– И-и, Спиридоновна-а! – ответила другая, лет двадцати пяти, пониже и поплотнее, с татарским разрезом глаз. – Рази он на русской женится! Ни в жисть! Я в Германии побыла, знаю: наших мужиков ихнии бабы еще привечают, а чтобы на наших девках жениться – и не мысли! Разве что завалить на кровать, а то и на пол, и попользоваться.
– Так там, небось, и своих баб хватало, немецких, – вставила третья, постарше других, иссушенная трудом и невзгодами. – Вдов эта война везде наплодила несчетно.
– Нашла кого пожалеть – немок! Тьфу! Они над нами, русскими девками, во как изгалялись! Все-то мы для них швайне да шайзе! Я б их всех в одну яму! – зло кинула вторая, ловко скручивая из газетного лоскута толстую, в палец, цигарку. – Ты там не была, не знаешь.
– Здесь тоже при немце лиха хватили выше головы, – примиряюще прожурчала Спиридоновна. И добавила: – А фрица этого все равно жалко: человек однако-ти.
Дитерикс не слышал бабьих разговоров. Он шел своей прыгающей походкой, придерживая руками отвисшие карманы спецовки. Наткнись он на эти болты полгода назад, пошел бы не в цех, а побежал бы к главному инженеру завода или даже к директору, шумел бы там, размахивал руками, сыпал цитатами из Маркса и Сталина, зная странную любовь русских начальников ко всяким цитатам, и добился бы принятия каких-нибудь мер. Но сегодня – и вообще больше никогда – он этого делать не станет. И не потому, что однажды в темном закоулке литейного цеха на него набросили вонючую тряпку и поколотили, хотя и не очень здорово, а потому что бесполезно.
А в первый раз – о-о! В первый раз здесь было очень много шума. Наткнувшись как-то на рабочих, которые вместе с металлоломом выбрасывали и хорошие, то есть вполне годные детали, Дитерикс, захватив несколько штук, побежал к парторгу ЦК Горилому. Горилый, выслушав его, дал делу ход: на заводе прошли собрания, на каждом из них выступал Дитерикс и говорил хорошие и правильные слова о социализме и бережном отношении к своему народному добру. Тогда он еще совсем плохо знал русский язык, и его речи переводил специально привлеченный для этого молодой однорукий преподаватель немецкого языка из индустриального техникума, одетый в поношенный офицерский китель с нашивками за ранения.
Во время этой шумной кампании Дитерикса называли не иначе как «товарищ Дитерикс», сажали в президиум, его речам много и дружно аплодировали. Дитериксу казалось, что он открывает русским глаза на их действительность, которую они почему-то сами видят в превратном свете, и только поэтому они так благодарно и горячо откликаются на его слова. Но собрания закончились, резолюции вывесили на видных местах и… и ничего не изменилось. Еще несколько раз бегал Дитерикс к Горилому, главному инженеру и даже к директору завода, его внимательно выслушивали, но собраний больше не устраивали, а потом и вообще перестали принимать. И не только принимать, но и замечать.
А вскоре Дитерикса, как уже было сказано, поколотили.
После этого он стал приглядываться к рабочим, пытаясь понять, что же плохого он им сделал, но встречал лишь одни угрюмые да насмешливые взгляды. Конечно, решил он, русским рабочим не за что любить немца, который, к тому же, воевал против них. Да он и не ждал их любви. Но чтобы вот так отнестись к его желанию устроить здесь цивилизованный порядок и совместить его с идеей социализма – этого он не ожидал и объяснить себе не мог.
Глава 24
В литейном цехе работала вторая смена.
Цепной конвейер, по которому двигались опоки[8]8
Опока – ящик, рама, в которой заключена земляная форма для литья.
[Закрыть], был загружен едва наполовину: людей не хватало. Грохотали вибростолы, шипел и свистел сжатый воздух, выстреливали пулеметными очередями пневмозубила, истошный визг наждачного камня на зачистке отливок перекрывал остальные звуки. В чадном и пыльном полумраке копошились темные фигуры людей, более половины – женщины.
Дитерикс прошел вдоль конвейера, не замечая, что темные фигуры при его приближении начинали копошиться быстрее.
Собственно говоря, в цехе в эту пору делать ему практически нечего, но он сам установил для себя такой распорядок дня, что обязательно прихватывал часа два второй смены и, только убедившись, что все идет нормально, отправлялся домой.
Постояв возле вагранок[9]9
Вагранка – малая печь для плавки чугуна – в отличие от большой, доменной.
[Закрыть] и понаблюдав за разливом жидкого чугуна, Дитерикс направился к выходу из цеха, но, заметив открытую дверь ремонтного участка, заглянул в эту дверь.
Там возился один-единственный человек – Михаил Малышев, молодой слесарь-ремонтник, недавно демобилизованный из армии. На всем заводе это был единственный человек после главного технолога, который немного понимал по-немецки, но главное – понимал самого Франца Дитерикса, то есть в том смысле, что работать надо по-другому и что порядок тоже должен быть другим.
Малышеву не исполнилось двадцати пяти, но он уже кое-что повидал в жизни: воевал, был ранен, служил какое-то время в Австрии, потом в Германии. Это был любознательный молодой человек, и Дитерикс быстро к нему привязался. Может быть, еще и потому, что Малышев напоминал ему пропавшего сына: одинакового роста, худощавые, сероглазые. Правда, Ганс был поплотнее, во взгляде его сквозила железная воля и решимость преодолеть все препятствия, которыми – по Гансу – являлись враги фюрера и Германии. Во взгляде же Малышева сквозили лишь доброта и любознательность.
Последний раз Дитерикс видел своего сына Ганса в крнце сорок третьего, когда тот приезжал в краткосрочный отпуск. Ганс был душевной болью Франца Дитерикса: гитлерюгенд, школа унтерофицеров гестапо, куда отбирались наиболее достойные, служба во Франции, Бельгии, потом в Югославии и Греции. Чем он там занимался, можно лишь догадываться. Из Греции Ганс и приезжал в последний раз. Поговаривали потом, что он вместе с другими ушел в Турцию, но так ли это или нет, жив ли, скитается где по свету, Дитерикс не знал.
Решив остаться в России, Дитерикс не сказал всей правды о своем сыне, а проверить, кем служил его сын, русские, как полагал Дитерикс, не могли, поэтому в специальной анкете записал: унтер-офицер пехоты, понимая, что напиши он правду, его бы, пожалуй, не оставили.
Малышев был таким, каким Франц Дитерикс хотел бы видеть своего сына: спокойный, рассудительный, доброжелательный и трудолюбивый. В нем, правда, была сильна славянская разбросанность и желание схватить все сразу, но это, считал Дитерикс, пройдет с возрастом. К тому же и сам Малышев относился к нему, к немцу, не как другие рабочие – с недоверием или равнодушием, а иные и с ненавистью, будто эту войну придумал ни кто иной, как сам Дитерикс, – а весьма дружелюбно.
– О, Микаэл! – воскликнул Дитерикс, входя в мастерскую и широко улыбаясь, словно они сегодня не виделись и вообще встретились после долгой разлуки. – Какие дела?
– Дела, как сажа бела! – откликнулся Малышев, блеснув белозубой улыбкой на чумазом лице. – Зер гут, Франц! Зер гут! – И спросил: – Ком нах хаузе?[10]10
Ком нах хаузе? – Пошли домой?
[Закрыть]
– Я, я! Нах хаузе. Унд ду?[11]11
Унд ду? – И ты?
[Закрыть]
– Нах фюнф минутен[12]12
Нах фюнф минутен – через пять минут.
[Закрыть], – ответил Малышев, и Дитерикс улыбнулся еще шире от удовольствия слышать пусть не слишком правильную, но все-таки родную речь, не напрягаясь в разгадывании сказанного и в поисках чужих слов. Но из той же благодарности он считал себя обязанным отвечать молодому другу исключительно по-русски.
– О, пьять минутен есть нуль минутен. Я подождать и вместе ходить домой. Хорошо?
– Зер гут, Франц. Их бин гляйх.[13]13
Их бин гляйх – я быстро.
[Закрыть]
Через полчаса, приняв душ и переодевшись, Малышев и Дитерикс вышли за проходную, пересекли железнодорожные и тянущиеся параллельно с ними трамвайные пути, отделяющие череду заводов от жилых поселков, и зашагали вверх по улице, полого поднимающейся на изрезанный оврагами увал. Слева лежали развалины домов, кирпичных и в основном двухэтажных, построенных незадолго до войны, справа за вполне приличной чугунной оградой, пощаженной войной, тянулся парк, состоящий из одних акаций с черной от копоти листвой. В парке же, невидимый за деревьями, располагался стадион, и оттуда доносился то взлетающий, то опадающий гул болельщиков: местная футбольная команда играла с приезжей.
На выходе из парка стоял пивной ларек, возле которого толпилось с десяток мужчин, в основном пожилых.
– Ого! – воскликнул Малышев. – Есть пиво и нет очереди! Немен зи бир, Франц? – спросил он и, заметив движение руки немца к боковому карману пиджака, предупредил, бренча в ладони серебром: – Их бевиртен дих.[14]14
Немен зи бир, Франц?… Их бевиртен дих. – Возьмем пива, Франц?… Я угощаю.
[Закрыть]
Дитерикс согласно закивал головой: для него принять угощение пивом являлось знаком внимания и взаимного расположения.
Они подошли к ларьку, Малышев взял две кружки, одну протянул Дитериксу. С кружками они отошли чуть в сторону.
Малышев и Дитерикс пили пиво и смотрели вниз, на черные громадины заводов, вытянутых вдоль железной дороги.
Казалось, что и влево, и вправо тянутся они бесконечной чередой, пропадая за горизонтом. Чадили десятки труб, дым смешивался с паром и висел почти неподвижно над почернелыми корпусами, над причудливыми башнями коксовых батарей, над железным кружевом, оплетающем доменные печи. Багровое пламя вырывалось то здесь, то там; черные, бурые, сизые, фиолетовые и прочей расцветки дымы вспухали из этого пламени, извергались из высоких и низких труб, закручивались в спирали, чернели и вспыхивали буйным разноцветьем, пронизываемые ярким солнцем, – и там, в этом аду, работали сейчас люди, оттуда они только что вернулись сами.
По железной дороге катился длинный состав товарных вагонов, катился куда-то на север. На открытых платформах лежали связки труб, проката, арматуры, железного листа, стояли ящики, контейнеры, что-то было тщательно укутано брезентом, виднелись часовые с винтовками; громыхали между открытыми платформами и тяжелые пульманы, и желтые цистерны с какой-то химией. Дым от спаренных паровозов тянулся над составом, сваливаясь к заводским корпусам. Навстречу товарняку с воем катил на юг скорый московский поезд, блестя вымытыми зелеными вагонами – поскорее, поскорее из этого ада к теплому морю, к чистому воздуху.
Но Дитерикс и Малышев смотрели на эту картину без ужаса. Они смотрели на нее почти с восторгом, пораженные творением человеческих рук, собственным творением.
– О! – воскликнул Дитерикс, не находя слов. – Рур такая есть ландшафт! Очень есть такая ландшафт! – Покачал головой, в который раз молча удивляясь тому, как русские умудрились выстоять в войне, потеряв такое количество заводов? Поразительно и ничем не объяснимо!
– А что, Фриц, – спросил стоящий рядом замухрышистый мужичонка с плутоватыми маленькими глазками, – пиво-то, небось, у вас получше нашего?
– О пиво! Немецки пиво есть самый полючче пиво аллес вельт![15]15
Аллес вельт – весь мир.
[Закрыть] – восторженно произнес Дитерикс. – Немецки пиво…
– Немецки пиво, немецки пиво! – раздраженно перебил его другой рабочий с заросшим щетиной лицом. – Пьешь русское, а хвалишь немецкое. Пивали мы и немецкое. Такое же дерьмо! У нас до войны тоже было пиво – пальчики оближешь.
– Я не есть хвалить, я есть отвечать, – уточнил Дитерикс. – Война есть дьерьмо, альзо[16]16
Альзо – следовательно.
[Закрыть]… пиво есть дьерьмо, альзо… Все есть дьерьмо? Нет! Мир есть хорошо, альзо… пиво тоже есть хорошо. Диалектик!
Рабочие (здесь пиво пили одни рабочие, начальство сюда не забредало) подвинулись поближе к Дитериксу. Его знали, знали его историю (о Дитериксе писали в местной газете), но мало кто понимал, особенно из тех, кто побывал в Германии, зачем немцу понадобилось оставаться в России, когда многих немцев отпустили домой?
– Послушай, Фриц, а почему ты не едешь в свой фатерлянд? Там у тебя, в Восточной Германии, тоже, сказывают, социализм собираются строить. Опять же – семья… Женишься на немке, еще детей нарожаешь. Или у нас женись на русской. Или на хохлушке… Одному-то жить – хренова-ато.
– О, семья! Майне фамилие! Американер бомбить – семья погибать. Дом – нет, семья – нет, ехать – тоже нет. Война есть гроздьерьмо, есть большое дьерьмо! Шайзе!
– Так мы и говорим: женись на русской. Или на хохлушке. У нас тут хохлушки – первый сорт. И борщ сварят, и согреют. Мужику нельзя без бабы.
– О, я понимать, – широко улыбался Дитерикс и тревожно поглядывал на Малышева.
– Ну, хватит! – вступился за Дитерикса Малышев. – Чего привязались к человеку? Дайте хоть пива спокойно попить.
– А чего это ты, Мишка, тут раскомандовался? Купил ты, что ли, этого фрица? Нам, между прочим, любопытно, – одернул Малышева громадный рабочий-вагранщик с лицом, обожженным пламенем печи, с красными слезящимися глазами. – Не одному тебе с ним умные разговоры разговаривать. Мне, например, интересно, какой они у себя социализм надумали строить: как у нас или свой, немецкий?
– Нашел о чем спрашивать. Социализм – он и есть социализм, что наш, что немецкий, что китайский. Это дураку ясно. А только если мы им не поможем, то ни хрена они не построят, – убежденно заключил худой рабочий, сипло дыша гнилыми легкими.
– Немцы-то? Немцы постро-о-оят: народ аккуратный, работящий. У них там орднунг – во! – вступился еще один, с лицом, обезображенным глубоким шрамом. – Я там у них воевал – знаю!
– Не ты один там воевал. И неча фрица на энтом деле подлавливать: человек, однако.
– Да я и не подлавливаю! С чего ты взял?
Дитерикс слушал разгоревшийся спор и переводил взгляд с одного спорщика на другого. Он уже понял, что разговор возник не из неприязни к нему, немцу, а из простого человеческого любопытства, и в нем теперь боролось желание вступить в полемику о социализме с необходимостью соблюдать совет не касаться политических тем в разговорах с рабочими. Совет этот ему дали в парткоме завода, но таким тоном, что он больше походил на приказ, хотя и непонятно, почему он должен избегать политических разговоров, и не только с рабочими, но и вообще, если политические разговоры и есть самое интересное после разговоров о технике и технологиях.
При фюрере в Германии тоже запрещалось вести политические разговоры, если они расходились с официальной точкой зрения. Объяснялось это необходимостью сохранять монолитность германской нации перед лицом враждебного окружения. А чего боятся русские партайгеноссе? Этого ему объяснять не стали, посоветовав: поживете у нас и сами все поймете. Дитерикс в России уже больше двух лет, но понять никак не может…
И вспомнилось ему, о чем писали немецкие газеты в двадцатые годы, о чем ожесточенно спорили социал-демократы и коммунисты, пока фашисты не заткнули рот и тем и другим: тот ли социализм, что предсказывали Маркс и Энгельс, строят в России? По газетам и слухам, по рассказам тех, кто ездил в Россию работать по контракту, получалось, что совсем не тот, что русские подменили настоящий социализм суррогатом из славянской мистики, догматически понятого марксизма и азиатской дикости.
– Социалисмус, социалисмус, – проворчал Дитерикс, допивая пиво. – Я плохо понимать руссише социалисмус… Дас ист цигуэнеришесоциалисмус.[17]17
Цигуэнеришесоциалисмус – цыганский социализм.
[Закрыть]
– Чего, чего он сказал? – загалдело сразу несколько человек, обращаясь к Малышеву. – Чегой-то он вроде недовольный какой…
– А черт его знает! – отмахнулся Малышев, забирая у Дитерикса пустую кружку. Он поставил кружки в окошечко ларька и решительно произнес: – Нун, гут! Ком нах хаузе, Франц! Пока, мужики.
– Хороши вечер, – попрощался и Дитерикс, пожав всем руки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































