Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга двенадцатая. После урагана"
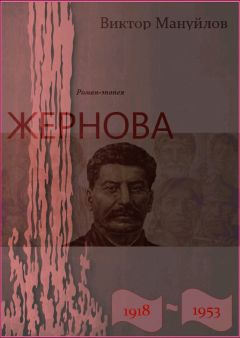
Автор книги: Виктор Мануйлов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Глава 5
Однажды прямо на завод, в рабочий кабинет Мануйлова вошла высокая женщина в длинной, ниже колен, серой юбке и в серой же жакетке, и вручила запечатанный пакет из плотной синей бумаги, без всяких надписей на нем, потребовала расписаться в получении и ушла.
Василий Гаврилович вскрыл пакет, достал четвертушку бумаги, и это оказалась повестка из прокуратуры. На сегодня, на девятнадцать ноль-ноль.
В нем все так и опало внутри, точно потеряло всякую опору, и образовалась такая пустота, что даже до тошноты.
– Вот и все, вот оно… это самое… – прошептал Василий Гаврилович помертвелыми губами, не в силах ни понять, что произошло, ни противиться тому, что его ожидает. Он закурил папиросу и уставился в окно, из которого виднелся широкий двор, заставленный поддонами с готовыми силикатными кирпичами и шлакоцементными блоками. Жизнь, казалось ему, подошла к логическому завершению: он всю жизнь хотел подняться как можно выше, а получалось, что все время падал, и вот оно – дно.
Часы на стене показывали час дня, надо бы пойти в столовую пообедать, но не было ни сил, ни желания. Так он и сидел сиднем еще с час. В кабинет заходили мастера и рабочие его цеха, что-то спрашивали или докладывали, он отвечал и принимал доклады, отдавал какие-то распоряжения, подписывал бумаги, понимая, что все это пустое, ему уже ненужное и даже вредное, потому что мешает сосредоточиться и найти какой-то выход. Но выхода видно не было. Вот он придет в прокуратуру, его арестуют и упрячут в кутузку, и даже Мария не узнает, куда подевался ее муж. Может, пойти домой? Рассказать все, как есть, собрать бельишко и что там еще, а уж потом идти в прокуратуру? Или…
На миг в голову пришла шальная мысль: встать, пойти, не медля ни минуты, сесть на первый же поезд и уехать куда-нибудь подальше, где его не найдут. А уж потом, когда все утихнет, вызвать семью. Но вспомнил, как в Третьяковке он вместе с другими мужиками под руководством старшего лейтенанта из НКВД ходил в тайгу ловить дезертиров, которые тоже думали, что хорошо спрятались и просидят там до конца войны, дождутся амнистии, разойдутся по домам. А их выследили, схватили и, как потом стало известно, расстреляли.
И мысль о том, чтобы бежать, тут же растворилась в воздухе, как дым от папиросы, и теперь не только в животе, но и в голове стало пусто… до звона.
В прокуратуре, судя по темным окнам, уже никого не было. Знакомый милиционер, дежуривший у входа, посмотрел на повестку, пожал плечами, сказал:
– Вообще-то, рабочий день закончился, но если сам Степан Савельевич…
– А он еще здесь?
– Здесь еще. Проходи.
Степана Савельевича Смородинова, которого в городе заглаза звали эсэсовцем, Василий Гаврилович знал. Да и кто же не знал в городе главного прокурора! Однако водку с ним не пил, но знаком был: на одном из праздничных вечеров познакомили в городском Доме культуры. Потом были еще такие же встречи, здоровались – и не более того. И слава, как говорится, богу. Между прочим, Смородинов тоже получал у Василия Гавриловича стройматериалы на строительство дачи. Не сам, конечно, – зачем ему самому-то? – а через подрядчика. Однако бумаги были оформлены, как надо, так что Василию Гавриловичу оставалось поставить на них свою закорючку, а дальше уж не его дело.
И вот предстоит. Не зря на Руси говорят: от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Вот только одна странность: почему вызвал на после работы? Почему, можно сказать, такая секретность? И от этой неясности забрезжила в мозгу какая-то надежда, посветлело даже, хотя обдумать хорошенько пришедшую на ум странность не было времени.
Василий Гаврилович нашел кабинет с табличкой, постучал, но ему никто не ответил, тогда он осторожно приоткрыл дверь, просунул в щель голову, увидел стол, пишущую машинку на нем, телефон и догадался, что это так называемый «предбанник», где положено сидеть секретарше. Но секретарши нет. Скорее всего, ушла домой.
Он вошел, испытывая все большую робость, и тут сбоку открылась дверь, обитая дерматином, из нее вышел сам Степан Савельевич, худощавый человек лет пятидесяти с хвостиком, небольшого росточка, с глубоко посаженными глазами неопределенного цвета, с редкими рыжеватыми волосами. И если бы не мундир со звездами в петлицах, не орденская колодка, то и внимания на него не обратишь, встретив где-нибудь на улице.
Увидев Василия Гавриловича, Смородинов свел лохматые брови к переносице.
– А-а, пришли, – произнес он будто бы даже с удивлением. – Ну что ж, заходите.
Повернулся и пошел назад, в кабинет.
Василий Гаврилович вошел вслед за прокурором в довольно просторное помещение с длинным столом для заседаний, и другим столом, впритык к этому, над которым красовался большой портрет товарища Сталина в белом кителе, с маршальской звездой на шее, золотыми погонами и Золотой звездой Героя соцтруда над карманом кителя.
Василий Гаврилович несмело остановился, едва переступив порог.
– Проходите, проходите, – поманил его рукой Степан Савельевич. – Садитесь, – и показал рукой на стул возле большого стола.
А сам не сел, прошелся по кабинету, закурил и, разогнав рукой дым, заговорил:
– Ко мне поступили материалы, что у вас в цехе производится продукция, которая нигде не учитывается и, как утверждается в этих материалах, сбывается налево, то есть незаконным путем в целях наживы.
Произнеся эти слова ледяным тоном и не глядя на Василия Гавриловича, Смородинов сделал долгую паузу, а затем спросил, точно выстрелил:
– Это так?
– Так, – ответил Василий Гаврилович и опустил голову.
– Значит, вы знали и сознательно…
– Знал.
– Понятно… Что же мне с вами делать?
– Мне все равно, – произнес Василий Гаврилович и сам поверил тому, что сказал. Во всяком случае, он в эти минуты не испытывал того удушающего и опустошающего душу страха, который не отпускал его все последние дни – с той самой минуты, как Галина сообщила ему о доносе. Более того, он почувствовал облегчение, а почувствовав его, поднял голову, глянул на прокурора и заключил с ожесточением: – Мне все это дело вот где сидит. – И стукнул себя ребром по шее. – Какой никакой, а все конец.
Прокурор пожевал тонкими губами, сел напротив, сложил на столе сухонькие руки, заговорил доверительно:
– У вас хорошая характеристика. Мне известно, что именно вы наладили в широких масштабах производство силикатного кирпича и шлакобетонных блоков, что сами вы практически ничего с этого левого производства не имеете. Тем более странно: зачем же вы сунули голову в эту петлю?
Василий Гаврилович хотел сказать, что не смог отказать свояку, который пристал с ножом к горлу, потом всякие начальники стали донимать, потом пьянки, бабы, что он покатился по наклонной плоскости, стараясь не думать, куда катится. Но он ничего не сказал, а лишь покривился лицом и уткнул пасмурный взгляд в свои руки.
– Мм-да, – произнес прокурор раздумчиво. – В общем и целом мне вполне понятна картина, сложившаяся у вас на заводе и в вашем цехе. Но за вас просили… И я подумал: у вас же чахотка…
– Была, – перебил Василий Гаврилович. – От нее почти ничего не осталось. Рубцы только…
– Рубцы – это… И все-таки я вам советую написать заявление на имя директора завода с просьбой об увольнении по причине здоровья… Вам же советовали, насколько мне известно, поменять климат на более здоровый?
– Советовали.
– Ну вот и последуйте этому совету. Крым или, скажем, Кавказ… Я думаю, что месяца на все дела вам вполне хватит. В противном случае мне придется дать материалам ход. А там не только вы, там есть и вполне оформившиеся жулики, которые, как мне представляется, пользовались вашей слабостью и, я бы сказал, попустительством. Подумайте: это для вас наилучший выход из сложившегося положения.
Василий Гаврилович встал.
– Спасибо. Я подумаю.
– Только не долго.
– Я могу идти?
– Да, конечно. Желаю успехов.
Выйдя из прокуратуры, Василий Гаврилович остановился от внезапно пришедшей ему в голову мысли: прокурор спасает не его, Василия Мануйлова, а заместителя директора завода по снабжению Розенблюма, подпись которого стоит на многих требованиях о выдаче стройматериалов. В том числе и из так называемого фонда экономии. А может быть, спасает и самого директора завода генерала Охлопкова, и всю заводскую и даже городскую верхушку. А когда он, Василий Мануйлов, уедет из Константиновки, дело прикроют и все пойдет по-старому.
Может, не уезжать? Может, взять и посадить всех вместе с собой? Черт с ними со всеми. Ему-то не привыкать лес валить, а пускай другие попробуют, почем фунт лиха. Но он тут же отбросил эти мысли, поняв, что ничего он не докажет, никого не посадит и, если не уедет, всех собак повесят ему на шею и закатают его к черту на кулички. Разве что приплюсуют к нему Дущенко. Ведь и в Ленинграде было то же самое: взяли начальника сапожной мастерской и вроде бы расстреляли, а остальных… кого на фронт, кого куда, а его, Мануйлова, в эвакуацию. Но никого из тех, кто стоял выше, кому они шили сапоги и туфли, не тронули. Об этом он узнал после войны, съездив в Ленинград в командировку, узнал от Сережки Еремеева, потерявшего на фронте глаз и одну руку. Следовательно, и здесь будет то же самое: мелочь всякую посадят, а шишек не тронут.
Но так жалко было бросать налаженное с таким трудом производство, где каждая гайка знакома до мельчайших подробностей, где каждый рабочий им же и обучен, где столько сил положено на выработку технологии, и много еще чего сделано своими руками, своими мозгами и ночными бдениями. И теперь все это бросить и ехать куда-то, чтобы все начинать сначала? И это тогда, когда в стране неурожай, голод, разруха, когда… А детям надо учиться, нужна крыша над головой. Да и Мария… как он ей все это преподнесет?
Глава 6
Перрон блестел от дождя в свете редких фонарей. Время перевалило за полночь. Желающих уехать в такую поздноту и по такой непогоде было мало. Людмилка спала на тюке с вещами, укрытая маминым плащом. Меня тоже тянуло в сон. Сквозь полудрему чудился перрон ленинградского вокзала, такой же мокрый от дождя, крики женщин и детей, посадочная суета, жалостливое лицо папы. Я снова, после долгого перерыва, видел, как он бежит вслед за уплывающим вагоном, увозящим нас на неведомый Урал. Казалось, что это происходило не далее, как вчера – так хорошо я все видел и слышал сквозь монотонный шум дождя по железной крыше навеса, под которым мы дожидались поезда.
Но тогда мы уезжали от немцев, которые хотели захватить Ленинград и убить всех русских, а сейчас никто не собирался захватывать Константиновку, а папа вдруг решил, что нам надо из нее уезжать в какой-то Новороссийск. Зачем? Разве нам жилось так плохо? И все это так неожиданно, в самом конце учебного года. Пока мы доедем, пока то да се – учебный год кончится, и меня не переведут в четвертый класс.
Поезд на Новороссийск опаздывал. Папа то пропадал куда-то, то возвращался, хмурый и сердитый. Мама растерянно смотрела по сторонам, точно ждала кого-то, кто обещал придти, но не пришел. Правда, поначалу были дядя Петро Дущенко и тетя Мария, папина сестра, но они ушли, когда стало ясно, что поезд придет еще не скоро. И вот мы ждем под навесом, потому что вещей много, а поезд стоит всего три минуты. И неизвестно, где остановится наш вагон.
Вчера я простился с Игорем Яруниным, с другими мальчишками и девчонками. Мне было так жалко уезжать от них, что я даже заплакал от жалости. Игорю я подарил пугач вместе со своим секретом, он мне марки из серии «Ордена Великой отечественной войны».
Последний, с кем я простился, был Франц Карлович Дитерикс, наш сосед, который научил меня играть в шахматы. Правда, учение длилось не долго, но я все-таки чему-то научился, и мы часто играли с ним в его квартире допоздна. Я проигрывал все партии, несмотря на то, что он прощал мне зевки, объяснял, как надо было сыграть, чтобы выиграть. Он шумно радовался, когда я делал удачный ход, и говорил, что мой копф, то есть голова, варит «хороши каша», и угощал меня чаем с конфетами.
На прощанье мы сыграли с ним последнюю партию, при этом я умудрился свести ее к ничьей, но это, надо думать, оттого, что Франц Карлович решил сделать мне приятное перед отъездом. Я подарил ему настоящий немецкий кинжал, правда, без ножен, а он мне перочинный ножик и фонарик-жужжалку.
Теперь не будет ни шахмат, ни нашего дома, ни Меловой балки, ни степи с немецким танком, ни развалин, ни друзей, – ничего ровным счетом! А будет неизвестно что и неизвестно где.
Наконец подошел поезд. Оказалось, что наш вагон совсем в другой стороне, мы бегали и таскали к нему вещи, кто-то помогал, все это сваливали в тамбуре, проводница ругалась, папа «заткнул ей рот» коробкой сухого молока, потом мы долго перетаскивались на свои места, задевая чьи-то ноги и руки. А поезд уже катил дальше и страшно гудел в черную дождливую ночь: У-ууу! – чтобы все разбегались по сторонам и не попались под его колеса.
Новороссийск встретил нас дождем. Казалось, что во всем мире не осталось ни одного сухого места. А совсем рядом бились о стены сердитые серые волны, бились в затонувшие в бухте корабли, на разные голоса выла Бора в развалинах домов, в уродливых нагромождениях цементного завода, в искореженных вагонах и паровозах, сплошь покрытых рваными ранами.
В Новороссийске мы прожили совсем недолго: папе с мамой не понравился этот разрушенный до основания город, эти мрачные холмы, нависающие над ним, гора, исполосованная дорогами, которую грузовики растаскивали на цемент, и стремительно летящие над головой тучи. Здесь негде было жить и даже квартиру найти оказалось не так-то легко. Еду мама варила на костре во дворе приютившей нас хибары, дрова надо было собирать на окрестных холмах, поросших дубняком, где на каждом шагу можно подорваться на мине. А когда поднимаешься на вершину какого-нибудь холма, то видишь море и большую открытую бухту, по которой ползают маленькие кораблики. Время от времени позади этих корабликов вздымается огромный столб воды, и над холмами раскатывается тяжкий вздох взрыва морской мины. Иногда ухало и среди холмов: это матросы-саперы подрывали немецкие мины.
Город поражал малолюдством и почти полным отсутствием детей, так что подружиться и поиграть было не с кем. Третий класс я все-таки успел закончить и получить справку об окончании. Наступили летние каникулы. Я целые дни проводил в небольшой ложбинке, промытой дождями, с маслянистой сероватой глиной среди нагромождения камней. Из этой глины я пытался лепить всякие фигурки, но они, когда высыхали, почему-то трескались и рассыпались. Это очень меня огорчало, потому что я думал, что смогу эти фигурки продавать и зарабатывать деньги.
– Это не глина, – сказал папа, застав меня как-то за моими бесплодными занятиями. – Это мергель. Из него делают цемент. Пойдем лучше за дровами.
И мы, взяв топоры, шли за дровами.
Из Новороссийска мы поехали в Майкоп. Кубанская земля поманила нас хлебом, которого там будто бы не меряно. В Майкоп приехали ночью же, и здесь землю поливал дождь, но уже осенний. Мы с Людмилкой едва ли с месяц походили в новороссийскую школу: я в четвертый класс, она во второй, теперь надо было все начинать сначала на новом месте.
Жить мы устроились на квартире у глухонемой старухи по улице Ленина. В школу приходилось ходить через кладбище. Днем еще так-сяк, а ночью – сплошной ужас. Из темноты пялятся покосившиеся оградки и кресты, некоторые участки обнесены колючей проволокой, а за этой проволокой прямо на земле валяются человеческие черепа.
Моя мужская школа стояла далековато – на самом берегу реки Белой, женская, Людмилкина, – поближе. В Майкопе оказалось жить еще хуже, чем в Новороссийске: и голодно, и холодно, и опять для папы с мамой никакой работы. Карточки получали только мы с Людмилкой, назывались они детскими, на них положено было в день по четыреста граммов хлеба и что-то там еще. На эти граммы и жили, да на то, что заработает папа на рынке или еще где. Вносил свою долю и я: пользуясь своим маленьким ростом и худобой, поворовывал у хозяйки картошку, пролезая в сарай под дверью. В дальнем углу сарая располагался погреб, я ощупью находил крышку, с трудом поднимал ее, спускался по шаткой лестнице вниз и там, в закисшей и заплесневелой темноте, нашаривал картофельную кучу, брал из разных мест несколько холодных картофелин, чтобы не так было заметно, иногда пару морковок и буряков, сунешь все это за пазуху и лезешь наверх, прислушиваясь, не идет ли хозяйка. Притащишь, дашь маме – мама в слезы. Но варила и кормила нас, и папу тоже. А папа поначалу шил сапоги в какой-то мастерской, потом переключился на фуфайки, но все это было не то, и наша жизнь совсем не походила на сытую и устроенную жизнь в Константиновке.
Среди зимы папа куда-то уехал – в какую-то Абхазию. Иногда он приезжал, привозил золотистую кукурузу, оранжевые мандарины и чудные такие помидоры, называемые фурмой, такие сладкие и жирные, что я не мог их есть. Зато Людмилку оторвать от них можно было лишь силой: мама боялась, что она объестся и помрет.
Кукурузу я молол на ручной мельнице, мама из нее варила кукурузную кашу и пекла кукурузные же лепешки. Конечно, когда есть очень хочется, то съешь и кукурузную кашу, приправленную постным маслом или маргарином, с кукурузными же лепешками, но лучше все-таки гречневую, рисовую или даже пшенную. В Константиновке всегда у нас бывали такие каши. И американское сгущенное молоко – пей, сколько хочешь, и мед, и всякие консервы, а квартира у нас была такая красивая, что ни у кого такой не было во всем доме, потому что я сам расписывал ее голубками, срисованными с цветной наклейки на банках со сгущенкой. И много еще всяких вкусностей было в Константиновке и фруктов. Например, дыни и абрикосы, яблоки белый налив, вишни… Как вспомнишь все это, так в животе начинает урчать, и не только кукурузу, но и еще что готов съесть, лишь бы не урчало. Даже на Урале – и то было лучше.
К тому же здесь, в Майкопе, у меня не было ни цветных карандашей, ни красок, ни бумаги. Их и в Константиновке-то было не так много, а здесь вообще ничего. Карандаши часто снились мне по ночам – и это был один и тот же сон, повторяющийся, как заезженная пластинка. Снилось, будто иду я по улице рано-рано, когда еще все спят, а они, карандаши, валяются в траве, всякие-превсякие: и совсем огрызки, заточенные с двух сторон, и почти новые, и даже таких цветов, каких я еще не видывал. Я наклоняюсь и собираю их, а их много, уж и в руку не помещаются, и в карманы штанов, а я все собираю и собираю, оглядываясь по сторонам: вдруг увидит кто, вдруг отнимет у меня мои карандаши! И даже тогда, когда я просыпаюсь, я все еще не могу поверить, что видел их во сне, свешиваюсь с кровати и шарю по темному полу руками, но на полу ничего нет, кроме мелкого мусора.
Этих взрослых совершенно невозможно понять. Особенно нашего папу: ну кто ж уезжает от хорошего к плохому? Только ненормальные. Мама так и говорит, что папа у нас ненормальный, что все люди, как люди, а он – неизвестно кто.
И вот что странно: в Майкопе я снова стал учиться хорошо. Даже, можно сказать, отлично. Меня постоянно хвалили. А еще мне поручили выпускать стенную классную газету – после того, как узнали, что я умею рисовать. Для этого мне приходилось оставаться после уроков. Я рисовал большой заголовок, украшая его всякими завитушками, потом писал заголовки для каждой заметки. Мне помогала учительница и двое мальчишек: Колька, староста класса, и Руслан, председатель классного пионерского отряда. Передовицу писала учительница, что-то писали пионерские активисты. Заметок вечно не хватало, и мне приходилось придумывать что-то, чтобы заполнить ватманский лист целиком. Частично это были рисунки из жизни класса. Подписи под своими рисунками я сочинял сам. Иногда рифмованные. Учительница приносила нам по стакану чуть сладкого чаю с небольшими кусочками черного хлеба – вместо обеда.
Домой я возвращался поздно вечером, голодный и усталый. Я шел мимо низеньких хаток, с маленькими окнами, в окнах горел свет, я останавливался и смотрел поверх занавески, как там, в этой хатке, сидят за столом тети и дяди, мальчишки и девчонки. И стоит на столе самовар, от которого идет такой аппетитный пар. И они – едят. Они едят суп из тарелок, едят с хлебом или лепешками, пьют чай из чашек и блюдцев, откусывая от маленьких кусочков сахара еще меньшие кусочки, и жмурясь от удовольствия. Я с трудом отрывался от этого зрелища и спешил домой. Дома мама кормила меня все той же кукурузной кашей и укладывала спать.
На следующий день после выпуска газеты меня не спрашивали и мои тетрадки не проверяли. Газета выходила раз в месяц, остальное время я ничем не отличался от других.
Зима была холодная и длинная. Даже бурная речка Белая – и та замерзла наполовину, а вода текла только посредине, быстрая и прозрачная, как стекло. На Новый год в школе был устроен праздник, на котором я пел под баян: «Вьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола как слеза, и поет мне в землянке гармонь, про улыбку твою и глаза». Голос у меня был громкий, а пел я, видимо, так жалостливо, что все тети плакали. Потом всем дали подарки, а мне не дали, потому что мама не внесла на него деньги. Теперь уж плакал я, но в темном углу школьного коридора, чтобы никто не видел и не слышал. Затем потихоньку оделся и ушел домой.
Ночью я боялся ходить через кладбище. А в этот раз и сам не заметил, как очутился возле кладбищенской ограды. А заметив, остановился, оглядываясь по сторонам. Вокруг лежал снег, из него торчали покосившиеся кресты, изуродованные оградки, над ними склонялись деревья, усыпанные инеем. Черной глыбой торчала из снега полуразрушенная часовня, там, внутри ее, среди битого кирпича валялось множество не известно чьих костей и черепов. Темные тени лежали на голубом снегу, а сам снег искрился в свете яркой луны, укутанной в зеленоватый воротник, и оттого часовня казалась еще чернее и ужаснее. А передо мной вилась протоптанная в снегу узкая тропинка и терялась среди могил и деревьев. Было тихо и жутко. Возвращаться назад было далеко. Да и замерз я в своей фуфайке, сшитой мне папой. И тогда, трижды перекрестившись и отчаянно вдохнув побольше воздуху, кинулся я по этой тропинке, с ужасом ожидая, что вот-вот что-то случится страшное.
Но ничего не случилось.
Я остановился и оглянулся: теперь луна светила мне в лицо и все так же равнодушно мерцали звезды. «Трус! – сказал я сам себе. – Никаких бесов не бывает, а только в сказках. И про котлеты из детей, о которых рассказывала мама, будто бы их продают на рынке, сплошная брехня и бабские выдумки! И бога никакого нет, и креститься вовсе не нужно». И, сжав покрепче зубы, я медленно двинулся назад, вглядываясь в затененные места, где, казалось, кто-то прячется и даже шевелится. Кладбище кончилось – и опять ничего. Я развернулся и пошел назад, еще медленнее, точно мне некуда было спешить, точно я был сыт после сытного обеда с американскими сосисками. Миновав кладбище, я оглянулся и рассмеялся с облегчением, затем уже вполне уверенно зашагал домой мимо низеньких саманных домишек, в окнах которых горел свет, за занавесками мелькали тени, слышались то патефон, то гармошка, заглушаемые визгливыми голосами подвыпивших баб, на столах стояли всякие блюда, кое-где были даже елки с фонариками и игрушками, за столами сидели люди и ели. Я смотрел на все это и думал, как же все-таки неправильно устроен мир.
Дома меня ждала настоящая яичница и отвар из сушеных диких груш. Я съел яичницу, выпил компот и, сытый и даже счастливый, улегся спать.
А потом сразу же наступила весна. Снег быстро растаял, зазеленели поля, мы, мальчишки, как и в Константиновке, уходили после уроков за город, играли в войну. Здесь тоже были окопы, имелся даже глубокий противотанковый ров. На склоне этого рва мы как-то нашли противотанковую мину, вымытую из земли дождями. Митька Кавун хорошо разбирался в этих минах.
– Это наша мина, советская. Видишь тут русские буковки? Во-от. Если ее положить да хорошенько треснуть большим камнем, она так рванет, что от тебя и шматочков не останется, – говорил Митька со знанием дела. – А лучше всего привязать к ней гранату, у гранаты есть кольцо, к кольцу веревку, спрятаться в окоп и дернуть. Вот грохоту-то будет.
– А ты пробовал? – спросил я.
– Я – не-а. Другие пробовали. Подпольщики. Вот. Они тут железную дорогу взрывали.
И Митька где-то раздобыл гранату. Попробовать взорвать мину мы решили на следующий день после уроков. Но наша учительница меня в тот день не отпустила: надо было писать газету. Вместе со мной остались, как всегда, еще двое. И это в то время, когда остальные пошли взрывать мину, когда на улице так тепло, так радостно светит солнце и на полянах желтеют первые цветы.
Руслан и Колька быстро настрочили свои заметки, а я только-только написал заголовок. Они уж совсем собрались уходить, когда в той стороне, где находился противотанковый ров и куда ушли наши пацаны, рвануло с такой силой, что зазвенели окна и даже кое-где посыпались стекла.
Мы все замерли, прислушиваясь, потом Колька и Руслан кинулись вон из класса – только их и видели.
Через два дня половина города выла, идя за двумя десятками красных гробов. Оказалось, что в том месте, где наши пацаны взорвали мину, в земле лежали еще мины и снаряды – очень много мин и снарядов, они взорвались, и от наших пацанов осталось лишь мокрое место.
Остаток нашего класса влили в другой класс, но мне недолго пришлось в нем доучиваться в этом году.
Через несколько дней после похорон приехал папа, но не на поезде, а на грузовой машине, а с ним дядя по имени дядя Вано, и другой дядя, по имени дядя Тенгиз. Дядя Вано, большой во все стороны и небритый, купил на рынке большую же лошадь с длинным белым хвостом и такой же белой гривой, потому что в его Абхазии лошади не водятся. Во всяком случае, такие большие. Он запряг лошадь в телегу и уехал, а мы погрузились на машину и поехали вслед за дядей Вано в эту самую Абхазию, где растет овощ по прозванию фурма.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































