Текст книги "Он говорит"
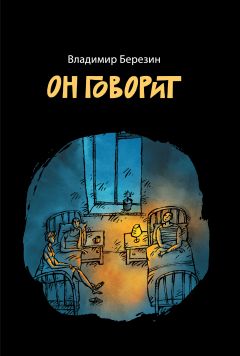
Автор книги: Владимир Березин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Честные люди, чо. Не извращенцы какие, хоть вокруг тьма египетская. Но вышел я на звук этого католика, а тут ночь и осветилась. И вдруг побежал по тёмному лесу упитанный молодой человек, крича “Братва-аа! Христос воскрес!” да и началась прочая в человецех радость. А радость у нас в народе выражается известно как. В церкви стоять скучно, а отметить надобно. Поздравили мы приятеля, стукнулись яйцами в лоб, да и поехал я домой. А на Пасху автобусы тоже особенно ходят, долго. Люди вокруг радостные. Сзади сидела троица. Девочка взасос целовалась с одним мальчиком, а другой сидел, смотря в сторону. Но вот пришло время пересадки, зацелованный вышел, и девочка принялась целоваться с другим – также самозабвенно. И я понял, что пасхальное настроение накрыло город, как плащ прокуратора. А вокруг из храмов – тонкий звон, у царских врат ребёнок плачет, месяц светит, жизнь наша наново начинается.
Сердце моё и католика заунывного принимает, и приятеля я своего простил, что тогда мне по почкам бил. Это ж наша общая молодость была, счастливое время.
А Новолетие я не люблю. Мало в нём любви, не то, что на Пасху».
Он говорит: «…А, знаешь, я помню, как умер великий учёный. Когда умирает великий человек, а человек этот был без сомнения великим, сразу начинается масса воспоминаний, выплывают мистические совпадения. Это происходит оттого, что очень много людей увлечено профессиональным и личным притяжением, множество разных путей изменяется в этом поле.
Много лет назад, когда я только начинался как теоретик, далёкий от прикладных задач, у меня был знакомый – учёный крупного калибра. Такой, понимаешь, учёный старого образца. Типа Тихомирова, я застал ещё Тихомирова, да. А Тихомиров был велик – он рассказывал о своих учителях на мехмате, и, в частности, о Дмитрии Евгеньевиче Меньшове, который говорил о рождении Московской математической школы так: “В 1914 году я поступил в Московский университет. В 1915 году мы занимались функциональными рядами, а в 1916 году – ортогональными рядами. А потом наступил тысяча девятьсот семнадцатый год. Это был очень памятный год в нашей жизни, в тот год произошло важнейшее событие, повлиявшее на всю нашу дальнейшую жизнь: мы стали заниматься тригонометрическими рядами…”
Так вот, это был человек немолодой, и многих его сверстников я чаще видел не на семинарах, а в виде увеличенной паспортной фотографии в вестибюле факультета. Однажды, после очередной внезапно-ожидаемой смерти, мы сидели в лаборатории.
И, слушая этого старика, я почувствовал его раздражение. Это было раздражение чужой смертью.
Потом, я увидел у хозяйственников старого образца, да-да, я застал ещё хозяйственников старого образца, что ходили ещё во френчах табачного цвета. И у них я наблюдал другое раздражение – их возмущали подчинённые, дезертировавшие с трудового фронта в могилу.
Здесь было другое.
Это было раздражение неправильностью мироздания. Старик сидел напротив меня и спокойно пил чай из чёрной внутри чашки – его не пугала смерть оппонента, он не примерял её на себя (он был слишком стар), но и не сокрушался – как сокрушаются близкие люди, знающие оборотную, личную сторону жизни умершего.
На похоронах этот старик стоял в задних рядах, и вот сейчас вернулся с холода. Теперь он, как и всегда, пил чай мелкими глотками, но было видно, что эта смерть его ужасно раздражает. Из мира выпала существенная деталь, и ни вернуть, ни заменить её невозможно. И вот пришло к нему раздражение, которое сильнее пафосных переживаний. Теперь я понимаю, что он чувствовал. Именно раздражение.
Ничего больше».
Он говорит: «…Я смерти не очень боюсь, просто дело это неприятное. Вот похороны у нас – тоже дело неприятное. В моём возрасте часто бываешь на похоронах – сначала ты ходишь туда редко, тебя зовут туда в качестве сильного мужчины, который может вместе с другими такими же таскать скорбный деревянный ящик. Потом всё чаще – оттого, что умирают сверстники, потом, наверное, ты перестаёшь ходить, потому что вовсе ходить не можешь. Ну, я уже и не хожу.
Помню я немного похорон – кроме родственников, разумеется. Как-то один мой знакомец выпал из окна. Говорили, что по глупой случайности. Видел я там молодую вдову, что пробыла женой две недели. Знакомец мой был разным. Лучше всех про него сказал мой друг – был он лысый и смешной человек. За таких выходят по любви – видно потому, что он был толстый, весёлый и быстрый человек. Не самый богатый. Лучше всех про него сказал мой товарищ по ноше – он был, сказал этот человек, смешной и лысый. Видел я там его сослуживцев из прежней жизни. Офицеров в штатском – эту породу я узнаю сразу – по тайным масонским знакам этого общества. Они, угрюмо обнимаясь, гулко били друг друга по кожаным курткам. Гроб был странный, казалось, глазурованный, пальцы мои скользили по гладкой поверхности.
Но то, что было внутри, не имело к весёлому человеку отношения. Стоял у нас славный солнечный денёк.
Потом погиб у меня другой друг. Стали мы его хоронить, и жизнь моя пошла криво. Оттого, собственно, что друг мой был градообразующим предприятием – есть такой термин в экономике. Градообразующие предприятия, например, нельзя закрывать – целый город залихорадит, пойдут слоняться по улицам побирушки, завизжат младенцы, лишённые молока. Друг мой был главным узлом в сетке, которая включала в себя какое-то безумное количество людей. Из людей, вспомнивших его тогда, можно было составить город – наверняка можно.
Десяток дел был им начат, и ни одно не закончено. Чем-то это напоминало старый кинофильм, в котором музыкант так же исчезает из жизни – и непонятно: то ли он упустил свою мелодию, то ли на его суетливой беготне держался мир. Я любил этот фильм за то, что в нём непонятно, что осталось от музыканта – гвоздик, вбитый в мастерской приятеля, чтобы было куда вешать кепку, или вся его жизнь.
На похоронах, где я таскал тяжёлое, бывшие жёны стали на минуту настоящими. Было много других зарёванных женщин, что изображали с моим другом животное с двумя спинами – и этих тоже уравняло что-то чёрное и газовое. Плакал даже мой знакомец – Volksdeutsche, человек всегда сдержанный. Он рыдал – и лицо его было точь-в-точь похоже на греческую маску с дырками для рта и глаз. Я даже удивился, насколько правдива эта общеизвестная и повсеместная маска.
Ты слушай, слушай, может, это потом тебе пригодится. Потому что новая жизнь после похорон в сжатой компании стала похожа на переноску бревна, когда вдруг падает один – на плечи остальных приходится больший вес. После этого, пройдя немного, бревно либо бросают, либо, с некоторой тоской принимают на плечи усилившуюся тяжесть.
Оттого я всегда много думал о смерти, которая наверняка и есть самое интимное событие жизни.
Или вот был у меня знакомец. Нас за внешнюю похожесть считали родственниками. Даже братьями. А ведь как мало было у нас общего. Мы виделись по чужим поводам, а иногда он таскал ко мне в гости длинные, как обойные рулоны, свои сочинения. В текстах сновали гоблины и орки. Я относился к ним скептически, всё это литературой не считая. Они до сих пор могли бы лежать на антресолях в давно проданных квартирах, если бы не расцвет ремонтного дела. А я уже был гордым филологом со степенью, занимался Тыняновым и Шкловским, ОПОЯз катил свои буквы-круги в моих рукописях, и оттого одинаковые слова у нас значили – разное. Но вот он напечатал с десяток книг и стал известным в своём кругу. Была у него прочная гномья слава.
А ещё через десять лет я увидел его в Казани, где ему вручали какую-то премию. Я туда приехал на конференцию и случайно столкнулся с ним, окружённым его персонажами, на улице. Мимо нас тогда сновали всё те же хоббиты и гномы, про которых он писал. Они, овеществлённые, бренчали жестяными мечами, а болезнь уже журчала в нём.
Ещё в мае мой одноклассник ездил к нему в больницу. Ничего не предвещало скорого конца, хотя он уже тонул в реке свой бледной крови. В Москве, кстати, есть улица его имени – имя, впрочем, принадлежит одному старшему лейтенанту, что мёртвым посадил свой бомбардировщик на своём аэродроме.
Я тебе всё это рассказываю, потому что рассказать больше некому – я умру, и кто о них расскажет».
Он начинает говорить, оторвавшись от выпуска новостей, а ведь он смотрит все новости по маленькому автомобильному телевизору, что стоит у него на животе: «Вы ничего не знаете об этом, ничего. О крестьянской войне ничего не знаете, для вас крестьянская война – это “Свадьба в Малиновке” или какой-нибудь Гайдар. Крестьянская война жестока, потому что крестьянин привязан к земле, он боится сдвинуться в сторону.
Раньше дрались за горшки в подполе, теперь за банки в подвале.
А городской житель же легко перемещается из одного мегаполиса в другой.
У него нет подпола, а только холодильник на съёмной квартире.
Ну и романтика.
Я защищался по европейскому рабочему движению – и кандидатскую, и докторскую.
С трудом, меня ругали за фронду, но это была не фронда, а романтика, не эта, с дурацкими комиссарами в пыльных шлемах, а настоящая.
В тридцатые годы, они для меня навсегда тридцатые, потому что до тридцатых годов нынешнего века я не доживу, по Европе прокатилась волна восстаний, я писал про некоторые из них, и вот сейчас вспомнил историю про человека, что стрелял с чердака, но вот по лестнице уже грохочут сапоги, винтовка выброшена в соседний двор, и стрелок судорожно пытается смыть собственной мочой пятна ружейной смазки и порохового нагара. Это такое смутное воспоминание, и мне казалось, что это про Вену 1934 года, с хеймвером и пальбой на улицах. И, кажется, это Хемингуэй…
Нет, вот сейчас нашёл – это была у него такая маленькая заметка «В защиту Кинтанильи», напечатанная в февральского номера «Эсквайр» за 1935 год. Луис Кинтанилья был художником и сидел в тот момент в мадридской тюрьме за участие в астурийском восстании.
Ты знаешь такого художника?
Я – не знаю.
Мы с тобой его знаем только потому что я сейчас нашёл эту ссылку, и там написано, что американец выступил в его защиту.
Так вот, Хемингуэй писал: “Пусть не говорят о революции те, кто пишет это слово, но сам никогда не стрелял и не был под пулями; кто никогда не хранил запрещённого оружия и не начинял бомб; не отбирал оружия и не видел, как бомбы взрываются; кто никогда не голодал ради всеобщей стачки и не водил трамвай по заведомо минированным путям; кто никогда не пытался укрыться на улице, пряча голову за водосточную трубу, кто никогда не видел, как пуля попадает женщине в голову, или в грудь, или в спину; кто никогда не видел старика, у которого выстрелом снесло половину головы; кто не вздрагивал от окрика фуки вверх’; кто никогда не стрелял в лошадь и не видел, как копыта пробивают голову человека; кто никогда верхом не попадал под град пуль или камней, кто никогда не испытал удара дубинкой по голове и сам не швырял кирпичей; кто никогда не видел, как штрейкбрехеру перешибают руки ломом; или как вкачивают в агитатора кишкой сжатый воздух; кто никогда – это уже серьезней, то есть карается строже, – не перевозил оружия ночью в большом городе; кто не бывал свидетелем этого, но знал, в чем дело, и молчал из страха, что позднее поплатится за это жизнью; кто никогда (пожалуй, хватит, ведь продолжать можно до бесконечности) не стоял на крыше, пытаясь отмыть собственной мочой черное пятно между большим и указательным пальцем – след автомата, когда сам он закинут в колодец, а по лестнице поднимаются солдаты; по рукам вас будут судить, других доказательств, кроме рук, им не надо; впрочем, если руки чисты, вас все равно не отпустят, если знают точно, с какой крыши вы стреляли; кто сам, может быть, поднимался вместе с солдатами”.
Это городское восстание, горожане всегда романтичны. Они романтичны и говорливы.
Я занимался немцами – теми, что дрались властями в Гамбурге, и теми, что стреляли в полицейских в Мюнхене. В Мюнхене была совсем другая история, конечно.
А? Кто спорит, другая, но не совсем.
Ну, я не об этом. В Вене дрались коминтерновцы, а в Астурии был Второй интернационал, ПОУМ и троцкисты. Там очень сильны были шахтёры, у которых не было оружия, а были только украденные в шахтах динамитные шашки, в которые они вставляли короткие обрезки бикфордова шнура. Через две недели их перебил Франко – ещё верный правительству. Ложная связка у меня была из-за немецкого «штрейкбрехер» – уж не знаю, насколько оно стало интернациональным, и пользовались ли им в промышленной Астурии. Восстание в Вене – неделя в феврале 1934, в Астурии – две недели в октябре. Количество погибших примерно одинаково, и там, и там арестовано примерно столько же. В общем, Хемингуэй описал мои тридцатые – но с городской романтикой. Это была романтика дилетантов – одно дело бегать с винтовкой, а другое – водить танк. Даже снайперу нужно годами учиться…
А я там был – в Вене. С трудом прорвался, тогда это было сложно – комиссии, ходатайства. Райком, партком… Хотя у меня биография была что надо – в армии был снайпером, в партию ещё там вступил, но всё равно душу вынули.
Я занимался рабочим движением, именно поэтому я любил петь «Заводы вставайте, шеренги смыкайте…», проверьте прицел, заряжайте ружьё, на бой пролетарий за дело своё. Не сломит нас белый фашистский террор, охватит все страны восстанья костёр…
Мы это пели на кладбище Вены, у могилы погибших в 1934 году, и всё это было. Я пел вместе со стариками – уцелевшими. Пели тихо, стариков было человек десять. Может, меньше. У меня было чувство исторической вины – восстание было подавлено.
А оно было наше, агентурная акция в чистом виде, поверьте.
За спиной у меня тогда были могилы воевавших в Испании, и понятно было, что все воины проиграны. Мы держали правые кулаки сжатыми, но несколько стариков уже не могли поднять руки в “рот-фронте”.
Мы пели и в этом не было вранья, поверьте мне.
Но это не наследуется, молодой человек.
Это кануло навсегда.
Спекулянты будут реанимировать романтику тридцатых, а добьются только того, что по улицам будут ходить кадавры в юнг-штурмовках.
А с крестьянскими войнами всё иначе – там таких песен нет, там вырезают чужих – не из ненависти к ним, а из чувства самосохранения. Крестьянам не нужно романтики, им нужно, чтобы их оставили в покое.
Если это настоящие крестьяне, конечно.
Может, таких уже и не осталось.
Мне хочется надеяться, что когда я сдохну, то вернусь не в свое детство, а в те тридцатые, которые я знал, как тропинки на отцовской даче в Красково. Не на крестьянскую войну, где дерутся за урожай в погребе и приплод в хлеву и на печке, а в подъезд, который описал американец, не говоривший по-немецки. Я был хороший снайпер, и сейчас ничего – недавно проверил.
Куда-нибудь всё провалится, все обязательные цитаты из вождей, комиссия в райкоме, комиссия в горкоме, предзащита, защита, докторская, дипломники, вопли внуков и ссоры детей.
Ты один, и шаги всё ближе и ближе».
Он говорит: «Я вот лежу, слушаю радио, и мне рассказывают про мужчин и женщин, что сошлись и разошлись. Меня вот как-то навещали, и рассказывали, что над улицей у нас висел огромный плакат: «Я вернулся! Мойша Киселевич». Ну, имя и фамилию я не помню, но национальность верная. Откуда он вернулся, этот Киселевич, было непонятно. Как непонятно было – зачем он уезжал? Загадка.
А как-то я сам видел длинную простыню, что привлекала внимание к приезду какого-то, наверное, турецкого певца. Его зовут, кажется, Тупак Европак.
Много странных людей в моём городе, да чужие они мне все.
Не хочу про чужих, мне чужие не интересны.
Вот один поэт… Короче, есть такая фраза, что свобода – это когда забываешь имя и отчество… Нет, не своё, хотя, если вдуматься, это высшая свобода. Нет, свобода – это когда забываешь имя отчество тирана. Ну, или там, правителя. Эту знаменитую фразу я бы перефразировал так: свобода – это когда не знаешь подробностей личной жизни актёров и певиц. Когда не знаешь имён их жён и мужей. Так что я давно обнаружил, что тяжело мне слышать семейные новости знаменитостей, узнавать, есть ли у них собака, что они посадили рядом с загородным домом и сколько в нем комнат. Мне это как-то даже оскорбительно. Не хочу я этого знать.
Но другой пример приведу: одноклассник мой поселился в Лондоне. Может себе позволить, небедный человек. Нет-нет, криминального не больше чем у других – без всякого особого шика, домик величиной с нашу дачку, даже, может, меньше.
Подстригает свои кусты в садике.
В саду у него есть лиса. Ночью лиса подходит к самому дому и смотрит сквозь ночь жёлтыми немигающими глазами. У него есть собака ещё – вот интересно, как собака ладит с лисой. Он мне фотографию прислал – сидит собака на крыльце, смотрит в сад. А на неё издалека лиса смотрит.
Да что там, лисы не видно. Только горят у куста два жёлтых глаза.
Вот это – интересно. Я прям сроднился с этой лисой, тоже смотрю сейчас в потолок, почти не мигая.
А чужих свадеб мне не нужно».
Он говорит: «Я раньше любил День космонавтики. Был жив мой начальник Черток – вот и любил. Интересный праздник, хороший – потому что искренний, причём и тогда он был искренний, и сейчас это что-то вроде Нового года. Черток был у меня не настоящим начальником, он был где-то в вышине, а я – простым инженером.
Потом я его продал и предал, как трусливый солдат – мёртвого царя.
И праздник предал, чего уж там мяться.
За это космос мне и мстит – бедностью и болезнями.
Но, обо всём по порядку. Правда при этом смотреть телевизор совершенно невозможно, потому что медиа устроены так, что в случае большого события надо сказать что-то оригинальное.
Теперь во время этого праздника в телевизоре начинается космическая гонка оригинальностей.
Новые тайны – это вновь открытые новые тайны космоса, ракет, космонавтов, Сталина и Берии, Королёва и Гагарина, новые тайны того как Гагарин сел, а потом встал.
Новые тайны и новые очевидцы.
А ничего оригинального говорить не надо – и про МиГ-15 про Киржачом, и про прыжки с балкона, и про пистолет в бардачке космического корабля.
Но я-то этих людей понимаю – поставь надо мной какого телевизионного начальника, испытаю то же ленивый бунт на коленях. Не захочешь, а сделаешь.
Пока Черток был жив и вполне бодр, то он казался оправданием всему этому безобразию.
Кремень образца 1912 года.
Творец ракет, чо.
На него глянут, и стыдно становилось.
А вот умер Черток, и у меня в телевизоре интервью взяли. На экране я себя не узнал, вроде ж я совсем не то говорил. А тут Киржач, тайны Берии, от нас скрывали… Напился б, если врачи мне тогда уже не запретили. Потом снова позвали в передачу – за деньги. Маленькие, правда, да кто ж выбирает.
Ну я уже про космос и пришельцев. Ну, не я первый – один дважды герой всё время о них рассказывает. Так это дважды герой, а у меня и орден-то всего один – Знак Почёта, что называли «Весёлые ребята», потому что там рабочий с колхозницей изображены.
Потом я статью написал, аумную. Аумность – это слово такое, что мой товарищ придумал.
Лет тридцать назад.
Он к нам в лабораторию притащил журнал “Аум”. Журнал повествовал о вещах странных, больше сверхъестественных и был посвящён восточному Знанию. Ну, мы издевались, конечно, я первый. Там ведь что было – подмена взгляда на мир, что у всякого технаря должна быть. А меняли его на религию, парапсихологи и йоги, уфологи и ловцы барабашек. Тогда мы глумились, над ними, а потом, вишь как обернулось. Пророщенный рис, йопта. Ешь пророщенный рис, и тебе откроются тайны Космоса. Прорасти рис в менгире.
Ну и я стал растить этот проклятый рис.
Я такой импозантный, с орденской колодкой – растил его в телевизоре.
Говорю про Космос и менгиры. Что такое менгиры?
Без меня узнаете.
Может, какой верующий пню молился, золотой ветвью махался, и притом силён физически. И сознание у него развито, и духом он чист, и телом крепок – но всё не то.
А помрёт он, положат его в менгир, и тут-то главные чудеса и начнутся.
Ну и обычно завершаю тем, что Арлингтонское кладбище самое большое сосредоточие менгиров на свете. Причём рядом там стоит дольмен с овальным медитативным помещением.
Оттого тамошний народ и рулит всем миром, суёт пальцы во все дырки. А нам, ещё живым наблюдателям с раскосыми и жадными очами, остались водка и пулемёт – чтоб с ног валили.
И все, значит, радуются.
Я отъелся, наконец.
Смерти не боюсь, мне-то уж недолго осталось. Я другого боюсь – как сдохну, так первый, кого увижу, будет академик Черток.
Посмотрит на меня Борис Евсеевич, да ничего не скажет.
Отвернётся.
И вот от этого я и плачу иногда ночью.
Ну а потом про Космос пишу и про менгиры.
Но плачу, правда».
Он говорит: «А я вот Бэрримором работаю. Да-да, не смейтесь. Это всё из-за внешности, потому что у меня борода красивая, и голос такой.
Где? Где-где, известно где, это в одном месте у нас.
Всякий знает. Это трасса А-105.
Рублёво-Успенская взлётно-посадочная полоса.
Раньше география была другой, и не только потому, что одна шестая часть суши была закрашена на картах розовым. Тогда ещё страна была монолитом – кроме, разумеется, столицы. Там жили с матерью два брата, в огромном городе, лучше которого и нет на свете. Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды. И, конечно, этот город назывался Москва.
Потом Чук и Гек съели всю колбасу в СССР и их за это порядком отметелили в сортирах и гальюнах Советской Армии и Военно-Морского Флота, а затем, через много лет, эти братья-москвичи украли все деньги. Страна перестала быть одной шестой, доли рассыпались, нерушимым остался только берег Северного Ледовитого океана. И, наконец, у нас сменилась география самой столицы. Да вы слушайте, всё равно спешить нам некуда.
Так вот, если раньше можно было услышать просто: “Я живу в Центре”, с лёгким нажимом на заглавную и этого хватало. Теперь всё разделилось. Окраины разделились на обычные и страшные. Есть те, про которые нужно говорить твёрдо и чётко, глядя в глаза собеседника, как коммунист на допросе:
– Я живу на Люблинских фильтрационных полях…
Или вот хороша Капотня.
– К нам ночью менты даже на машине боятся заезжать, – говорил один тамошний житель, выпучив глаза. В моём-то детстве географию престижа первым воспел Булат Окуджава. По странному совпадению Арбат тут же оказался утыкан престижными тогда «цековскими» многоэтажками – высокими домами из жёлтого кирпича – улучшенная планировка, и космическая невидаль – консьержка в подъезде. Сейчас, друзья мои, эти дома может считать целью в жизни только скромный работник нефтяной отрасли, приехавший с Севера. Кутузовский проспект был, безусловно, престижен – там Брежнев жил. Другим географическим символом успеха стало начало Тверской – залитое бензиновой гарью, с герметически, будто отсеки на подводной лодке, закупоренными квартирами, такими же гигантскими, как наши подводные лодки. Ничего добротнее и удобнее, чем дома сталинского ампира при Советской власти так и не было придумано. Но всё таки в сочетании “Она с Тверской” было что-то скользкое, неприятное – как в коротких юбках из кожзама.
Наконец, возникла новая крайняя точка пространства – совсем не Центр, с какой буквы его не пиши. Тогда крайняя точка в Москве была – Рублёвское шоссе, хоть это место формально и не Москва вовсе. Так вот, у меня хозяйка была – с Рублёвки. Там я и служил.
Понятно, что сейчас крайняя точка Москвы где-то в Ницце или там в Майями, а тогда это место, по мне так довольно унылое, было мечтой каждой девушки. Это у неё мечта такая была – светлый шоссейный путь, как в фильме, где Любовь Орлова какую-то прядильщицу играла.
Был такой давний путь русской девушки-мышки с острыми зубками, что пыталась прогрызть себе путь в лучшую жизнь. Она рождалась в каком-то промышленном захолустье, потом перемещалась в областной центр. Второй марш-бросок совершался в Москву. И следующий – в Париж или Лос-Анджелес. Ну или Ниццу с Майами, про которые я уже рассказал.
Иногда на этом пути девушка попадала в мышеловки разного типа. Теряла товарный вид, уставала от жизни или случалось что похуже. Иногда она оказывалась в неправильное время в неправильном месте. Тогда у новых Золушек появлялись лишние, совершенно не эротические, дырки в теле или они отжимались на горящих сухожилиях во взорванных “Мерседесах”. Это были неизбежные издержки пути. Долетевшие до цели бомбардировщики садились на извилистое Рублёвское шоссе девяностых. Это не отменяло синего брачного свидетельства – американского паспорта, Лос-Анджелеса и прочего.
Это конец московского пути для Золушки того времени.
А я там и пригодился – впрочем, не сразу сообразил, как это случилось. Меня выперли из МИДа, и первый месяц я был счастлив, потому что отпустил бороду – бриться я с юности не любил, у меня раздражение от этого. Ну, занялся переводами, но работа эта каторжная и я как-то затосковал.
Приятель мой строил там дома – мы-то привыкли ещё к дачам, где сортир у забора, а помыться в город ездят. А тут красота. Я застал ещё то время, когда старые дачи сносили.
Теперь новые сносят.
Итак, меня сперва сосватали торговать новыми дачами – ну это звучит красиво, а на деле – как в автосалоне ходить в хорошем костюме.
И тут баба одна меня присмотрела и купила вместе с домом.
Я и не сопротивлялся – борода, костюм. Жена меня тогда полгода как из дома выгнала, а тут кормёжка и комнатка. Два года я там прослужил, да только с мужчиной, который за всё платил, случилась неприятность.
Поутру постучали мне в дверь, да полезли в щель как тараканы ребята в чёрном с заметными надписями на спинах.
Хозяйка моя тогда на пляжах была, так что в доме только повар и две филиппинки в пристройке, что уборкой ведали. Врать не буду, меня не обижали, лицом в ковролин не совали. Спросили только, где ценности. Про то, отвечаю, мне неизвестно, но по комнатам провёл, чтобы они ничего не ломали.
Хозяйки я, кстати, с тех пор не видел, только явился от неё уполномоченный. Денег нам всем, конечно, недодали, повар исчез, как капелька воды на сковородке, а филиппинки сами собой рассосались. Водитель выехал куда-то, да и пропал вместе с машиной.
Дом продали, но опять вместе со мной – подруга купила. Ну и начал я наново хозяйство вести – а гости всё те же.
Это вам так может показаться, что дворецкому платят за какое-то унижение.
Всё это глупости – работа эта сложная, будто управляющего в гостинице. Нужно и про ремонт думать, и конфликты с прислугой разруливать, и смотреть, чтобы садовник хорошо себя вёл. Тут главное – в себе фанаберии не вырастить. Ну, это когда своих хозяев воспринимаешь, как досадное обременение к своему дому. Вот даже я сейчас говорю «своему» дому – потому, конечно, он не мой, но я его ещё котлованом помню. Я знаю, где там плывун в углу, где вторую баню строить хотели. Все твои трещинки, как говорится. Я знаю, когда ремонтников вызывать и какие из них на совесть сделают, а от которых трещинки только множатся.
Но я видел своих коллег, которые начинают ненавидеть хозяев. Ну, убийца – дворецкий, известное дело. Я встречал таких, что даже своё классовое чутьё выказывали – родившиеся без СССР, родившиеся в СССР, рефлектирующие сорокалетние – это всё разные ощущения и разные реакции. Ну, ненавидеть есть за что, видал я их, разных. Если ты дистанцию держать умеешь, то всё нормально – а вот если сблизишься, то беда. Некоторых хозяин заставлял за хозяйкой шпионить, а потом их из хозяйской постели и вынимали. Или вот оба изменяют друг другу, но при этом делали вид, что озабочены чужой верностью. Уставят дом видеокамерами и ну потом просматривать в разных комнатах, кто кашу съел и постель помял. Кто лучше – хозяин или хозяйка? Не знаю. Девушки, что замужем за Рублёво-Успенским шоссе, просто пошли кучно в девяностые. Они оттого заметны, что высший свет в Европе формировался медленно, а у нас то, что его заменяет случилось быстро, как первый блин на Масленицу.
Я видал разных – вот были среди гостей туповатые воры. Ну, обычные чиновники на откатах, у них внутри сидел страх. Им до стиля не было дела. Были иностранцы, которые к местным относились как каким-то латиноамериканским папуасам. Ну, да я в отделе протокола служил, у меня к этим басурманам ключик был.
Но ещё были люди средних лет, что помнили Советскую власть, пионерские дружины и комсомольские собрания. Но это было не так важно – они помнили джинсы «Верея» (Мой покойный друг даже написал про них песню), у них на губах не обсох молочный коктейль за десять копеек. Вот для этих людей стиль был особой темой, они всё время расчёсывали его, как ссадину. Они относились к стилю с иронией. Они иронизировали над золотой пылью, поднятой их девушками, но именно для этих вполне разумных людей эта жизнь с прислугой стала не только удобством.
Она стал индикатором правильности выбора. Эти люди средних лет до сих пор не уверены, правильно ли они поступили когда-то.
Ну а демонстрация предмета – стоящего на колёсах или одетого на тело, крепит дух.
И демонстрация гостям меня – тоже.
Я для них был чем-то вроде экзотической пальмы в зимнем саду. Свидетельствую о том, что хозяин ещё жив, успешен и не надо ругаться заграничным словом “лузер”. Впрочем, гламур бывших младших научных сотрудников, эта ярмарка тщеславия – особая тема. Но я не судья, все идут по жизни розно.
У меня работы много, как у директора школы – чтобы все не передрались и парты на месте были. И это мне ещё повезло, все хозяева мои бездетные были или со взрослыми детьми. Но одни меня звали дурацким словом “батлер”, другие – “дворецким”.
А последний хозяин зовёт меня “Бэрримор” – и я откликаюсь.
Это честное имя.
Вот говорят, многие прислушиваются к смеху в соседней комнате – там он громче.
– Э, нет, – говорю я себе, когда утром расчёсываю бороду. – Делай, что должен, будь что будет. Нет у меня зависти, хотя честно вот вам скажу – я хозяев своих не любил никогда. Я просто умею решать их проблемы.
А смех громче в твоей собственной комнате».
Он говорит: «Мы тут в палате все вместе лежим, слышно как пердим, да кашляем, ужас ведь какой, а вот мне от того не так страшно – подохнешь, так хоть услышат твой всхлип смертный. А, Бог даст, услышав тебя как-нибудь, и спасут.
Но человек-то ищет уединения.
Смерть-то дело одинокое.
Мне однажды рассказали историю о русском миллионере, что ловил голых девок, которые купались рядом с его дачей и, отобрав одежду, фотографировал. Это происходило в Эстонии, где купаться можно прямо где хочешь, и оттого начался большой скандал.
Так я вам вот что скажу: это напомнило мне другую историю про писателя Солженицына. Правда, рассказали её журналисты – а они народ подлый, веры им нету никакой.









































