Читать книгу "Он говорит"
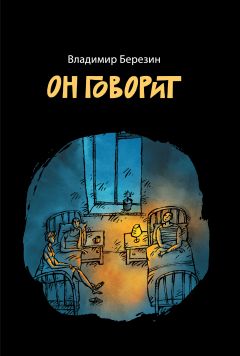
Автор книги: Владимир Березин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Я говорю о профаническом знании общества целиком. Процесс получения знаний трудоёмок, он требует усилий, работы – иногда в охотку, а иногда и нет. А демократия в рамках своей справедливости следует Уставу морской службы. В этом Уставе, в частности, говорится: “Скорость каравана определяется скоростью самого тихоходного судна в нём”.
Я человек по природе не демократический. Как бы я отделом руководил, спрашивается? Мне не надо, чтобы дошло до всех слушающих. Мне не интересны все слушающие. Я не продавец бисера. Мне интересен диалог, когда оба тратят силы, пыхтят, морщат лоб и корчат рожи. Мне иначе не интересно, тем более, круг моих знаний весьма ограничен, и я со скорбью это понимаю. А современное демократическое, постиндустриальное, западное, восточное, северное (нужное вы подчёркивайте, подчёркивайте) общество устроено так, что члены его равны – вне зависимости от умственных способностей и желания учиться. Современный обыватель считает, что ему должны объяснить, а никто никому ничего не должен. К тому же, современная культура создаёт у всякого потребителя иллюзию того, что он и есть Главный Герой – безо всяких усилий с его стороны.
Начинается игра в плацебо. Плацебо, знаете что такое? А, да все у нас тут теперь знают, что такое плацебо. Массовая игра в доктора и пациента, аналог которой описан ещё одним психологом – доктор делает вид, что он лечит, а пациент делает вид, что он лечится. И все довольны, все хотят продлить это состояние как можно долго. Потому как врач получает деньги, пациент облегчает совесть.
Так же и с учением. Вот учитель, который учит, понимая, что «не в коня корм», вот ученик, что делает вид, что учится. То есть, ученик думает, что он стал лучше, не затрачивая усилий.
Короче говоря, я против создания такой иллюзии.
Я говорю об этом угрюмо, потому что говорю об этом для себя. Никто не обязан меня слушать, я не вкрадчивый голос проповедника или глас поднимающего на борьбу оратора.
Я одинокий монах-пустынник. Давно отделом другие люди заправляют.
Моё отношение с миром не несёт прозелитической функции.
Идеалы Просвещения для меня сомнительны. Я не стал бы отстреливать энциклопедистов и народников, но раздача адаптированного Толстого профанам – не моя задача.
А теперь ругайте меня, пока я пойду сейчас по коридору в больничный сортир.
Я слушать этого не хочу, слушать этого не буду, а вам как-то легче будет».
Он говорит: «Пока наш доктор гадить ушёл, я вам вот что скажу. Скажу о познаваемости мира. Вернее, наоборот, о его непознаваемости. За эту непознаваемость ответственны несколько десятков учений. Это я знаю точно – из билетов по философии.
Но я-то просто математик.
Не учёный, а так, прикладной. Почти инженер.
Но и не инженер.
Раньше щит создавал, щит Родины. Оттого я человек весёлый, потому как если без юмора к жизни относиться, то тебя этим щитом обязательно придавит.
В мире ничего не познаваемо, всё на доверии.
Это я вам как математик говорю, хотя иные подумают, что мне так говорить не положено.
Везде всё на доверии, особенно если человек простой и радио слушает.
Удивительно другое – как человек реагирует на новость. Вон, говорят, где-то в Средней России два бегемота сбежали, воровали улов у рыбаков, разгромили два ларька и отняли у тётки сумочку.
А я – что? Я – верю. Потому как в Средней России тяжело бегемоту жить. В зоопарке – тюрьма зверей, на воле – не кормят.
Потом, правда, сказали, что никаких бегемотов не было. И этому я верю тоже. Какие, помилуйте, у нас бегемоты? Да и бегемотов вовсе нет никаких, а в московском зоопарке бегемота изображают два дворника, говно от слона приносят, морковку с капустой налево пускают.
Я ничему не удивляюсь, как идеальная скорая помощь, которая всё равно на вызов поедет. В эту скорую помощь позвонят – рога, скажут, выросли. И скорая помощь берёт ножовку, садится в свою раздолбанную таратайку и едет, ножовкой размахивая, на вызов. Если есть рога, можно отпилить. Нет рогов – тоже радость, чего ж хорошего – с рогами по городу таскаться. Я так думаю.
Или вот нищие. Я им однозначно верю – что дом сгорел, документы украли, и они на инвалидной коляске, отстреливаясь, прошли афганские горы и чеченские ущелья.
Я, правда, им денег не даю.
И всё оттого, что мир непознаваем. Нечего туда соваться – и если расспросишь эту молдавскую беженку с дохлым тельцем на руках, уличишь её в незнании географии, дат и событий, что – радостно будет? Не радостно совсем. Потеряешь веру в людей, начнёшь пить и потеряешь самообладание.
Но чаще всего люди сомневаются в исторических вещах – ну, там убили шесть миллионов евреев во время последней большой войны, или меньше. Очень многие люди приходят с радостными лицами и говорят, что меньше. Я им сразу верю – что ж, разве хорошо, когда шесть миллионов-то? Мне оттого что больше – радости никакой нету. Мне было бы очень приятно, если, скажем четыре. Или два. А ещё лучше – совсем никого. Но мир, увы, так устроен, что – совсем никого нельзя.
Потом, правда приходят другие люди, что говорят – определённо шесть, а может и больше. Все они шелестят какими-то бумажками, произносят непонятные цифирьки – и я, человек цифр, им всем верю, потому что они все жутко нервные. За ними приходят ещё какие-то люди и начинают хвастаться уже другими своими погибшими, мериться – у кого больше, и если у них, то радоваться.
За ними, топоча ботинками, идут специалисты по торсионным полям. Знаете ли вы, что такое торсионные поля? Не знаете? Никто не знает. Поэтому всё-таки надо вернутся к наукам историческим, которые издевательски зовутся гуманитарными.
Есть довольно небольшое количество тем, по поводу которых у каждого есть своё эмоциональное мнение. Выйдешь в людное место, предположим, и скажешь: “А всё-таки, Ленин болел сифилисом”. Или там – “А Маяковского – убили!” – и уже бегут к тебе со всех концов этого людного места – кто согласиться, кто разубедить, а кто просто дать по морде. И каждый норовит мне дать ссылку – гляди, дескать, академик Клопшток сказал. А другой человек кричит, что фуфел этот ваш Клопшток, а вот Гримельсгаузен-то, он всю правду сказал.
Проверить ничего при этом невозможно – как на бракоразводном процессе. То ли он шубу купил, то ли ему шубу купили. Убили Маяковского – однозначно. И Блока убили. Отравили воздухом.
Я верю.
Причём все эти убеждения интересны именно тем, что они непроверяемы. Потому что врачи запуганы, а потом расстреляны. Оттого про ленинский почин с сифилисом нам ничего не известно. Тут кто-то кричит – позвольте! Академик Клопшток глядел ленинские мозги и говорит: сифилис! Однозначно! Но оппоненты не унимаются и говорят, что Клопшток был куплен русофобами… Собственно, он и сам русофоб. Немчура. Упырь. Наиболее дотошные тащат блюдце, устраивают ночное чаепитие в Мытищах со столоверчением, вызывают Ленина.
Ну, вот скажи, дорогой друг, тебе вот в дверь позвонят среди ночи и спросят, болел ли ты сифилисом – что ты ответишь? То-то же.
Поэтому выходит из этого всего сплошной агностицизм.
Вот была печальная история – прошло время, и я могу говорить о ней более спокойно. У одного нашего сотрудника убили сына. Убийц, вроде бы, поймали – и оказалось, что среди них несовершеннолетний.
Как только свершиться какая-нибудь гадость, люди, особенно далёкие от события, начинают кричать “Распни!” Такое впечатление, что стоишь в толпе алёш карамазовых, которые хором бормочут “Рас-стре-лять!” Это всё понятное, но несколько пугающее поведение.
Сейчас я попью, отвлекусь от агностицизма и расскажу, почему оно меня пугает.
…Вовсе не из-за кровожадности.
Возьмём, к примеру, сов.
Совы очень симпатичные, но при этом известно, что в случае бескормицы они скармливают младших детей – старшим. Это не хорошо и не плохо – у них такая жизнь. А внучок мой ужасно переживал, узнав о такой повадке, и говорил, что смотреть на них теперь не может.
С людьми то же самое. Когда случается какая-нибудь мерзость, все вы начинаете прыгать у своих компьютеров, крича: “Надо бы расстрелять мерзавцев, убивших маленького мальчика, я бы убил, я бы своими руками задушила, на порог не пустил бы, манной каши не дала бы”.
Ну так надо купить билет в чужой город, подобрать на пустыре арматурный прут, проломить негодяю голову, а потом либо уйти в бега, либо сдаться правосудию.
Никто, правда, никуда не едет. Все сидят по домам, волнуются.
А в нашем случае, с нашими-то душегубами, случилась загвоздка – расстрелять надо было, но один из негодяев был несовершеннолетний. И тут у меня произошёл разговор, что напомнил мне все эти философские билеты на экзамене. Короче, агностицизм.
Одна дама из соседнего отдела, даже не из отдела, а из бухгалтерии, сообщила, что расстрелять можно запросто. Дескать, ещё несколько назад за множественное убийство с особой жестокостью двенадцатилетнего засранца все-таки расстреляли.
– В России? Несколько лет назад? – тут не только я, но и многие наши удивились.
– Именно-именно. Или в девяностые, – говорит она. – Судили, приговорили и расстреляли. За убийство женщины и маленького ребенка (тетки и ее маленькой дочери) детдомовцем. Достаточно известный случай был, поройтесь в спецархивах.
Во мне началось смятение. Внутри моей гностической системы можно было придумать объяснение – ну там, что имеется в виду, что его задавили в камере, малолетнего убийцу могли поставить к стенке в подъезде какие-нибудь мстители. Или там – сталинский режим. При сталинском режиме, известное дело, всякое бывало. Но речь шла о девяностых, статья пятьдесят девятая, про смертную казнь там было всё написано довольно однозначно. Не говоря уж о том, что в любом учебнике было написано (да, мы посмотрели), что только с четырнадцати лет судить можно. А тут двенадцатилетнего не только осудили, но и привели приговор в исполнение и в тот год, когда уже был мораторий. Одним словом, этот был отвратительный разговор, который лучше не вспоминать. Концы не сходились.
Да и дама противная такая была, а ещё они у нас на Восьмое марта из лаборатории стаканы взяли, да так и не отдали. Я заходил, видел – стоят стаканы наши. Чисто помытые.
В общем, я почувствовал себя полным говном. Оказалось потом, что история имела место – как в старом анекдоте армянского радио: “Правда ли, что Казанджан выиграл автомобиль в лотерею?” – “Правда, только не Казанждан, а Алабян, не в лотерею, а в преферанс, не автомобиль, а три рубля, и не выиграл, а проиграл…[4]4
Сажнева Е. Смерть в зелёном пальто. «Московский Комсомолец» от 19.06.2004. Там (с некоторыми, правда, передержками) рассказывается история Аркадия Нейланда, которого пятнадцатилетним казнили в 1964-м году.
[Закрыть]
Но расстреляли, да.
В пятнадцать.
В шестьдесят четвёртом.
Спросите себя: видели вы все уголовные дела своего Отечества? И честно отвечаешь себе же: не видел. Спроси себя: а помнишь, про дело Рокотова, Файбишенко и Яковлева? И честно отвечаешь – помню. Я-то помню, современник, можно сказать. Правда, дело было довольно громкое, знаменитое, и не сколько суровым приговором, а обратной силой нового закона. И ты начинаешь оправдываться перед этим своим внутренним спорщиком, что раз об этой истории говорили все газеты мира. А что это при первом российском Президенте шлёпнули мальца и правозащитники не свистнули, журналисты в бубен не стукнули?
А ещё мой внутренний голос говорит мне:
– Вспомни теорему Ферма.
А что её вспоминать? Я и не забывал эту историю. Дело в том, что когда мне было лет двадцать, я серьёзно считал, что теорема Ферма недоказуема. Это было для меня чем-то вроде вечного двигателя. В наш математический институт приходили одинаковые сумасшедшие – одни с вечными двигателями, а другие – с доказательствами теоремы. И тех и другие отличали прозрачные полиэтиленовые мешочки, в которых они таскали растрёпанные стопки чертежей и выкладок. Я их ненавидел, серьёзно думая, что теорема недоказуема.
После того, как теорему Ферма доказали, я осторожно отношусь к своим убеждениям, что можно объединить как “этого не может быть, потому что этого не может быть никогда”.
Мне неизвестна судьба мальчика-убийцы, летающей тарелки, Маяковского и путь сифилиса.
Я всё принимаю на веру.
И вам советую».
Он говорит: «А я науку очень уважаю. Не какую-нибудь конкретно, а науку вообще.
В науке много поэзии.
Вот я в науках точных, скажем так, много не превзошёл, и от того всё тамошнее воспринимаю как музыку.
Кто-то прислал мне задачу, условие которой завершалась словами: «Для упрощения расчёта диск Солнца считать квадратом».
Сдаётся мне, что обсчитывать излучатель прямоугольной формы гораздо труднее, чем круглый. Впрочем, есть такая история, кажется – про Чебышева. Знаменитого математика Чебышева пригласили читать в Париже, столице типа моды, какую-то популярную лекцию по теории математического моделирования одежды. Он начал с фразы: «Предположим для простоты, что человеческое тело имеет форму шара».
Договаривал он уже в пустоту.
А я считаю, что правильно сказал.
Шар и есть шар».
Он говорит: «А я вот в Дубне жил.
Город знатный, сосны, Волга. Наука из-под каждого куста фонит.
“Территория Незнаемого” как один журналист написал. Ну, это он с Россией перепутал.
Но у нас тут много чего на букву “н”.
Это был такой рассказ у какого-то фантаста, в котором машина производила любые вещи, только б они начинались на букву “н”.
Она поэтому произвела даже “науку”. Наука состояла из спорящих о чём-то толп людей, костров, где кого-то сжигают и там и тут вырастают ядерные грибы.
Грибов у нас полно было, хоть и не ядерных. Подосиновики там и белые – особенно за Волгой.
Наука у нас была.
И ещё была история про две штуки на букву “н”.
Жил у нас итальянец Понтекорво.
Он был знаменитый физик, чем занимался – не знаю, но приучил всех кататься на водных лыжах. Хороший был человек.
И вот, этот Понтекорво много лет назад, гуляя в окрестностях Дубны, заблудился. Однако учёный встретил тракториста, который взялся подвезти Понтекорво в сторону дома.
В пути они поддерживали разговор, и, тракторист спросил, чем именно Понтекорво занимается.
Тот ответил предельно точно – “нейтринной физикой” (собственно, Понтекорво был одним из её создателей). Тракторист возразил:
– Вы иностранец, и не совсем точно употребляете некоторые слова. Вы же имеете в виду не нейтриную, а нейтронную физику!
Понтекорво, рассказывая об этой встрече, всегда приговаривал:
– Надеюсь, я доживу до времени, когда уже никто не будет путать нейтроны с нейтрино!
И вот, сейчас, уже на пенсии, я стал думать об этом желании.
Понтекорво до этого не дожил, но предсказание, пожалуй, сбылось – сегодня никто ничего не знает не только о нейтрино, но и о нейтроне.
Колесо истории провернулось, и трактористы смешались с бывшими физиками.
Нет ничего нигде на “н”».
Он говорит: «А я всю жизнь бананами занимался. Бананы ведь для нас была такая диковинка – праздничный фрукт, похожий на кривой огурец. Это ведь – ягода, как и арбуз, об этом многие в школе узнали. Но что бананы разные, многие не ведали. Жрали всю жизнь кормовые бананы, так до смерти и не узнав, что они – кормовые. А, вообще-то, их сотни сортов. Меня ещё при прежней власти перевели в Эквадор – так, доложу я вам, там бананы что-то вроде нашей нефти, ну и розы конечно, в Москве все розы были эквадорские, но я про бананы рассказываю. Причём, там своя мафия.
Ты поди, попробуй, сам там бананы выращивать, всё уж поделено, еле ноги унесёшь, вот что я тебе скажу.
А то и не унесёшь. Но и этих хозяев жизни можно прочувствовать, как дозревающий банан. Взять в руки и понять.
Не пальцы гнуть, не гоношиться, а сделать потихоньку своё дело.
Так что лучше меньше, да лучше.
У меня за забором одна пальма – хоть это не пальмы вовсе – была, но так, для забавы. Дочь приезжала, и говорит: “А что это они у тебя такие маленькие?” Не знала, что маленькие – это самое то.
Мы-то к кормовым привыкли.
А больше – не значит “лучше”.
Нам и красные бананы были неведомы, и с яблочным вкусом, и прочие, и вовсе не имеющие у нас названия.
Ну, тут у нас всякая перестройка случилась. Я к этому был подготовлен – в моих банановых рощах раз в год революции случались, мало – в два. Да только тем, у кого бананы в руке, революция – не помеха.
Тут бананы и пригодились. Я по цвету мог многое сказать – вот сероватый, к примеру, подмороженный, а зеленоватый никогда не дозреет. Или видно, в какой плёнке бананы везли – в полипаке или в хайденсити. А у нас тогда и слыхом не слыхивали, зачем в процессе этилен, скажу я вам.
И страна такая, вместо какой своей валюты на руках привычные нам баксы. Только металлический доллар им чеканить разрешили – на нём индианка с младенцем, с надеждой в глазах. Бананы б нарисовали.
Но и не в этом мой рассказ.
Был у меня одноклассник, в смутные времена стал он риелтором. Занятие это было не легче, чем у лётчика-испытателя. Вон, у нас в Жуковском полкладбища таких рисковых.
Испытателей, конечно.
Впрочем, вторая половина, кажется, уже из риелторов.
И решил этот мой одноклассник, от греха подальше, переменить участь. Захотел бананами торговать. Я ему объяснял, что хуже нет, от тоски и страха бананами заниматься. Бананы нужно чувствовать. Это не смешной фрукт, не праздничный дуралей, а фрукт хитрый, Фрукт себе на уме.
Но меня этот риелтор не слушал.
Продал какую-то квартиру, может статься и свою, наверное, ещё что-то продал, купил большую партию бананов и погнал куда-то в Сибирь.
В Томск. Или, может, в Новосибирск.
Поезд едет себе, едет, а этот бывший риелтор, знай себе, прибыль подсчитывает.
Да только на наших железных дорогах может всякое случиться, ну и, разумеется, случилось.
Встали его рефрижераторы посреди Сибири на запасном пути.
По неизвестной, а значит, обычной причине.
Стали посреди сибирской жары, где тридцать градусов и плавится асфальт, если бы он был.
Ну и через некоторое время перестали холодить холодильники.
А в Томске жара. Или там, в Новосибирске.
И товарищ мой ловит по телефону новости, и думает, прямо так сразу повеситься, или дождаться того момента, когда за ним владельцы квартир придут.
Потому что бананы – хитрый фрукт. Отрицательных температур они вовсе не терпят, при плюс восемь полчаса проживут, при девятнадцати – трое суток. А выше двадцати одного бананам и вовсе очко наступает, вернее – перебор. Превращаются они тогда в жидкую чёрную массу.
Я же говорю – особый фрукт.
Можно сказать, ягода.
Ну и покрылся мой риелтор крупным потом и впал в ступор.
Даже звонить на железную дорогу перестал.
Три дня стояли его рефрижераторы на какой-то станции, а потом – ничего, подвели тепловоз, дёрнули и приехали в Новосибирск. Ну, или в Томск.
Но все эти три дня стояла вокруг его состава аномальная погода в тринадцать градусов.
Вокруг пожары, жара, озёра сохнут, великие реки мелеют.
А там – тринадцать градусов. Ну, или тринадцать с половиной.
Самое то, что бананам нужно.
То, и больше ничего.
Получил мой одноклассник свои деньги. Пришёл, поблагодарил за наводки и советы, а потом и говорит:
– Нет, ну их, эти твои бананы, я лучше квартирами буду заниматься. С квартирами как-то проще, там этих твоих плясок с бубнами не нужно. Там, коли можешь сталинку от панели отличить, то всё хорошо. Ну, а хрущоба всё равно больше моей жизни простоит, не испортится.
С тем и пошёл.
Правда, через год его застрелили.
Ну дело-то житейское.
Я не только в Эквадоре такое видел.
Я честно скажу – возникло у меня тогда недоверие к этой его риэлтерской простоте.
Наверняка и с квартирами вдохновение нужно.
Но с бананами его нужно, разумеется, больше».
Он говорит: «А вот чего я боюсь, так это свадебных праздников.
Даже на расстоянии.
Вот как-то ехали мы из заповедника к Серпухову и наткнулись на приметное место.
Карпова поляна называется.
Натурально, вышли пописать, а там щит.
Перед поворотом, значит…
На щите, несколько, правда, помятом, нам написали: «Вы находитесь на Поляне невест.
В сезон сюда приезжают около 80 пар молодоженов ежедневно.
Достопримечательности Поляны невест:
1. Массивная цепь между двумя столбами, которую по традиции должны поднять гости.
2. Качели-лодка. Их надо раскачать до тех пор, пока не ударится носиком в одно из висящих сбоку металлических сердец.
3. «Корабль любви».
Жители окрестных сел приводят лошадей».
Александр Николаич наш оживился очень, а мне вот как-то не по себе стало.
Лошадей зачем они приводят?
А Александр Николаич отмахивается:
– Кому и кобыла – невеста. Сворачиваем, Петя!
Петя – это шофёр наш, молодой ещё парень, заартачился:
– Да зачем нам, Александр Николаич, корабль-то? Нешто мы матросы какие.
Но тот упёрся.
– Ждите меня здесь, – говорит. И ломанул в кусты, навстречу цепям и лодкам.
Час прошёл, потом второй. Подождали до вечера.
Как уж совсем стемнело, Петя и говорит:
– Сам он выбрал-то, путь свой. Нечего кручиниться.
Да и поехали по домам.
Действительно, сам он этого хотел. Лошади… Невесты…
Сам».
Он говорит: «Жизнь наша так устроена, что для развлечения нужно жить долго.
Если долго живёшь, то развлечения тебя рано или поздно настигают. У актёров с этим, правда, сложности – от репертуара никуда не денешься. Пожилых играть не всегда, скажу тебе, радостно.
Фирсом выходить – не велика охотнику добыча.
Да и на ёлках лучше поздоровее и помоложе – там естественная борода не ценится.
Ну, конечно, тут начинают острить, дескать, вот если достаточно долго ждать, то тебя понесут, а ты глядь – мимо тебя проплывает дом твоего врага, и он сидит на крылечке.
Разные бывают жизненные успехи, но одно тебе скажу – нужно достаточно долго жить, потому что жизнь набрасывает сюжеты, будто кольца на палку. Была в своё время такая игра, не помню, как называется.
Я вот однажды попал на день рождения. Было это уже много лет назад, и вокруг была дачная местность уже после первого набега богатых людей. Выросли, как грибы, какие-то дома с канализацией, вылупили зенки дорогие машины из-за заборов. Сейчас-то уж канализация везде, а заборы стали глухие, но это давно было.
Пили мы, по молодости, крепко, и вот к вечеру многие полегли.
А я набился в попутчики молодой интересной женщине из мира кинематографа. Ей, впрочем, машину уже набили бесчувственными телами сзади, а вот меня, как ещё соображающего, посадили спереди.
И вот мы едем, ведём светскую беседу.
Я рассказываю, как там в театре у меня, женщина эта слушает и вдруг говорит:
– А вот у моей двоюродной сестры был муж-актёр. Такой козёл, прости Господи, я с тех пор думала, что все актёры такие. А вот смотрю – ты вполне нормальный.
Я как-то замер.
Какое-то у меня предчувствие произошло.
Слово за слово понимаю, что она-то сестра моей бывшей жены. Как мы не виделись, ума не приложу. И сижу – ни жив, ни мёртв. Слушаю, про то, какой козёл я и прочие подробности. Не то, что плохо, если меня высадят посреди дороги, а как-то ностальгия меня обуяла.
Ну, кое-как до метро на какой-то окраине доехали, я раскланялся, выгрузил три тела, что там, как дрова лежали, да и попрощался.
Вот проживёшь подольше – авось о тебе лучше думать будут.
А, вспомнил, как эта игра называется. “Серсо”. Точно – “Серсо”, ну с кольцами, помнишь?»
Он спускает ноги с койки и говорит: «Ты знаешь, сынок, у меня была профессиональная прививка от разговоров о нравственном выборе. Я ведь историк – ещё советской закалки.
Поэтому я обожаю чужие крики души, как вещь мне недоступную, и вовсе не обидчив, когда мне говорят о гражданской нравственности.
Ну я ведь перегорел ещё в пятьдесят девятом, когда ещё аспирантом начал заниматься реабилитированными. Тогда ещё вышел пятьдесят первый том Большой советской энциклопедии. Это был такой специальный том, в который засунули все новости – и, в частности, ворох статей о реабилитированных. Сын меня тогда ещё спросил, почему у них один год смерти – будто какой-то грипп скосил этих красных командиров.
Несколько лет нам всем казалось, что в тот год своей смертью вообще не умирали.
Расскажу такое: я занимался одним красавцем. Четыре ордена Красного знамени, три Георгиевских креста, за прошлое – ещё немного, и был бы полный кавалер. И вот этот человек в тридцать втором году приходит на Новочеркасское кладбище и пускает себе пулю в лоб.
Об этом говорилось как-то глухо, среди коллег, которые писали про разных маршалов возникла традиция – на предпоследней странице биографий мы писали о планах перевооружения, о тревоге перед войной. А потом, на последней – “пал жертвой несправедливости, доброе имя его было недавно восстановлено”
Самоубийство тоже не жаловали – застрелиться можно было только в окружении, как сделал генерал Ефремов, а тут кладбище. Комкор приходит туда 2 мая, на следующий день после праздника. Что это было? И вот возникла мысль, что это из-за восстания на Кубани, что было в том же году – такая романтическая мысль, в духе “Тихого Дона”, только с другими, кубанскими казаками – и вот человек стреляется, чтобы не воевать против своих. Но это глупости, конечно, никаких “своих” там не было, комкор был из-под Уфы, восстание было в ноябре, и знать он ничего не мог. Сразу возникает версия про белую горячку, про душевную болезнь – но всё это было зыбко, непрочно.
Общество хочет заговора, я ведь помню времена, когда в любой книге было написано, что Горького отравили, Менжинского и Куйбышева – умертвили, умертвили – да, вот хорошее слово. Общество ищет некого смысла в смерти, чтобы не просто умер, а умертвили. Это как-то даже приподнимает ладью над доской.
Но уже тогда я начал понимать, что есть что-то выше всей этой истории. Мой бывший однокурсник занимался Востоком – и перед его глазами проходили судьбы каких-то безвестных визирей при дворе шаха.
Я-то небольшой специалист в этих дворцовых делах, но понял тогда, что со стороны не кажется удивительным – ладья исчезла с этой персидской шахматной доски, или там пропал офицер. Это всё ожидаемо в Азии, да и везде, где играют в шахматы.
Это я тебе, парень, рассказываю оттого, что в этот момент я засомневался в своей специальности историка. То есть, в том, есть ли история. Я читал доносы, аккуратно подшитые в папочки, и этих доносов было множество. Потом масса людей, согласились с тем, что виноват только Он, проклятый.
Он, Он нас всех попутал.
Потом я видел, как в этом винят строй, потом вовсе бесов каких – я прожил много лет, и видел, как это общество переваривает внутри себя вождей и их визирей, и стал понимать, что именно общество тот самый Левиафан, а вовсе не государство. Это расплывчатое общество придумывает себе обстоятельства неодолимой силы, чтобы оправдать своё пищеварение.
Так и станешь вмиг мизантропом, и уж очевидно, что в человеке более от зверя, и куда менее божественного начала.
Об этом, кстати, с тоской ещё Достоевский замечал.
Я тебе, парень, больше скажу – я не судья этим эмоциональным взрывам: “доколе!” “ужас!” “господа, вы звери!” Потому как действительно ужас и звери. Но человек искренний, который серьёзно так вскрикивает, редко останавливается на справедливой эмоции, он норовит как-то всё продолжить, обобщить, сделать какой-то вывод, решить, кто прав, кто виноват, и тут как раз засада.
Прямо капкан какой-то.
Но моё дело о капкане предупредить, а там хоть не рассветай – звёздное небо-то мизантропу завсегда приятней».
Он говорит: «А я вот не сожалею о том, что перестал путешествовать. Да и слово это такое обязывающее. Это в прошлом человек фигачил на заводе, а потом ехал на юг. Вернее, на юга. Он отъедался там, грелся, напивался впрок. А как пошли садовые участки, нормальный работяга, такой, как я, ездить перестал.
Я участок получил, когда стал мастером. Бригада у нас была хорошая, без слизи. Правда, на садовых участках было запрещено строить настоящие дома, можно было только летники. А что отличает настоящий дом от ненастоящего? Не знаете? Я вам расскажу: отличает его печка. Вот мы сварили на заводе чудесные буржуйки, лёгкие, приёмистые – и чуть что, как проверяющий какой приедет, их прятали. Ну а потом просто прикормили проверяющих – приедет такой фанфаронистый, а уползает от нас на четвереньках.
Спирта для протирки оптических осей у нас на заводе хватало.
А за границу в поздние времена съездил пару раз – в Турцию съездил, а потом в Египет.
Утомительно мне это показалось, пусть молодые ездят.
А ещё лучше – мальчишки мои. Ездить мальчишкам нужно, потому что им голову встряхивает.
Я в Египте, в той самой Хургаде, наблюдал старика. Его вывезли взрослые дети – видимо, вся семья была на отдыхе, потому что по старику ползали внуки. Он был чрезвычайно недоволен – я так сразу понял, что он домосед, как и я.
И вот мы сидели как-то с ним рядом, была экскурсия в пустыню. Валился в Магриб фантастический закат, мы сидели в шезлонгах, и я обнаружил, что старик смотрит на запад и бормочет “Ненавижу, ненавижу” Я как-то несколько подивился такой неприязни к родным, но отнёсся с пониманием.
Перелёт, потом суета всякая, а ты сиди тут, сторожи выводок, пока молодые на дискотеке пляшут.
Но старик мне всё объяснил.
Его прибрали в 1950-м, нет, не по политике, а за ларёк у станции.
Строил он Главный Туркменский канал, это была знаменитая стройка, которую не потянула даже сталинская директивная экономика. Канал этот бросили копать в после смерти Сталина, потому что уж мочи не было. Сам Берия отступился, развёл руками, херня какая-то вышла, говорит. А уж Берия не такой человек был, чтобы легко сдаваться. Ну, в общем, котлован тот оказался бездонным. Не знаю уж, засыпали его обратно, или пустыня сама затянула эту прореху.
Но с тех-то пор этот старик возненавидел пустыню, а путешествовать как раз очень любил, и хотел в Турцию. “Бананы ел, пил кофе на Мартинике, курил в Стамбуле злые табаки” – вдруг пропел он неожиданно красивым, хоть и старческим голосом.
Но табаки остались за бортом, дети взяли семейный тур в Египет.
И вот он сидел рядом со мной в шезлонге, наблюдая, как солнце исчезает в Царстве Мёртвых, и тихо ненавидел все пустыни мира.
Имел право, я считаю».
Он вдруг что-то вспоминает, усмехается и говорит: «Я вот что хотел рассказать – про преодоление неловкости. Про тот восторг безумия, который начинается за этим. Вы знаете, у меня недавно сбылась мечта – я построил себе дом, среди старых дач – на участке, принадлежавшем моему покойному деду.
Добротный крепкий дом, за время строительства весь обросший сливовыми деревьями и калиной.
Я уже тогда начал болеть, и мне был нужен свежий воздух.
Ко мне должны были приехать друзья на новоселье, и вот я пошёл за сливами.
Обрывая сливы, я как-то разговорился с соседским мальчиком. Мальчик этот был шести лет, симпатичный и чем-то напоминал Ральфа, сына полицейского, ну, знаете, из сериала “Симпсоны”.
Он рассказал мне, что в детстве (в том, что он считал детством), он очень боялся старой двери, что была прислонена к моему сараю.
Действительно, когда я начал строить дом, то у меня возникла романтическая мысль поставить туда входную дверь от квартиры моего детства – старую деревянную дверь образца 1946 года, с почтовым ящиком на ней.









































