Читать книгу "Он говорит"
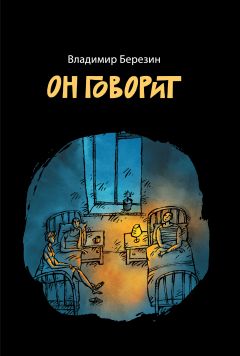
Автор книги: Владимир Березин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ума не приложу, отчего я это я вам рассказываю, быть может, просто хочу обратить внимание на этот странный феномен. Вдруг кому-то пригодится.
Компании были разные, а сценарий – один. Друзья в моём возрасте уже не приобретаются. Разве партнёры по шахматам на бульварах или те, с кем начинаешь здороваться, выгуливая собаку. Вот появился кто-то новый с эрдель-терьером, а вот вы уже друзья – ровно на те двадцать минут перед сном.
Я иногда думаю, отчего мы так любим наших мёртвых. Они не совершили наших ошибок, вот в чём дело. Так мне кажется. Нет, они были не умнее нас, но остались навсегда такими лёгкими, быстрыми, как в том, навеки отменённом прошлом. Они не болели и не старились на своих фотографиях. Поэтому они оставались прекрасными – и оставались прекрасной частью нас».
Он говорит: «А вот вы, молодые, тут лежите со своими телефонами и компьютерами. Я давно хотел вам сказать – о компьютерах и о смерти. Ну, то есть, я вам о Стиве Джобсе скажу. Меня-то давно занимает феномен выговаривания общества в момент смерти публичного человека. То есть, всякая тварь, имеющая голос, в момент чужой смерти бормочет что-то, а в момент собственной – кричит.
Если хватает сил, конечно.
То есть, что-то нужно сказать, но непонятно что.
Это я видел задолго до вас – когда умер Брежнев, у магазина на станции Манихино такие разговоры велись, что Боже мой. Но как царь умрёт – жди перемен, а в сравнительно спокойный период тоже хочется выговаривания, и вот. Джобс этот для меня как раз идеальный пример.
С одной стороны – не спрашивай, по ком звонит колокол, звонит он по тебе и всё такое. Ужас, да?
С другой стороны с публичными фигурами всегда много неясного. Большая часть народонаселения совершенно не знает рядом живущих человеческих особей, их качеств и свойств. И, чуть что, оказался наш отец не отцом, а сукою.
Мужья не знают привычек своих жён, а родители не понимают жизни своих детей.
Да только все выговариваются.
С Джобсом тоже непонятно – и слова “Ну, Джобс… Ну он – гений… Ну, он – айфон!” ясности мне не прибавляют. Вдруг Джобс – это не единственный творец айфона, вдруг мы вообще мало что знаем об этом приборе, и Джобсе как о руководителе. Может он был туповатый начальник, хороших людей гнобил, себе чего присваивал. Всё оттого, что он плох, а оттого, что там всё по-другому.
У меня, кстати, друзья сына, как Джобс помер, всё орали на кухне:
– Я вообще-то продукцию «Apple» не люблю, но должен сказать…
Джобс это символ ваших гаджетов, а эти некрологи были символом сопереживания.
История с покойником всегда развивается по классическим лекалам. Сначала публика выбирает объект переживания, а затем приходят люди, доказывающее, что новопреставленный был нехорош и нечист на руку, потом вовсе становится непонятно, то ли он украл, то ли у него шубу украли.
Через неделю всё забывается.
А вы что скалитесь?
С вами тоже самое будет, только в масштабах коммуналки.
Чёрт, коммуналок-то теперь мало.
В мелких масштабах, говорю вам, в мелких».
Он говорит: «Ко мне сегодня сестра приходила. Мы по парку гуляли – до ворот. И я неожиданно услышал от неё оборот прямо из девятнадцатого века. Мы о Толстом говорили, о “Крейцеровой сонате”, так она вдруг и произносит о герое: “допускает себя до истерики”.
Это мне напомнило мою двоюродную бабушку, что была выпущена из Смольного института с шифром, и всю жизнь говорила, что никакого ПМС нет, а есть только дурное воспитание. С тех пор я стал куда мягче к картине ПМС, но уважение к людям прошлого сохранил.
Тут дело ещё вот в чем: в бессословном обществе правила поведения размыты. Сдерживаться не модно, а уж социальные сети для того и придуманы, чтобы жаловаться кому-то – просто так, даже… В пространство…»
Он говорит: «Я давно родился. Оттого застал ещё диковинные имена – две Сталины в жизни моей были.
Дядюшку моего Вилорием звали.
Но я вам вот что скажу – как начинается народное творчество с именами, так прям святых выноси.
Нельзя имена изобретать.
Можно только запустить руку в какой-то мешок, как с бочонками лото, достать что есть и пользоваться.
А то вот мне рассказывали про то, как в честь первой космической ракеты какого-то армянина назвали Перкосраком. Но на Кавказе-то можно, у них индульгенция, там все персонажи Шекспира отметились – не знаю уж почему.
Куда удивительнее, когда в нашем среднерусском Отечестве то и дело возникает странная любовь к экзотическим именам, и вот пишется в метриках что-то вроде Изольды Деревянкиной или Дианы Подмышкиной.
Может быть, родители и хотели лучшей доли для своей дочери – может быть. Они хотели ей добра и счастья, думали, что красивому имени будут завидовать девчонки из соседней деревни. Вот писец в сельсовете выводит на красивой бумаге “Антуанетта Сидорова”
И сгущается из тьмы веков помост, суровый мужчина в колпаке и с литературными склонностями, а так же лезвие в деревянной раме.
Волнуются, суетятся вокруг Сидоровой какие-то неразличимые пока призраки. Такова магия чужого имени на русской земле. Нужно бежать от этого предопределения.
Я думаю, что просто писарю нужно писать это диковинное имя с одним “т”, и всё образуется».
Он говорит: «А я прямо вот так переживаю, когда ко мне по отчеству обращаются. Я к отчеству привыкнуть не могу. У нас ведь в Отечестве отчество появляется, когда надо о пенсии подумать, ну или уж ты так плохо выглядишь, что тебе в транспорте место уступают.
Кстати, с этими обращениями – сплошная срамота. Я помню, как был потрясена общественность, когда прогрессивные молодые начальники стали звать друг друга и всех по имени: “Вы, Михаил, уже произвели калькуляцию лизинга”? – “… Да, Аркадий, я всё сделал и даже факснул нашим брокерам”. Это казалось внове и свежо, и если даже человека увольняли, обращаясь к нему по имени и на “вы”, он чувствовал себя окрылённым.
Меня, правда, попросту уволили, без чинов.
Просто не пустили на завод, и дело с концом.
“Иди с Богом, отец, – говорят. – И дорогу сюда забудь. А то ведь знаешь, что у нас демократизатором зовётся”.
А сам мне в окошко проходной резиновую дубинку показывает.
Была, впрочем, и другая традиция, как мне говорили, идущая от обкомовских начальников – на “ты” и с именем-отчеством: “Что, Никифор Сергеевич, ты придумал, что нам с показателями делать?” – “Да что делать, что делать, Владимир Павлович, просрал ты все показатели за второй квартал, сука ты, Владимир Павлович, гнать тебя надо”.
Эти меня погнали вовсе без слов, я про акции свои и пискнуть не успел. Эти красные директора на руку были тяжелы – со своими старыми привычками.
Был ещё один странный тип обращения – это обращение женщины к мужу по фамилии: “Ну, Фролов, ты что же, опять на рыбалку?” Причём, даже в фильмах и пьесах женщины говорили о своих мужьях в этом странном третьем лице: “А Фролов не пришёл с рыбалки, вот ведь штука, Маня”
К нам как-то приезжал лектор, про разные чудеса рассказывал. А потом и говорит: “Отчество – что-то вроде шубы. Весной и летом жизни его носить нелепо и стеснительно, но когда дело поворачивает на осень, а она в наших краях ранняя, увы, – уже и стоит примерить”.
Но я вот так скажу, попросту. Хитрый этикет нужен в сложных обществах. Именно поэтому и придумали знаки различия на одежде и всякие заковыристые обращения. Вы, дескать, глубокоуважаемый, а вы – вагоноуважатый. Вы – целое ваше превосходительство, а вы – всего лишь ваше благородие. А у нас Отечество простое – в нём есть только начальники и подчинённые – одни с отчеством, другие без. Этикет ведь придумали, чтобы люди в страхе не метались, не зная, как обратиться.
А мне вот просто кричали:
– Дед, пиво будешь? Да не, не ты, вон тот дед, что с рыбой стоит!
Мне отчество не нужно.
Мне вот медсестра говорит: “Дедушка, давай в процедурную” – я и доволен».
Он говорит: «Много лет назад я попал в лес вместе с компанией сверстников. Мы пошли в поход, был у нас и руководитель, да вот беда – оказался он сумасшедшим. Причём это не сразу выяснилось. В городе он был – ничего так, представительный, а вот в лесу вдруг стал пугаться каждой треснувшей ветки, вжимал голову в плечи, дрожал… А потом вовсе убежал в чащу. Ну, его ловили, поймали и отвезли в казённый дом. Мы оказались на несколько дней предоставлены сами себе, причём, кроме палаток у нас никакого снаряжения не было, начальник наш ещё дома уже витал в своих облаках сознания, и нас ни о чём не предупредил. Места были не то, что глухие, но мобильных телефонов тогда не было, погода стояла дождливая, и вот тут со мной случилось превращение. Товарищи мои промокли под дождичком и дрожали, пока я разжигал костёр. Потом я нашёл жестянку, отмыл её, приделал ручки, подвесил над костерком, заварил чаю и с брезгливостью оглядел мокрых спутников. Я очень хорошо помню это чувство – вот я такой, а они – такие.
А кто мы были? Обычные советские школьники. Комсомольцы, кстати. Тогда в комсомол с четырнадцати лет принимали.
Ты понимаешь, дорогой товарищ, дело-то в другом было – государство всем нас тогда обеспечивало – ну, дурно, плохо, но обеспечивало. Это потом оно вдруг замахало руками убежало куда-то в лес.
А, вот ещё – тогда была одна повесть, по ней потом фильм сняли. Там герой пришёл к мажорам на вечеринку, и девочки там такие расфуфыренные, и джинсы эти… Ты ведь не понимаешь, что такое джинсы были. По телевизору показывали комедийный спектакль, и там знаменитый актёр говорил: “Настоящий ковбой не будет покупать джинсы за сто рублей. Он застрелит спекулянта”. Но на вечеринке были мальчики в джинсах и всё такое. И вот герой там притворился, что сидел. “Сидел” среди мажоров было ново, и все на него стали смотреть.
И тогда, в сыром лесу, я видел, что на меня смотрят, и я крутой.
Потом-то я видел много сидельцев, ничего в них такого не было – попадались и мажоры: по двести шестой, по сто семнадцатой, и по другим статьям. Те, кого папы не сумели отмазать. У меня такой одноклассник был – стал первым кооператором. Варёнкой торговал, джинсами этими варёными.
Его и застрелили какие-то ковбои, которым он не оказал должного уважения.
А когда он был ещё жив, то я как-то отправился с ним на день рождения.
Тогда много было странных вещей. Вот консервная банка в лесу – вещь простая, а вот тонкие сигареты – вещь была необычная, со множеством смыслов. Или вот напитки из “Берёзки”. Магазин такой… А, ну ты знаешь. Но напитки из “Берёзки” это были не просто напитки – это сейчас они в любом сельпо, а тогда всякую некруглую бутылку в горку ставили, среди хрусталя берегли.
Приятель мой был с электронным синтезатором наперевес – он ещё и левые концерты давал. Синтезатор был похож на огромную гладильную доску. Знаешь, что такое рубель? Ладно. И приятель бормотал, оправдываясь: “Зачем мне большой инструмент – я пользуюсь портативным – вдруг какая-нибудь фраза придёт мне в голову, когда я буду в машине…”
Я тогда очень хотел понравиться этому жулику. Люди простых вещей всегда хотят понравиться тем, кто обладает вещами сложными.
Всё потому что меня окружали простые вещи, тушёнка, а за спиной – работа на пилораме. Это другое время было, тогда уж не похвастаешься тем, что у тебя зеки работали. И мы поехали по ночному городу, приятель мой хвастался тем, что в метро не ездит и стрельнул у меня пятак. Поезд нёс нас под аккомпанемент синтезатора, гулко отдающегося на пустых станциях. Мы смотрели какую-то унылую порнуху на вокзале – тогда были такие самопальные кинотеатры с телевизором вместо экрана. Под утро одноклассник упал в какую-то щель чужой квартире и тут же уснул. А я курил чужие, сидя на кухне.
Утром, знаешь, такой щебет летом – это птицы отрываются, потому что днём их никто слушать не будет.
Вдруг вышла девка похмельная и уставилась на меня, как на милиционера.
Тоже, видать, чужая была в этом доме. Я тогда представил себе, как я её накормлю, а она мне скажет, такая:
– Не будешь возражать, если я буду курить в постели?
Потому что я хороший, я лучше, лучше всех, и могу разжечь костёр и завтрак сделать.
Да пропала эта девка где-то в коридоре, и время это утекло по трубам.
Не нужно разжигать теперь костёр с одной спички – разве, с одной зажигалки. И завтраки другие стали, многому я ещё потом научился, но много чего я упустил в жизни, пока не понял, что нужно быть не лучше всех, а надобно быть на своём месте».
Он говорит: «А я физруком в школе работал. А физрук по школе известно как ходит – в спортивном костюме. Во всех старых фильмах, как увидишь человека в олимпийке, так значит, физрук.
Мне ещё старые друзья по сборной всё время эти костюмы, да кроссовки подгоняли, на это я денег не жалел. Джинсов у меня сроду не было, а вот кроссовки были. Как у нас школьники говорили “Кто имеет Адидас’, тому любая баба даст”. Ну. Не без этого.
Но тогда ведь что главное было – чтоб никто не убился. Как у тебя школьники бегают – неважно, всё равно все бегают плохо. Нужно просто отобрать нескольких, что и так в секциях занимаются, и отправлять их на соревнования. Сейчас не знаю, как с этим, а тогда это вполне работало. А потом пришли новые времена, и все начали в спортивных штанах ходить.
У меня даже несколько конфузов вышло. Меня все принимали за бандита средней руки, и никто – за человека с потугами на интеллектуальность.
Как-то я встретился с одной супружеской парой, что из Лондона прилетела, они там по линии Совфрахта сидели. Их и не узнать – когда мы все в институте учились, то они выглядели бедновато, а тут в своих английских костюмах, что он, что она. Ну и я… Пришли ко мне в школу, а у меня, как на грех, только спортивный костюм. Да и с деньгами стало не так, чтобы очень.
Всё равно, пошли в ресторан. Друзья кричат, что они угощают.
Пришли. И вот официант разбегается, и, минуя этих британцев, подбегает ко мне:
– Что ваши друзья будут пить?
Так вот всегда, и инкунабулу со счётом тоже всегда мне несут. Со всеми вытекающими из кармана последствиями.
Друзья мне под столом стали деньги совать, а сами стали с уважением смотреть.
Но потом всё вернулось на круги своя.
Теперь, как выбежишь из школы в магазинчик неподалёку, так на всякий случай паспорт берёшь. Тех, кто в спортивных штанах, чаще проверяют.
Но я всё равно доволен – за сорок лет ни разу галстук не надевал.
Ни разу.
Как для кого, а для меня это достижение».
Он говорит: «У каждого есть в знакомых какой-нибудь богатей. Ну, просто так мир устроен – богатеев не так мало, да и воспитание у нас такое – раньше-то мы в одних школах учились. Ведь откуда богатеи взялись? Да всё оттуда – не хватало всяких специальных школ для них, и они, ещё бедные, жили среди нас. Ну и у меня есть такой. Человек он нестарый, но уже стал персонажем книг, газетных статей и просто сплетен.
Времена были тогда для богатеев суровые – мы-то просто недоедали, а их то и дело в “Мерседесах”, как в крематориях жгли. Мы как-то с ним столкнулись (буквально на улице) и решили, что нам неплохо бы встретиться.
– Знаешь, – говорит он, – давай вместе позавтракаем. Вечерние встречи – это всегда пьянка, а мы ведь с тобой люди занятые. То на заседание нужно, то на гражданскую панихиду.
Я даже крякнул от такого о себе мнения, ну и возгордился немножко. Потому как я без работы второй год, и дел моих было только купить свеколки и лука нам с женой для борща.
И, продолжаю я думать, что очень всё это хорошо, тем более, что раз работы у меня нет, то, как начнёшь есть с утра, так можно этим бесконечно заниматься, без оглядки на то, когда метро закроют. Договорились, что я к нему утром заеду, причём я знаю, что олигарх мой все свои деньги уже заработал, и посему раньше одиннадцати не поднимается. Бурная ночная жизнь опять же.
– Во сколько звонить? – спрашиваю.
– Звони в девять, – отвечает.
Я подивился, но позвонил-таки. Однако мой знакомец поутру начал говорить со мной женским голосом, да и им-то сообщал, что находится вне какой-то зоны, да и вообще, может быть, выключен из этой жизни.
Интересоваться, почему в нашей стране олигарх находится вне зоны – дурной тон.
Вздохнул я, но гордость у бедняка – известное дело, что вода в пустыне. Перезвонил ему по служебному, один секретарь переключил на другого, тот продиктовал мне адрес.
На следующий день сел я на велосипедик и поехал по утреннему городу, и думаю, питаются олигархи дурно, всё вечером на презентациях тарталетки жуют всухомятку. Лишь иногда наклонится к нему официант с бутылкой и забормочет как киллер: «Бланманже-профитроль шестьдесят девятого года, а?». Хорошо, что я ему на завтрак еду.
Приехал на место, позвонил снизу – никого нет. Позвонил снова – опять никого. Огляделся: стреляных гильз на газоне нет, и что случилось – непонятно. Вдруг, думаю, длинноногая секретарша запуталась ногами в простыне, и они типа заняты, выпутываются.
На меня уже дворник с метлой начал странно смотреть. Когда я ему объяснил – куда, дворник насупился, и клочкастая метла задрожала у него в руке.
Тогда я притворился курьером. Мы закурили с дворником и преломили с ним хлеб. Добрый дворник посоветовал позвонить олигарху. Время тогда было переломное, неустоявшееся – это сейчас мобильные телефоны у всех, да и не по одной штуке, а тогда всё не так. К примеру, один человек приехал в Москву из Ленинграда и пошёл в гости к москвичам с пельменями и бутылкой водки. Но забыл он спросить про пароль от кодового замка в подъезде. Ночь, холод, нет никого – и пришлось этому ленинградцу на московском пустыре самому выпить эту бутылку водки, да мёрзлыми пельменями закусывать. Так всю пачку и съел.
А потом в свой Ленинград уехал.
Ну а мне пришлось снова сесть на велосипедик, покатиться по улице. Нашёл какой-то заблудившийся телефон с кнопками, набрал номер.
А в этих старых телефонах есть такое свойство – они четыре секунды дают возможность поговорить бесплатно. Олигарх сразу смекнул, что лучшая защита – нападение, и ну мне в отведённые четыре секунды гадости говорить.
– Да ты последний… – произносит он и отключается.
Я ещё позвоню, думаю, может, догадается мне олигарх сказать, стоит мне его под окнами ждать, а он сразу в трубку:
– Да, не ожидал от тебя… – и снова пропадает.
– Эх, у меня каждая минута расписана… – а сам пыхтит, видать, секретарша крепко застряла.
Подождал я, плюнул, да и поехал восвояси.
Поехал по улицам павших, сгоревших и утонувших народных героев, поехал мимо мясокомбината, на гербе которого братаются корова и хряк, доказывая межвидовое скрещивание, поехал по Огородной улице, на которой не пахнет ни мокрой редиской, ни кресс-салатом, на которой нет ни круглобоких помидоров, ни пупырчатых огурцов, а есть на ней только чад, пыль да запах горячей жести.
Так поехал я по улицам самого лучшего города в мире, сам про себя рассуждая – что это со мной? У меня вот жена дома борщ варит, а я ещё сейчас бутылочку маленькую куплю, и сын вечером придёт…
И повеселел даже».
Он говорит: «Я считаю, что богатство скоро будет определяться только продолжительностью жизни. Вот у меня в прежние времена был в соседях дирижёр.
Дирижёры живут долго.
Я думаю, что всё дело в их профессиональных обязанностях. Ведь они занимаются установлением гармонии повсюду – в оркестре, между знаками партитуры и внешним миром.
Они живут долго.
А век писателя короток, потому что он не может заниматься своим делом, пока ему хорошо. Для того, чтобы писать, большей части писателей необходимо противостояние с миром, страной или женщиной.
Чувство потери или напряжение нелюбви усаживают за стол.
И художники, наверное, живут мало. Впрочем, художники сильно отличаются от писателей оттого, что художник не должен знать, а должен видеть.
Их жизнь так же недлинна, как моя, и не мне глумиться над кем-то. Куда нам до дирижёров.
Душа племени дирижёров таинственна и недосягаема.
А вот авиадиспетчеры, должно быть, мрут как мухи – хотя они тоже устанавливают гармонию. Не установишь в нашей работе гармонию, так смерть придёт и ужас, причём не только для тебя, но и для всех.
Я-то, впрочем, не авиадиспетчером работал, но всё же в аэропорте. Работа нервная, и вот начал я болеть.
Я всегда воспринимал себя как очень здорового человека. Дело было, наверное, в том, что по физической силе я выделялся из своих сверстников.
Выглядел я лет на пять старше, чем на самом деле.
У моих друзей бытовал культ раблезианства. Надо было, в частности, есть много мяса. Надо было просто много есть.
Пьянел я медленно, и это прибавляло уверенности в собственном здоровье.
И вот, возникло убеждение, что уж чем-чем возьмём, так это выносливостью, это силушкой, потянем, потянем, да ухнем…
Сама пойдёт.
Ну и спал я мало.
Всё шло хорошо, но тут появляются врачи (а у нас медосмотры постоянные, хоть я и не диспетчер), и улыбка сходит у тебя с лица. Готовишься перетерпеть мелкую неприятность, досадную помеху… Месяц, наверное.
А тут говорит мне человек в белом халате, что не месяц, вовсе навсегда.
Попутно узнаешь о себе много нового.
Болезнь живёт с тобой, как пёс или кошка, и вот уже хозяин начинает понимать значения медицинских терминов. Термины звякают как инструменты в кипятильной ванночке, вызывая невольное мышечное содрогание.
Самое противное в этом – регламентация жизни. Нельзя. Этого, того. Всегда нельзя. Навсегда. Я знал одну девушку. Это была хорошая девушка, и она была больна. Спала она специально на досках, что-то специальное ела, что-то специальное пила. Болезнь придавала ей в моих глазах какое-то странное очарование.
А потом-то я понял, что очарования нет. Я говорил с одним художником, так тот воспевал механические повреждения. Мужчинам след глупости, заключённый в шраме, часто тоже придаёт очарование. Крепкий одноногий пират – фигура нестыдная, а как гнить начинаешь, так стыдно.
Разум бессилен перед стыдом.
Ну я стал хроником – печальная профессия, хоть не хуже прочих.
Одна радость – полюбил симфоническую музыку.
Лежу себе на обследованиях, наушники всегда при мне.
На старости лет всех дирижёров выучил.
Всех по именам знаю.
И живых и мёртвых.
Только не нравится мне, когда звук самолёта за окном. Это гармонию нарушает, напоминает о прежней жизни.
Но это только когда наушники снимаешь».
Он говорит: «А я не верю в предзнаменования. И гадалкам не верю. Один мой приятель работал в газете, в которой как-то наладились печатать гороскопы – так он обзванивал друзей, что родились под разными знаками Зодиака и спрашивал, что бы им хотелось. Ну и это и записывал в газетной колонке. Потом, правда, он перешёл в другую газету, где, ради веселья, перепечатывали старые гороскопы, чтобы читатели сличили их с произошедшим. Рубрика эта успехом не пользовалась – кому охота расстраиваться?
А суть предсказания одна – нужно сформулировать его так невнятно, чтобы каждый узнал в нём свои тайны и грехи. Это как вопрос жены об изменах – признаваться нельзя, даже в шутку, а предсказатель куда хуже.
Хуже жены, я полагаю.
По-разному, впрочем, выходит.
Был голодный год – из прошлой череды тощих лет, потому что ныне тощие и тучные коровы ходят не по семи, а дюжинами.
Я тогда попал в одно странное место, что называли подвалом.
Подвал, куда мне нужно было пойти, находился в огромном доме постройки сороковых годов прошлого века. Когда я брёл вокруг него в поисках нужной двери, к нужному подъезду причалил «Мерседес» и два кожаных человека вывели из него третьего, тоже кожаного, и, деловито пристегнув к себе наручниками, увели в нутро подъезда.
Но дело не в этом эпизоде, который, впрочем, меня весьма насторожил.
В искомом странном подвале посетители играли в странную игру. В результате этой непонятной джуманджи мне выпало, как в китайском печенье с записками, нести домой лист бумаги с красным рисунком и текстом, озаглавленным: «Красная стена. Часть двенадцатая».
Итак: “Один китайский студент в детстве играет в игру под названием «Критика Линь Бяо и Конфуция». Когда он учится в Пекинском педагогическом университете, профессор Чжоу Гучэн предостерегает его от чрезмерного увлечения Западом. Студент пишет большое дацзыбао и вывешивает его на университетской стене.
Молодой китайский революционер Цзи Чжи приезжает в Страну Советов учиться. Он влюбляется в свою первую учительницу русского языка. Их сына зовут Леонард Сергеевич Переломов. Он пишет книгу “Конфуций: учение, жизнь, судьба”. Леонард Сергеевич стоит перед стеной Пекинского педагогического университета и читает дацзыбао. Там написано: почётному советнику Фонда Конфуция профессора Чжоу Гучэну нужно сделать кэн. Кэн по-китайски означает, конечно, “погребение заживо! Леонард Сергеевич Переломов стоит перед стеной Пекинского педагогического университета в дни Больших снегов года Красного тигра”.
Ночью мне приснился красный рисунок, на котором ветер шевелил кривые деревья, а с горы, осыпая лужайку брызгами, лился маленький водопад.
Двенадцатая часть символизировала, несомненно, двенадцатый год лунного календаря. Но при чём тут были эти современные китайцы, какое отношение они имели ко мне?
И пошёл я по жизни озадаченный.
Я не люблю всей этой магии, гороскопов там, как-то это меня беспокоит. Вот я и беспокоился – что-то тут было не то. Вроде как моим бизнесом (я тогда газетами торговал оптом) заинтересовалась налоговая, но человек за деньгами отчего-то не приходит.
Но вот прошло несколько дней, и у меня на пороге появилась девушка.
– Здравствуйте, – говорит. – Я ваша дочь. Я приехала из Китая и знаю китайский язык.
Тут у меня от сердца отлегло, и мы пошли пить чай».
Он говорит: «Ты вот хоть и пожил, но не понял того, что всякая власть должна быть с чудесами. Нет чудес – нет и власти. Власть должна быть загадочной, а не будет, так в Ганину яму её. Сразу туда – народ это очень хорошо чувствует.
Я ещё Брежнева помню, как он написал книгу про Целину, так она, его книга, значит, и называлась. У нас в школе поэтому приключился литературно-художественный монтаж. Это когда пионеры стоят полукольцом в актовом зале и по очереди стихи читают или поют какую-нибудь возвышенную песню. Хлеб всему голова. В нашей стране, что никогда не повышала цены на хлеб… Есть хлеб – будет и песня. Я там Маяковского читал: “А если в партию сгрудились малые – сдайся враг, замри и ляг”. К целине и хлебу это не имело отношения, но зато к Брежневу – непосредственное.
Ну а потом я на флот попал, в Севастополь. Там меня сразу в самодеятельность отобрали – я читал со сцены да на плацу всякие патриотические лозунги, читал хорошо и громко – поэтому меня к этому делу и приставили. Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами своими, ну и всё такое. Меня, конечно, приписали к какой-то лодке, да я на ней всего раза два и был – так-то больше стихи и лозунги вопил.
И вот однажды приезжает к нам Брежнев. Наше начальство решило гостей порадовать и на площади им показать всё то же – что-то литературно-художественное. Ну, время такое было, всё из себя литературно-художественное, чего там.
Надо мне было пройти по площади одному, прямо перед трибуной встать и речёвку двинуть. Текст я сразу выучил, у меня никогда с этим проблем не было, ничего иного я не боялся. Вот отревели репродукторы “Малая земля, великая земля, братство победивших смерть”, поставили меня, толкнули в спину, и пошёл я, печатая шаг. И тут же облился холодным потом – не помню, где остановиться надо, где встать-то.
Трибуна всё ближе. Там как раз Брежнев стоит, орденами сверкает, и этот… Устинов, кажется. И орденов у него тоже хватает, хоть и чуть меньше. Не помню, Устинов или не Устинов. Но мне не до того – только холодный пот под форменкой.
И тут вдруг мне голос такой в ухо – “Стой!” Негромко так, но вот не захочешь – остановишься.
Я встал, отбарабанил речь, да убрался прочь.
Потом специально на эту площадь пришёл – ну нет, нет там ничего, микрофонов специальных ещё не придумали. Крутил-вертел головой, пока не понял, в чём дело. Так я тебе скажу – это голос власти был, не какого-то там особиста, какой там особист за тридцать метров. Особиста такого в цирке надо показывать.
Нет, это власть со мной говорила.
Правда, один только раз в жизни.
Всё, что хотела, сказала и теперь – молчок».
Он говорит: «У меня была вот какая история, когда я ещё в Строгино жил.
А Строгино тогда вовсе не часть Москвы была.
Даже не пригород. Рабочие посёлки да деревни, на меня, когда я в университет поступил, на улице пальцами показывали. Ишь, говорили, дурень.
Лучше б в Красногорск пошёл, на оптический завод.
Фестиваль молодёжи помню, какое-то веселье… На гитарах модно было играть. Гитара в моду входила – раньше-то это был инструмент парикмахеров, так Горький про неё сказал. И вот один мой приятель по десятилетке умел, а другой пришёл к нему в гости. Тот собирался было в магазин, но гость, перехватив инициативу, сказал:
– Костян, ты меня обещал на гитаре… Научить играть на гитаре.
Это была правда – действительно обещал. Но здравомыслящий одноклассник пытался опираться на то, что, дескать, не время, сметана-сыр-хлеб, да бабушка яиц просила купить. Приятель его заметил, что сейчас обеденный перерыв (тогда, молодые люди, в магазинах был перерыв на обед – с часу до двух в продуктовых, и с двух до трёх в остальных), и у них есть ещё полчаса. Он был настойчив, и тогда один одноклассник сказал другому, сняв гитару со шкафа:
– Смотри: вот “звёздочка” вот “баре” вот “треугольничек”[3]3
Музыкальные термины. Баррэ – приём игры на гитаре, когда указательным пальцем зажимается несколько струн.
[Закрыть]… Видел? Ну, всё, пошли!..
Это, я вам скажу, очень правильная история. Потому что в ней были правы все. Прав человек, защищающийся от лупоглазого профана, обуреваемого жаждой знаний. Прав человек, тянущийся к струнам, потому что человек создан для того, чтобы затыкать всякую бочку и долетать до самого Солнца, чтобы никогда не вернуться домой. Все правы. Все виноваты. И виноватых нет.
Мы тут все озабочены своим здоровьем и мечемся из крайности в крайность. Поэтому я буду говорить вам о спекулятивном знании – всё же скоротаем время. Спекулятивное знание не хуже любого другого. Просто к нему есть повышенный интерес у общества. И ещё – этот интерес можно удовлетворить простым объяснением.
Сейчас время демократии, а демократия – это именно простые объяснения. Потому что демократические объяснения должны быть понятны всем. Строятся пирамиды золотого сечения, и святится, будто в храмах, в этих пирамидах вода.
А учёные, которых наняли профаны для обучения, рисуют графики кислотно-щёлочного баланса из телевизионной рекламы – сине-красные, со звоном врезающиеся в ослепительный зуб.
– Что у вас по осям?!! – я сперва так хотел крикнуть в телевизор. Ну, когда в первый раз увидел. Да я знаю, что промолчит телевизор, не даст ответа.
Или вот я всегда, когда мы давали интервью (к нам часто приезжали из газет, всё-таки мы биофизикой занимались), так я своим подчинённым людям грамотным, все почти кандидаты были, говорил, что есть запретные слова. Это выражения «Известно» или «Понятно», которыми предваряется всё неизвестное и непонятное, навязли в зубах. Или чудесное «американцы посчитали» – где, как, какие американцы… Потом британские учёные пошли. Потом снова американцы… Ну, да они всегда что-то считают.









































