Читать книгу "Он говорит"
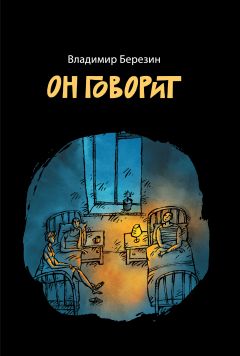
Автор книги: Владимир Березин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Я подошёл и к нам зову. Это секретарши меня попросили, они им очень заинтересовались. “Русское гостеприимство, – говорю. – Добро пожаловать к нашему шалашу”. А он улыбается и отвечает, что нет, девки у вас пригожие, я оценил, но не в этот раз.
И понятно мне стало, что он сам по себе, без баб этих глупых идёт, и без дурацких этих мантр в голове. И без пенсионных восторгов, как разные европейские старушки.
Вот думаю, молодец какой.
За нами джипы приехали – на ночлег везти, а он покрутил головой, на звёзды глянул, вижу – определился. Кинул рюкзак за спину, да и ушёл.
И потом я его в отеле видел.
Ему говорят: “А вы на дискотеку сходите, у нас хорошая дискотека”. А он всё улыбается: “Я, – говорит, – танцую со звёздами. Что мне ваши дела”.
Говорят, американцы – дрянь. Но мне-то достался этот.
Вот те, что к нам в банк приезжают, действительно неважные. Вроде бы всё как у нас, разрез глаз, рот, нос – а видно, дрянь. Но я никому, конечно, не говорю, зачем?
А вот тот был – настоящий.
С таким и воевать бы было – одно удовольствие».
Он говорит при этом: «Я рано начал за границу ездить. Ну, ты помнишь, первый раз в школе, когда нас всех в ГДР повезли. Ты не ездил? А я поехал, конечно. Там смешно было. Немцы все сексом были озабочены. И ещё таблички на туалете поменяли – мужской с женским.
Да не в этом дело – когда ездить можно стало, я всей семьёй катался. А я на машине люблю – самолёты это не для меня.
Да только тогда можно было копейки какие-то поменять. На гамбургеры – и то не хватит.
Но у меня был однокурсник-узбек, а сеструха его в Париже жила.
Вот мы и договорились – я ему рублей на пять тонн грина, а сеструха его в Париже мне местными отдаст. Или – зеленью, неважно.
Вот и поехали – правда, деньги у меня, что я с собой взял, ещё в Германии кончились. Но до Парижа я дотянул, на остаточном бензине. Я уже с некоторой тревогой, у меня ведь жена, двое детей на заднем сиденье, а эту сеструху я в глаза не видел.
Ну, покружил по Парижу, нашёл улицу – не в самом центре.
Притормозил.
Стал на звоночек жать.
Долго мне не открывали. Вдруг дверь заскрипела и выходят: мужик довольно пожилой и с ним девка. Ну, действительно узбечка, я в этом понимаю. Ах, говорит жаль, что вы не позвонили, мы сейчас уходим, у нас тут приём, но вы проходите в дом, располагайтесь, потом поговорим.
Мы и прошли. Оказалось, что это огромный трёхэтажный дом – нашли там на втором этаже комнаты, в одну мы с женой заселились, в другую дети.
Выспались, да как-то жрать охота, а в доме никого, да и денег не прибавилось.
Нашёл я кухню, там пустовато, но я обнаружил макароны, так варёными макаронами с солью и закусили. Детей наново уложили спать, да я смотрю – не спят, о чём-то спорят. Пошёл я к ним, а они в окно пальцем тычут. Глянул я в это окно, а там лес, да не простой. На прогалине стоят трансвеститы в ряд, а дети мои спорят, кого из них первого выберут. Ну и выигравший проигравшему щелбаны лупит.
Прекратил я это дело, задёрнул шторы и пошёл спать.
Хозяева в ту ночь вовсе не появились.
Мы проснулись – и ну снова в кухню, провиант искать. Нашли что-то, грызём. Но вдруг стенка в кухне раздвигается в самом неожиданном месте, и входят парень с девушкой.
“Салют, салют”, – говорят. Ну, мы им тем же отвечаем.
Эти двое в комнаты куда-то ушли, а вышли с огромными сумками. А парень ещё какое-то блюдо со стены снял, да в сумку до кучи сунул. Мы сидим на ровной попе, что это такое – не понимаем. Чувствуем, что на нас ещё не только это блюдо навесят, но ещё и всё остальное.
Стал я тогда своему узбеку звонить в Москву.
Дозвонился.
“А, – говорит, – не парься, братан. Всё тебе будет. Ничего не бойся, у этого француза, говорит, просто весь дом описан за долги перед бывшей женой. А парень этот – его сын от другого, первого брака. Он блюдо не спёр, а по договорённости с отцом, наверное, вынес”.
Продолжаем ждать. Погуляли вокруг дома с детьми, да так, чтобы особенно к трансвеститам на рабочую площадку не заглядывать. Но делать нечего. Снова спать легли.
Слышу, посреди ночи дверь хлопнула, шаги какие-то, а потом из дальних комнат крики раздаются – и не поймёшь, режут хозяева друг друга, или всё же любятся. Вышел я в коридор и гадаю – любятся или режут. Непонятно.
Но от усталости и отупения махнул рукой и решил не вмешиваться.
А проснулся – опять никого нет.
Принялся я тогда снова в Москву звонить.
“А, – говорит узбек, – не парься, они поругались просто. Сестра в Бельгию уехала”.
“Ну, твою ж мать, а где деньги-то мои?”
“А, – спокойно он мне говорит, – не парься. – Я позвонил его пацану, он тебе всё отдаст. Записывай адрес”.
Записал я адрес, взял дочку с сыном, потому что они уже начали чужой дом разносить, и пошёл за деньгами.
Дошёл до этой улицы, спрашиваю у полицейской женщины, правильно ли я иду. А полицейская, такая здоровая негритянка, смотрит на меня с некоторым осуждением, и говорит – правильно, дескать. А сама – то на меня посмотрит, то на детей, и всё именно с некоторым осуждением.
Пошли мы по улице, и тут я понял, отчего так на меня местные правоохранительные органы топорщились. Всё оттого, что в каждом доме, как в витрине, пожилые некрасивые бабы стоят, а мои отпрыски в них пальцами тычут и подмигивают. Но как-то, тем не менее, добрался я до нужного дома – смотрю, а там на первом этаже будто магазин готового платья. Да только платье какое-то странное, висит на длиннющих палках от стены до стены, и снять его, главное, оттуда никак нельзя. Ясно, что эти брюки с куртками там только для отвода глаз. Я только попытался подняться на второй этаж, но из воздуха сгустился какой-то амбал и говорит: “Вам туда не нужно, месье. Просто скажите, кто вы и к кому”.
Я имя назвал, амбал и исчез. Потом возвращается и суёт мне конверт.
Я сунул туда руку, пересчитал. Пять штук, всё как обещано.
Подхватил детей, да и ходу оттуда.
Позвонил потом и своему узбеку, а он отвечает: “А, ты не парься. Только не парься, да? Этот чувак там в качестве фашиста политикой занимается, ну нормально, да?”
Хрен, думаю, с этим Лувром, завезли детей в Диснейленд, а потом и ломанулись прочь.
От добра добра не ищут.
Я это тебе вот к чему рассказываю – ничего лучше, чем пластиковые карты, человечество ещё не изобрело. Ответственно тебе говорю».
Он ставит стакан на тумбочку и говорит: «А друга моего одна гражданка пригласила на Новый год к себе в общежитие. Танцы-шманцы, море пойла, и, самое главное, он уже с дамой, то есть искать ничего не надо, можно расслабиться. Ну и расслабился он – литра на полтора. Потом она притащила его в комнату, упала на кровать, повалила, и давай целовать, да так настойчиво, что у него это вызвало рвотный рефлекс.
Пришёл он ко мне, неудовлетворённый и печальный.
Чтобы утешить его, я ему рассказал историю про искусственное дыхание.
В одной медицинской организации я как-то видел манекен, на котором отрабатывают навыки искусственного дыхания.
– А что это он у вас какой-то странный? – спрашиваю.
Сотрудники медицинской организации мне печально рассказывают, что вот была тут медсестра нетрезвая, начала, извините, “рот в рот” делать, да не сдержалась.
Очень извинялась, потом вымыла манекен, попробовала снова.
И с тем же результатом.
До белизны его замыли.
Ну а переживать-то что?
Житейское-то дело – будешь болтаться между жизнью и смертью, так что тебе до чистоты и благоухания.
Так и в любви – любовь ведь, что смерть. Не бойся ничего, да только умойся, конечно».
Он говорит:
«А я пью мало, хоть всю жизнь водкой занимался.
И больше всего ненавидел застолья. Приду куда-нибудь, так обязательно хозяева говорят: а вот Анатолий Петрович, он водкой занимается. И все так сразу начинают меня расспрашивать, правда ли её Менделеев придумал. А как скажу, что Менделеев не придумал, так они начинают спорить, сколько водка в 1955 году стоила. Ну, как повымерли эти, так на смену пришли те, что спорят, почём она была в 1975 году.
Или заведут разговор о гранёных стаканах и кто-то, закатив глаза, спросит:
– А знаете ли вы, сколько граней у гранёного стакана?
И через паузу обращаются ко мне, как к арбитру изящных искусств.
Отвлекают от салата, или там, от селёдки под шубой.
И про Менделеева я им рассказывал, и ответ про гранёный стакан, и про ректификационные колонны.
Это всё было донельзя утомительно.
А водка строгий напиток.
Вот коньяк менее требователен, а водка требует температуры и закуски… Впрочем, что это я.
Ну, привык, да.
Но я ведь не производил водку, я ей торговал. Но у нас, кто вообще к ней имеет отношение – тот вроде как к культу причастен. Что-то вроде посвящённого.
А водка такой продукт, что в ней много от этикетки. Ну ещё от бутылки. Вот как-то давно у меня были клиенты, что выпустили водку в виде снаряда. Я тому не весьма удивился – торговал я водками и в виде мечей, и в виде ружей, и даже редкими бутылками в виде самовара.
Приехал к ним в офис, там, на видном месте стоял стенд, где сверкала этикетками их жидкая продукция. Среди прочих была знаменитая бутылка в виде снаряда. Мне, правда, говорят, что это не снаряд, а патрон.
Говорю:
– Мне рассказывали про эту бутылку странную историю…
– А какую именно? – насторожились хозяева.
– Ну, – отвечаю, – было несколько братков, один убил другого на разборке, а третий заказал в память убитого производство водки. И её в честь покойного назвали.
– О, нет! Совсем нет, – ответила мне тогда начальственная женщина с улыбкой, – Как вы могли подумать! Это всё было совсем по-другому…
– А как же?
– Их было трое, и они были учредители одной фирмы. И один из них действительно… хм… пал.
– Пал? В смысле?
– То есть, погиб. Кто-то его заказал. И вот тогда его жена придумала про водку… Тут, главное, придумать что-то трогательное – сначала мы думали загадки какие-нибудь, но про то, сколько граней у гранёного стакана, про Менделеева… А теперь мы придумали водку, где на этикетке птицы летят. Ну, помните, – в строю там промежуток малый, быть может, это место для меня. Не помните? Ну, песня такая, Бернес её ещё пел. Мы когда эту водку придумали, так плакали. А один наш начальник так пел даже.
Пел и плакал.
А мы подпевали, знаете как трогательно? Про погибших потому что.
– Ну, разумеется, – поспешил согласиться я, – конечно».
Он говорит: «Мы с друзьями любим собираться без жён.
Как-то сошлись за столом как державы-победительницы, как герои анекдотов, как три товарища и три поросёнка.
Начали говорить о былом.
Один из нас предпочитал играть в компьютерные игры, которые, знаешь, предназначены для ломки клавиатуры. “Doom” пел в его телефоне, а по улицам он двигался как Дюк Ньюкем. Другой предпочитал медленный онанизм стратегических игр, он часами мог смотреть на шкалы в углу экрана и улыбаться своим достижениям – два пункта вверх на зелёной и полная стабильность на красной.
Я вот любил ночное очарование квестов, запутанные интерьеры чужих комнат, затхлые лестницы старинных особняков и лесистые местности, обильные магическими предметами. Квесты были играми, что обросли правилами и ритуалами – от медлительного коньяка и шерлокхолмсовского пыхтения трубкой до неписанного этикета. Думаешь, можно подглядеть в солюшене? Нельзя, нельзя! Подглядишь один раз, будешь как жена, подделывающая оргазмы. Настоящим никогда больше не поверит. Сам себе не поверишь.
Оттого можно в любое время дня и ночи совершить звонок другу, спросить его о чём-то, обрисовать ситуацию, и, путаясь в числительных, описать свои шаги. И вот уже, если решение не подсказано сразу, на разных концах города два человека, дыша в телефонные трубки, бродят по одним и тем же комнатам.
Это нормально.
Это правильно.
Я часто рассказывал об этом и ещё полдюжины иных правил игры, но однажды, впрочем, это привело к неожиданным последствиям. Как-то ночью меня разбудил телефонный звонок – так, кстати, начинаются все мерзкие детективные романы. Кругом струилась слякотная зимняя ночь, снег хлюпал под шинами редких автомобилей, а в трубке раздался печальный голос моего друга:
– Знаешь, ко мне пришла смерть, но я не знаю, что ей предложить.
Я сразу все понял. Я представил, как одеваюсь наспех, и оскальзываясь в снежной воде останавливаю попутную машину, думая: успеть – не успеть, закрыты ли там окна… Прошли несколько томительных секунд, и голос снова зазвучал в чёрной пластмассе:
– Видишь ли, смерть хочет паштета, а у меня нет ничего, чтобы его приготовить…
Тут я снова понял всё, но – иначе.
Я как-то подарил другу игру имени Монти Пайтона, в которой страшная смерть приходила к бестолковым сквайрам и клала их рылами в тарелки. Лососёвый паштет был несвеж, лососёвый паштет протух, и ничего с этим нельзя было поделать. Перед гостями было неудобно, и перед американскими друзьями было неудобно, но конец и в этом ролике, и в этой игре был один – души, отделённые от тел, садились в души автомобилей, отделённые от жестяных коробок, и все летели за смертью точь-в-точь как в известном фильме режиссера Бергмана “Седьмая печать”.
Однако тухлый паштет не складывался в компьютере моего друга – укроп был забыт на одном уровне, а луковица – на другом. Придя в себя и чувствуя, как втягиваются мурашки обратно в кожу, я начал уныло и монотонно перечислять рецептуру паштета, которую требовали остроумцы, сочинившие игру.
Затем засунул телефон под подушку и заснул. Плыву себе среди московской ночи на встречу с голыми тётками в шлемах для регби, протестантами с презервативами и многодетными католиками, а также сварой старых офисных пердунов, вообразивших себя пиратами».
Он говорит: «Я во всем люблю порядок и точность, а ещё, чтобы опечаток не было.
Когда я школу закончил, то считал себя довольно грамотным человеком. Так, собственно, и было – и вовсе не потому, что я хорошо помнил правила. Просто я очень много читал и запоминал верный вид слова или предложения. Как иероглиф. У нас-то везде корректоры были – целая армия.
С тех пор много воды утекло, и вообще все переменилось.
Мы как-то поехали в Китай, почетные гости, всё-таки трубу туда тянем. Там торжественные мероприятия: с их стороны – балет, с нашей – хор.
У них человек двести на сцене, ясно, что людей там много, даже избыточно много, я бы сказал.
Но надо своих граждан чем-то занять, отношусь с пониманием.
Так что наблюдаем мы с главным инженером танец “Река Хэйлудзян длинная”, и понятно нам, что в нем ни одна камышинка не забыта, да и все рыбы этой реки представлены. Длилось это бесконечно, как бесконечно на заднике лазерами рисовали русско-китайский узор. Он все разворачивался, как какой-то бесконечный жостовский поднос, и меня он вконец загипнотизировал.
Но тут и наши подоспели. Наших тоже немало было – двести не двести, но человек пятьдесят точно.
Тут я и увидел русский хор во всем его изобилии.
С ай-люли и ой-держите-меня-семеро.
Китайцы им довольно смешно подпевают, однако ж и тут я с уважением.
Смеяться над тем, как китайцы по-русски говорят и пишут? Я и сам видал в Харбине вывеску “Отелище Санкт-Петербург”. Петербург тоже с ошибкой, но не помню какой. А уж сколько ошибок я в документации насчитал – не счесть. За такие ошибки русский человек своего соотечественника полжизни поедом будет есть и все не насытится. А китайцы – ничего, для них время главнее. Чем больше, тем лучше. Смешки на вороту не виснут, а пока ты будешь ошибки исправлять, да правильно их иероглифы писать, они тебе лишние сто тысяч чайников продадут. И мильон отверток в придачу.
Под конец наши спели “Катюшу” и вызвали у публики сущий восторг. “Катюшу” тут пели все – радио на улице, телевизор в автобусе и женский военный оркестр по звучанию, правда, похожий на выводок резиновых утят.
Но тут приехали настоящие. Специалисты приехали, что не только нот, но и падежей не путают.
Это как если бы в восьмидесятом году прошел слух, что к нам с гастролью пожаловал человек, правильно поющий “Шизгару”. “Шизгару” помнишь? А, ну да неважно.
Даже мой главный инженер, что на просмотр не отвлекался, а всё чертил да прикидывал что-то про нашу трубу в блокнотике, ручку бросил и голову в плечи втянул.
Ай, держите меня семеро, ай люли, и всё такое се тре жюли.
Одним словом, начался такой рев, что его не сразу заглушил залп фейерверка.
В общем, как не криво у китайцев с чужими языками, а проняло их правильное пение. Придет к ним точность и русская грамматика, чую я.
Хотя, может в этом и погибель для их небрежной империи.
Как для нашей как-то случилось».
Он говорит: «А с Петровичем неприятная история получилась. И всё потому что ему было неподвластно метафорическое рассуждение. То есть, оно владело им, а не он им пользовался. Во всём он видел какое-то иносказание, а как начнёт дорогу в туалет спрашивать, то вечно его то в храм посылают, то в библиотеку.
Мы на англичан тогда работали в одном среднеазиатском аэропорту.
Прибегает он как-то к нам и кричит, что пришла телефонограмма: “Никаких обезьян на борту”.
– Это ещё как? – кричит. – У нас полборта таких, надо ссаживать!
А поскольку он был мужчина заполошный, то у нас началось бурление и ужас.
Дело, оказывается, было в том, что в Африке вышла у англичан заковыка с обезьянами. Повезли они обезьян из Африки куда-то в прочие, высокоразвитые места, где на обезьян смотрят за деньги. Ну, повезли, разумеется, в клетке, не так чтобы в салоне. Но беда в том, что тем же бортом в грузовом трюме повезли бегемота. Бегемот большой, везут его, как трактор – ноги закрепляют, а под брюхо подводят брезент, и висит бегемот как весёлые женщины в неприличных фильмах. А чтобы бегемот чего лишнего не сделал, то ему обматывают пасть специальным скотчем.
Ну и висит бегемот в этаком виде, да только ему поставили клетку под нос. А в клетке обезьяны.
Обезьяны бегемота увидели, и ну веселиться. А бегемот только глазами зыркает и переживает.
Обезьяны прыгают, и хоть достать бегемота не могут, радуются его униженному положению, а потом и вовсе стали его какашками закидывать.
Гадят, хохочут, кидаются.
А самолёт летит.
Бегемот повисел в своей косынке, а потом и обвис. Умер от обиды.
Или от инфаркта, как сказали ветеринары.
Поэтому решили англичане больше никаких обезьян не возить. Ни под каким видом, нигде и никогда – и издали строгий циркуляр.
А Петровича с его неуместной исполнительностью, конечно, остановили, всех успокоили, да только всё равно со службы выгнали.
Метафорист хренов, нам его долго поминали».
Он говорит: «…Сейчас все слишком много ездят. Бессмысленность этого понимаешь, только если достаточно долго лежишь на одном месте. Больше тебе скажу, никто не знает, что смотреть в чужих местах. Вот я живу в Москве и иногда показывал мой город приезжим людям. Тут есть два способа: ну, надо человеку увидеть Красную площадь. Или что-то в похожем стиле – и вот ты тащишься туда вместе с гостем.
Иногда тебе жалко денег на билеты или там жалко времени.
Со мной такое бывало и с другой стороны – вот идёшь по улице, и понимаешь, что твой троюродный брат тебя потихоньку начинает ненавидеть, а тебе-то ни за каким хреном не сдалась наша художественная галерея.
Мне, кстати, легче всего было с мизантропами из других городов. Мы с ними мрачно выходили в их утренние города, выветривая вчерашний праздник моего появления.
– Это – Саныч, – мрачно говорил абориген. – Знаменитость.
– Почему? – спрашивал я.
– Не разбавляет, – отвечал мой абориген. – Один на всём побережье не разбавляет. Мы садились под тент с полустёртыми надписями и пили разбавленный рислинг Саныча.
Или я приезжал в странную местность, и новый знакомый брезгливо тыкал пальцем в разрушенные ракетные шахты.
– Чё там?
– Бесы, – отвечал хмурый человек. – Туристы ещё тут пропали. Аномальная зона.
– А как это вышло? – невежливо спрашивал я.
– Да хрен его знает, – говорил он, предоставляя мне на письме заменить существительное. – Ты знаешь, поедем лучше к ребятам, они тут сома поймали.
– В шахте?
Тут он молча поворачивается, и я тороплюсь за ним к трактору, надеясь, что он разрешит мне ехать внутри, а не снаружи.
Я не буду тебе рассказывать те истории, которые случались со многими – когда в гости приехала подруга дальней родственницы, которая тебе нравится. Второй способ – показать гостю что-то тайное. Солнечные часы на Мясницкой, скверик со странным памятником, Люблинские фильтрационные поля, наконец. Нормальному человеку нечего показывать дом Пашкова в Москве. Во-первых, человек средних лет дом Пашкова может найти сам, видел его неоднократно, да и тут надо о нём что-то интересное рассказать (а не лезть в Википедию украдкой и с телефона). Нет, если у вас знакомый сторож в зоопарке, который может пустить туда ночью, если можно доставить гостя в тайные ходы туннеля на Алабяна или заброшенную усадьбу. Или всяко куда-то без билетов провести, тогда – да.
Меня как-то провели на маленький завод. Там кузнечный молот, поднимается-поднимается – и… фигак! фигак!
А болванку под ним даже не видно.
Ты голову втягиваешь так, что каска врезается в плечи, а он снова – фигак!
Красота.
Или вот на сыроварне я как-то был – впечатлён был несказанно».
Он говорит: «А когда очень больно, думаешь, конечно, о смерти. Но эти мысли довольно быстро уходят, человек вообще сильно к жизни привязан.
Для того, чтобы к смерти прийти, нужна долгая школа одиночества.
Вот был у меня друг, что давно уехал – да не на Брайтон или там в Тель-Авив, а в совсем далёкую страну, под пальмы.
Жил там один, семейная жизнь у него не заладилась.
Я приезжал к нему и думал, что, несмотря ни на что, жизнь его неплоха.
Только однажды, когда мы ехали в ночи и остановились на какой-то заправочной станции в Андах, он пошатнулся, и пришлось его поддержать.
Был раньше он высок и тяжёл, можно сказать, грузен.
А за время жизни вдалеке стал похож на какого-то конкистадора. Загорелый, с бородкой, красавец, – но, оказалось, точила его болезнь.
Он пришёл в себя и начал мне пистолет свой показывать.
Там было разрешено свободное ношение оружия, и, первое, что он сделал, приехав туда, так завёл себе этот пистолет.
А главное, пистолет этот я в руках держал.
– Хочешь, – говорит он мне, – пострелять?
– Ну его, – отвечаю. – Настрелялся.
А пистолет был такой большой, под рост ему. Удачная модель, бразильский аналог «Беретты».
И я ещё несколько минут помнил, какой у него магазин – двухрядный или нет, и какова скорострельность, с такой гордостью он говорил о нём – поневоле запомнишь.
А сам уже тогда был болен; и как его повело на бензозаправке, и вес его большого тела, я потом часто вспоминал.
Ну и поехали дальше.
А дальше был океан, и будто бы всё хорошо».
А ещё он говорит: «Она не придёт. А Фролов и вовсе во Францию уехал. До Фролова сейчас не достучишься, гон у него сейчас. Негритянок, поди, французских ловит. А она… Не, она не придёт – у меня с ней странная история приключилась. Она меня приревновала. Пришли все они ко мне в гости: жена, понимаешь, уехала, родители – на даче. Фролов пришёл с коньяком. Пришла ещё такая прекрасная девушка – из бухгалтерии, ну к ней она и приревновала. “Нет, – позвонила и говорит, – не надо нам больше видеться”. И главное, какую глупость ещё уделала – она босоножки этой девушки зачем-то спрятала.
Что, говоришь, Фролов их мог по пьяни, одеваясь, куда-то запинать? Нет, шалишь.
Она их под одеяло в соседней комнате засунула.
Мы их еле-еле наутро нашли».
Он провожает гостей до лифта и говорит, распределяя продукты в тумбочке: «Я гостей люблю, я одиноких женщин с прицелом опасаюсь. Одинокие мужчины ещё страшнее – если они не находят женщин, то вкладываются в мужскую дружбу, состоящую из разговоров под водочку.
Ты, наверное, знаешь, что есть такой жанр – поиски пары для кого-нибудь из друзей.
Чаще всего это делается на выпасе – где-нибудь на природе, среди трав и чадящих мангалов.
Вот эта подруга моего приятеля, что сейчас приходила, как-то, ощупывая меня взглядом, как помидор в “Пятёрочке”, сказала, что если я займусь собой, то могу на что-то рассчитывать у женщин. Ну и похудею… Тут она сделала неопределённое движение, которое означало, что мне нужно уменьшиться вдвое.
Но я был мудр и не острил по этому поводу.
Это был тот случай, когда хозяйка придирчиво смотрит, чтобы все за столом прилежно ели. Когда кто-то рассеянно смотрит в окно, это хозяйку настораживает. Мне, впрочем, нужно сказать честно – мужчине льстит, когда им интересуется сводня.
Это поднимает самооценку, даже у такого, как я.
Как-то эта милая дама придирчиво спрашивала меня, понравилась ли мне её подруга, что я видел в прошлый раз. Мне хватило милосердия не касаться темы усов и того, что не только я могу уменьшаться в размерах.
Подруга эта шла в бассейн, и её уговорили поехать кататься, потому что там будет интересный мужчина. Не представляю, до какой степени отчаяния можно дойти, чтобы не пойти в бассейн в таком случае. Но, так или иначе, мы оказались в одном автомобиле, и оказалось, что она из Тольятти. Я сказал, что работал с Тольятти лет десять назад, а мой однокурсник был членом совета директоров Автоваза. Тогда она мне рассказала, что её родной город разорили москвичи, чемоданами вывозя оттуда деньги, и она была вынуждена переехать в Москву.
Нет, я знаю, чем кончаются все эти прогулки для случки. Нет-нет, только хардкор и айпад.
Но я то и дело среди своих стареющих друзей встречаю вопрос – где теперь знакомятся с женщинами?
Это начинается, дружок, после полтинника.
Причём и у мужчин тоже. Я так вообще считаю, что если человек научился дрочить, то такой суетливости у него возникать не должно.
Главное, не сам вопрос, а подтекст в разговоре о том, где теперь знакомятся с женщинами немолодые люди. Он в том, что жизнь должна предоставить человеку немного удовольствий, в том, что где-то наверху всем выписана пайка.
И для её получения нужно знакомиться.
Но – зачем?
Это правильный вопрос – «Зачем?»
«Зачем?»
Вот важное свойство мироздания, и это «Зачем?» не обойти, не объехать, можно только умереть возле его подножия. Зачем встречаться, зачем – всё? Продление рода, наследники, командующие таджиками, что выносят твой скарб на помойку, или наслаждения, что всё менее и менее доступны, для лучшего получения которых придумано пол-интернета, зачем?
Тут нужно встать в позу пророка и начать вопить посреди какой-нибудь дачной местности:
– О, иллюзия чужой теплоты, временные радости приживала!
Зачем, чем это всё лучше ночного отчаяния и всего известного всякому стареющему мужчине набора, где характер крут и, посверкивая циркулем железным, кто-то замыкает круг, не внемля увереньям бесполезным?
Прежняя любовь лучше новой, особенно если любовь пропустить между пальцев, как песочное время.
Где же жёны твои? Пытками затравлены, зельями отравлены.
Оно, конечно, в девятнадцать, хочется вырваться из циркульного круга, но когда за сорок, разве заглядывать в пропасть не милее?
Место встреч?
Музей, говорите? Театр с его экспериментами?
Катание на горных лыжах? Можно оценить всю стать партнёра. Крепость, так сказать, членов.
Горные лыжи устанавливают, кстати, и имущественный ценз.
Для этого годится так же и дайвинг.
Но рынки садоводов! Буйство рассады, лопаты, не нюхавшие земли и горящие на солнце, дачное дикорастущее счастье! Бойкая бабулька – награда тому, кто поддержит разговор о луховицких огурцах и поправке к закону о пенсиях.
Мы – жители Шеола, а вот у свах и советчиков кровь ещё тёпла – оттого и советы такие.
А надо пристальнее оглянуться – и делов-то.
Шеол».
Он говорит: «Мне сперва мешало, что я пьяных не люблю. Пил как-то с ними наравне, но всё время как-то грустнел.
А грустнел я от того, что мои собеседники нравились мне всё меньше и меньше, с их нетвёрдой уже речью, с дурацкими шутками… А ведь это были те люди, с которыми я полвека отмахал по жизни, и иных уже не будет.
Среди ночных разговоров с алкоголиками я пытался запомнить некоторое наблюдение: мне стали интересны человеческие судьбы, судьбы старых знакомых. За много лет судьбы эти поворачивались, дёргались из стороны в сторону, и живой человек, с которым я был неблизко (важно, что неблизко) знаком, превращался в персонажа. И моя судьба виляла, происходило то, что один удавленник точно описал «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?!» – с таким оттенком недоумения и ужаса. Но вот дальние знакомые – да, с ними всё выходило ужасно интересно – как на сцене. Вышла замуж за француза, Работает главой представительства. Лежит на Донском. Уехал в Новую Зеландию – удивительно, к каким коротким предложениям сводима чужая жизнь, и ты-то думаешь, что твою жизнь так просто не опишешь.
Ан нет, опишешь.
Очень даже опишешь.
Некоторый и вовсе одним словом – пьёт.
Пока ещё с моими алкоголиками интересно, и я обнаружил ещё одно (то есть, я это и раньше замечал, но в эту ночь как-то особенно заметил) – это особенный тип суетливости пьяного человека.
Пьяный человек, в своей средней, промежуточной стадии опьянения, очень хочет быть полезен обществу, и начинает кормить окружающих.
Вернее, пытаться кормить.
То есть, он развивает какую-то утомительную активность, причём алкоголик в этот момент забывает, что он не дома, и принимается командовать. Он норовит кормить женщин сложной судьбы, оказавшихся за столом, но, обессиленный, требует этого от меня, как от владельца трактира.
Это какое-то очень странное сочетание настойчивости и бессилия.
Я им дивился.
Всё было бы ничего, только с течением времени неизбежно развивается алкогольный делирий.
Суетиться приходится уже по поводу жизни и смерти самих алкоголиков, с их сложной и интересной судьбой. Долг прежней дружбы заставляет.
Хорошо, когда есть знакомые на скорой помощи и в «психушке».
Это, как правило, недолго.
Тем более, если жить на разных концах города, это становится лёгкой и необременительной ностальгией, а не тяжким трудом обречённого родственника.
А? Мои проблемы? Нет, мои не из-за этого.
Мои чёрт знает от чего, врачи гадают. Я сейчас больше ссусь в эти банки, чем в унитаз.
Но это не повод полюбить пьяных, нет.
Не люблю и всё там».
Он говорит: «Мы тут все с телевизорами лежим, да каждый второй с компьютером.
А я как лежал в прошлый раз, видел одного – так тот всё боялся, что помрёт, а медсёстры его почту прочитают. Ну, нормальный страх.
Стирал всё сразу, суетился. Заговорили мы с ним о взломах частной и рабочей почты – рабочей, это совсем другое дело, но вот частное нас, несмотря ни на что, тревожит больше.
Но дело не в этом – каждый раз, когда случается мелкое в масштабах человечества наступление на приватность, люди вздрагивают.
Хотя казалось, что день за днём окружающий мир доказывает нам, что никакой приватности в нашей жизни нет.









































