Читать книгу "Он говорит"
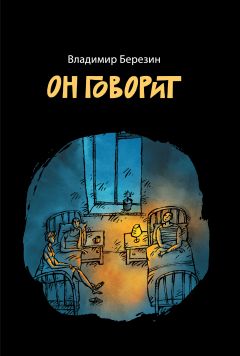
Автор книги: Владимир Березин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Потом, конечно, боялся тёток на улице – особенно многоюбочных цыганок, что шипели на меня и звали с собой. Я был тогда маленьким глупым бандерлогом, и их шипение для меня было властным голосом Каа.
Но потом пришла пора перевода страхов в фобии – да, я нескоро узнал, что это такое, но узнал, как и слово импринтинг.
При этом переводе страхи меняли свой смысл.
Я возненавидел яркий электрический свет в комнате ночью, что жёлтый – от ламп накаливания, что белый – от люминесцентных ламп, что трещат сверчками под потолком.
Началось это с детства – когда зимой надо было просыпаться рано и идти в школу. Я просыпался зимой и видел тонкую полосу света между косяком и дверью, свет вытекал, сочился как жидкость.
Раздавался долгий вой электрической кофемолки – это отец собирался на работу.
С тех пор я и не люблю зимнего желткового света. Лампа должна стоять на столе и выхватывать круг из чёрной комнаты. Как-то с этим связана привычка спать ногами к окну, чтобы, проснувшись, заглянуть в небо – не вставая.
Странная вещь воспоминания.
Вы ещё слушаете, да?
Там, в воспоминаниях, много ещё что есть. Журналы старые – смазанная графика трёхцветной печати “Крокодила” и “Наука и жизнь”. В “Науке и жизни” были мистические советы как из катушки для ниток сделать дирижабль. А потом ещё сотню полезных в хозяйстве вещей.
Называлось это, конечно “Маленькие хитрости”.
Большие хитрости – это был, разумеется, кроссворд с фрагментами. “Кроссворд с фрагментами” был, конечно, абсолютно борхесовским описанием мира – животное, нарисованное бамбуковою кистью (восьмое по горизонтали), мохнатое северное животное (десятое по вертикали).
И тут же – фрагмент печени единорога в разрезе.
Как тут не повредиться рассудком?
А мне самому разгадать было невозможно – поскольку разгадывание это было семейным мероприятием. Примерно таким же, как игра в лото – где-нибудь на дачной веранде, под абажуром, где все в парусиновых пиджаках.
Поэтому одному заняться этим было совершенно невозможно, страшно и бессмысленно как поход на кладбище в одиночестве.
А потом уж эти кроссворды исчезли как динозавры.
Я как-то всё отвлекаюсь, но вы дослушайте.
Потом наступила пора детских школьных страхов-неврозов – того времени, когда шариковая ручка учителя ползёт по школьному журналу сверху вниз, и ищет себе жертву.
А потом и вовсе страхи стали пошлыми – что не хватит денег, что потеряешь билеты или паспорт, что не пустят туда или сюда, что придут таможенники и всё отберут. Страхи эти были мелкие, как тараканы, и, как тараканы, они были подавлены, потому что я знал про себя, что настоящий страх – там, в детстве.
И в час перед концом вернётся.
А пока он только томится в духовке.
Готовится.
Подходит.
Страх очень питателен».
Он говорит: «Подруга моя, она верстальщицей работает, сказала, что всякая женщина должна порвать со мной отношения, если я покажу ей нашего профессора. Всё потому что она поймёт, в какой бездне с такими друзьями я нахожусь.
По секрету скажу, что она считает, что никого из живущих нельзя к профессору.
Она слышала, как он пел.
Но так-то профессор – единственный, кто из наших в люди выбился.
Пьёт, конечно. Но кто без греха?
На помин пьёт и за здравие.
Ну, а какое доброе здравие у алкоголиков?
Одна беда – я научил его покупать хороший виски. Дело в том, что когда наш приятель перебрался в Англию, то спросил меня как-то, что привезти. Я ему и сказал, что мне нужен для подарка виски “Гленморанж”. “Давай, – говорю, – я у тебя его выкуплю. В Москве он сумасшедшие деньги стоит, а у тебя в три раза дешевле”.
Пришёл за ним, а мне наш новый англичанин и говорит:
– Ты знаешь, профессор наш нашёл бутылку и всё выжрал. Из горла.
– Ладно, – не обиделся я, говорю, – в следующий раз.
В следующий раз случилось, впрочем, то же самое.
И в третий – то же.
Наконец, сам профессор съездил на скалы туманного Альбиона, или что там ещё в тумане, да и сам привёз бутылку.
И вот испытывал я смешанные чувства – сидит твой друг и “Гленморанж” этот “Пепси-колой” разбавляет.
Глотнёт и маринованный опёнок в рот кинет. Глотнёт и кинет – я бы ему за такое веточку повилики в зад сунул.
Но терплю.
Ну, подруга-то моя считает, что он человек конченный, и ничего тут уже не поделаешь.
Я-то с ней отчасти согласен и иногда тоскую по прежним годам, когда это веселье было основано на молодости и свежести, а мы были пьяны воздухом, а не водкой.
А тут – иные времена.
Не всякий примерится.
Особенно к тостам под просмотр кассеты “Мы на байдарках в 1985 году – промокли, сушимся и поём”.
Я уж на что крепкий, в морге работал полгода, а этого не выдерживаю.
На байдарках… И скупая мужская слеза в рюмку капает.
Другое дело, что у профессора, когда туда приходят старички в товарных количествах, всё не так ужасно.
В общем, там тогда – жизнь, только причудливая, конечно. Опять же, живое пение на разных языках.
Тут я тебе вот что скажу: есть, к примеру, пьянки бодрых людей, где знают толк в закусках, и не мешают “Гленморанж” с колой, но такое самодовольство сочится из них, что прибежишь к нашему профессору и заснешь у него на плече, рыдая.
Дело в том, что у алкоголиков интереснее, когда у них кворум.
А вот когда один Шляпник, без Сони и Мартовского зайца, то создаётся искажённая картина.
Тяжесть и байдарки.
Мы – уходящая натура. Вымирающие алкоголики имени Венедикта Ерофеева.
Хороши в малых порциях. С голодухи».
Он говорит: «Смотри, что в газете пишут: “В 1942 году молодая парижанка, опасаясь преследований нацистов, была вынуждена бежать на юг Франции, оставив роскошную квартиру в Париже, в которую с тех пор она так и не вернулась. Спустя 70 лет квартиру, наконец, открыли”.
Представляю себе, что там – пылищи скока. Семьдесят лет – стало быть, две тыщи двенадцатый.
Что, говоришь, у нас такого не могло бы быть?
Почему? А, типа, тридцать седьмой, совслужащая, опасаясь внезапного ареста, бежала в архангельскую деревню, оставив квартиру в Москве? Сгинула, и вот квартиру открыли?
Да может, легко. Легко. Слышал о композиторе Богословском? Есть известная жестокая шутка приписываемая Богословскому, про то, как он гербовой частью пятака опечатал квартиру своего товарища Владимира Хенкина, и тот неделю где-то прятался.
Так что – легко.
Опечатай, да и дело с концом до новой власти простоит. Если бы в моём любимом романе комната лётчика Севрюгова была отпечатана пятаком, вся Воронья слободка ходила бы мимо на цыпочках. Советский человек любой сложности замок мог сломать, а вот эта бумажка была, что броня.
Другое дело, что в этом случае – ну, чтобы простоять семьдесят лет – бумажка должна быть розыгрышем.
Ну или там какая иная бумажка с распределением жилплощади новым хозяевам под шкаф завалилась.
Годы идут, соседям в коммуналке радость – меньше по утрам очередь в сортир, ЖЭК информации не имеет, пауки в углах мирно едят мух, а музей советского быта ждёт открытия.
Ну – это когда бумажку снимут.
Кстати, парижская история мне представляется довольно невероятной. Потому как шурин мой имел дело с французскими налоговыми органами, они какой-нибудь налог и с того света настанут, а за недвижимость, так уж наверняка.
Так что можно предположить, что кто-то его платил (так и общую коммуналку), а это уже не так поэтично.
Ну, конечно, она могла быть съемная, но тогда нужно допустить, что что-то случилось с хозяевами, что её сдавали. К примеру, поручили дела адвокатской конторе, а банк автоматически перечислял деньги по обязательным платежам. Теоретически можно допустить, а практически не очень. Мне кажется более вероятным, что состоятельная женщина платит за всё, а не едет домой по своим психиатрическим (скажем) причинам. Отрадно то, что сосед сверху её ни разу не залил.
Всё может быть у нас.
И, одновременно, ничего нигде быть не может».
Он говорит: «Дело в том, что есть определённый возраст, когда мужчины начинают помирать.
Это примерно так же, как с военными ракетами.
Большинство из них устроено так – там сначала что-то подбрасывает их в воздух, а уж потом стартует основной движок. На подлодках обычно их сжатым воздухом выбрасывают, ракета подлетает над водой, а потом у неё включается маршевый двигатель.
Так вот, с мужчинами – то же самое. Есть нормальный возраст (сейчас это около сорока-сорока пяти), до которого дотягивают те, кто не имел никаких явных патологий. То есть, на игле не сидел, стритрейсером не был и т. п.
А потом организм начинал сыпаться – если ты, конечно, не начал бегать по десять километров через день. Ну, или если ты не фанатик, что верит в своё предназначение, в свою церковь, в свою музыку, свою науку или что-нибудь подобное.
Тут не только в чистом здоровье дело, а в том, что внутри головы.
К примеру, начинают мужчины нервничать, бросаются во всякие приключения, и нате – лежат они на горном склоне, похожие на карасей в сметане.
То есть, время от времени организм спрашивает: “Ну, что, пора?” – такой вот внутренний диалог происходит. В кино он обычно закадровым голосом озвучивается.
И если подсуетиться, упредить, то следующий раз он спросит лет через двадцать. Ну, или там через десять.
Так что видал я много людей, что были людьми постепенными. Ставили в жизни по маленькой, начинали бегать по утрам и вечером, не когда нужно было сбрасывать вес, а задолго до сорока. Если кто-то, очертя голову, бросался в какую-то восточную брахмапутру, то был не жилец, но вот те, кто сочетал липовый цвет и пророщенный рис, немного алкоголя и пробежки по утрам – те, да, жили долго.
Тут главное было – миновать опасную зону календаря, когда мужчина вскидывается, вспомнив, что он недолюбил и недожрал.
А так – те, кто минуют эту черту, так живут дальше без особых забот.
Жизнь-то сделана.
С внуками гуляют, лечатся от постепенно наступающих болезней».
Он говорит: «Получил я как-то наследство. Никогда в жизни наследства не получал, а вот случилось.
Умер мой отец, и начался вокруг его завещания какой-то нехороший делёж.
Я же, вслед Онегину, довольный жребием своим, устранился от этой склоки.
И вот, когда для симпатичных мне родственников дело разрешилось положительно, мой дядюшка повёз меня в давно осиротевшую квартиру.
Положил он передо мной красную коробку с орденами и курительную трубку с янтарным мундштуком.
Вот это было королевское наследство. Настоящее, мужское.
Я приехал домой и докурил табак в трубке, что жил в ней много лет, потеряв хозяина.
И тут начал рыдать.
Ты ведь читал О.Генри? Читал, да?
Есть у него такой рассказ, что называется “Попробовали – убедились”. В нём спорят о литературе редактор модного журнала и некий беллетрист. Последний издевается над мелодраматическим стилем в духе “Да будет всевышний свидетелем, что я не успокоюсь до тех пор, пока бессердечный злодей, похитивший моё дитя, не испытает на себе всей силы материнского отмщения!” Они решают поставить натурный эксперимент и бредут к беллетристу домой, чтобы напугать его жену и посмотреть что выйдет. Но они не знают, что жёны их обоих дружили и только что убежали вместе, покинув и нищего беллетриста и преуспевающего редактора.
Тогда редактор, хватается за сердце, а беллетрист, став в позу, произносит:
– Господи Боже, за что ты заставил меня испить чашу сию? Уж если она оказалась вероломной, тогда пусть самые прекрасные из всех твоих небесных даров – вера, любовь – станут пустой прибауткой в устах предателей и злодеев!
Я не верю в сентиментальность стареющих мужчин. Это от избыточной любви к себе.
От того, что они вдруг осознают, что они – тоже смертны и эта мысль приводит их в панику.
Я тебе скажу честно: я эту опасность знаю, и умею с ней обращаться, как сапёр со ржавым снарядом.
Но тогда я, лишённый особой сентиментальности, принялся пить, разглядывая дар судьбы.
Всё это было грустно и непоправимо.
Впрочем, чистота этой истории нарушена, поскольку потом я, помогая разбирать квартиру отца, перевёз к себе множество книг своего детства, бумажек, открыток, фотографий, и прочих никому, кроме меня, не нужных вещей».
Он говорит: «Сын приходил навещать. Рассказывает, что у них в компании начали говорить о смерти. В сорок пять это, я считаю, нормально. Сдохли первые друзья, болезни какие-никакие появляются. Человек понимает, что не вечен.
Спросил его, о чём говорили. Он говорит, что стали обсуждать, кого нужно уведомить, если что.
Нормально, думаю – готовятся. Это хорошо.
Я-то помню, как в газетах всегда был старичок, у которого наготове был некролог на всякого, и вообще – как на могильных плитах после года рождения была такая чёрточка – чтоб родственники вписали.
Говорят, что сейчас, как самолёт грохнется, всех специально оповещают, ну там специальные люди приходят, чтобы не репортёры первыми пришли.
А сын говорит, что у него другое – заведёшь роман, ну такой быстрый, случайный, а потом разобьёшься на машине. А девка эта думает, что ты её бросил, обижается и всё такое.
Согласен, неприятно.
И молодёжью этой (они-то для меня молодёжь) восхитился – предусмотрительные. Хотя, конечно, смешно, что они представляют сразу аварию на дороге, а не тромб в сердце, скажем.[6]6
Хармс Д. Басня // Малое собрание сочинений. – СПб.: Азбука-классика, 2005. С. 410.
[Закрыть]
Я ему и говорю: ты вот не читаешь ничего, а это у Бунина было. Да не так, как у вас, не то, что вы боитесь, а по большой любви. Там, у Бунина, женщина заболела воспалением лёгких и умерла. Да только велела, чтобы от героя её смерть скрывали как можно дольше – ну он её и любил лишнее время.
Она к нему во сне приходила, но они давно были в разлуке, и, в общем, это грустная история.
Сын ответил, что это нечестно. Чувак, говорит, мучился лишнее время, страдал своей виной – они ведь расстались, а, значит, поссорились.
Я не стал объяснять, что вовсе не значит.
Сын-то и говорит, что лучше знать всё, и знать заранее – ну это у него надежды, которые время вычистит ещё. Я ему опять про литературу, про то, как классик говорил нам про одного больного раком крестьянина. Тот явно должен был сгинуть, а пока ходил по больничке и вспоминал своих деревенских стариков, что не пыжились они, не отбивались, не хвастали, что не умрут, принимали смерть спокойно. Не оттягивали ничего, а готовились потихоньку и загодя, назначали, кому кобыла, кому жеребёнок, кому зипун, кому сапоги.
Я сыну сказал, что этот идеал мне кажется несколько надуманным – как будет, так будет.
И списки мне эти не по нутру.
Я бы ни в коем случае не заводил такого списка.
Смерть – дело одинокое.
Не надо ничего, никому ничего знать.
Раньше это было нужно для организации похорон, а теперь и подавно не нужно. Вот я представляю, как я помер и фейсбук, к которому сын меня приучил, это понемногу узнаёт, и какие-то знакомые пишут пост (то, что называется – «статус»). Они чувствуют, что им нужно сказать что-то, меж тем, ничего говорить не надо.
Для меня было бы идеальным исчезновение – тихое и незаметное, как растворяющийся в воздухе сигаретный дым.
Тут не хуже и не лучше.
Во-первых, как помрёшь, так всё равно.
Во-вторых, в оповещении есть какой-то добавочный смысл к твоему бытию – это вроде как человек действительно думает, что мирозданию он более интересен, чем на самом деле.
В-третьих, это я понимаю, как в деревне – ну там кого-то гроб надо позвать носить, деревенский пьяница норовит выпить, родственники приехали за мотокультиватором, чтобы он случайно не затерялся. Двоюродная сестра интересуется, как в права наследства ей вступить, и что осталось.
А тут-то что? Я клоню к тому, что в какой-то момент должен приходить возрастной оптимизм – не заигрывание с концом, не какое-то натужное ёрничание, а спасительное благодушие».
И давно я понял, странность восприятия многих людей, забывающих о том, что их тела обладают обычными физическими характеристиками настоящих физических тел. Тела обладали упругостью и твердостью, их части, подобно частям механизма, можно было привязать веревочками, стянуть болтами или отпилить.
Текла новая весна, не зеленела разве что коричневая арматура на здании за окном.
Теперь в больницу ко мне приходило гораздо меньше народа, потому что часть гостей остепенилась, кто-то женился, а кто-то устроился на редкую после финансовых потрясений высокооплачиваемую работу.
В посетителях моего соседа было то общее, что соединяет людей после шестидесяти в моей стране. Особенно тех, кто делал боевое железо или его применял. Особое незатейливое чувство юмора, рассказы из прошлого, свидетельствующие о том, что они были на «ты» с чем-то важным.
Но при этом было в них что-то цельное, как в людях уходящей цивилизации.
Когда шли войны, то каждый вечер, одновременно с вылетом бомбардировщиков, мы собирали военный совет. Сползались, стуча костылями, к телевизору, и поближе к тем из нас, кто вообще не мог двигаться.
Положили к нам и солдата – не настоящего, а милиционера, что упал с полки в бане. Он был совсем мальчишка по виду, хотя, призванный год назад, уже дослужился до старшего сержанта. Вместо того, чтобы стоять в оцеплении, он теперь хлебал манную кашу чужой ложкой, глядя в экран.
Скоро была моя операция, и я думал о ней без страха, но с тоской – потому что от меня уже ничего не зависело. То есть, распорядиться чем-нибудь, чтобы улучшить свое положение, я уже не мог.
Время брало меня за руку и вело от прежней боли, связанной с воспоминаниями, к боли настоящей, непридуманной.
Уже можно было представить ту боль, что обрушится на меня потом и вдавит в койку.
Этими словами я как бы заклинал эту боль – дескать, не надо, я сделал всё за тебя.
Как-то я вышел ночью в коридор, чтобы по стенке добраться до туалета.
В этот момент дверь палаты напротив отворилась, и оттуда вышел священник с дароносицей. Он посмотрел на меня скорбно и устало, а потом исчез в полумраке лестницы.
А вот я – живу.









































