Читать книгу "Он говорит"
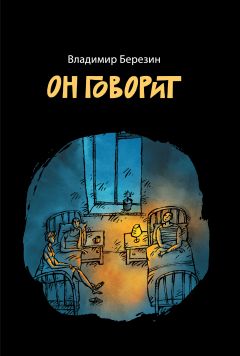
Автор книги: Владимир Березин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Я бы журналиста даже «Который час?» не спрашивал.
Ответит хуже, чем Батюшков, даже «Вечность!» не крикнет.
Но, тем не менее, история про писателя запала мне в душу.
Дело в том, что когда Солженицын был выдворен и лишён (или как некоторые говорят – вырвался из кровавых лап), то перебрался в американскую глубинку и купил дом в Вермонте. Дом хороший, основательный – но оказалось, что прямо через участок (я, конечно, сразу представляю себе унылый участок садово-огороднического товарищества), так вот, прямо через участок течет ручей. А по местным законам всякий человек может ходить вдоль ручьев и рек. Полезли, значит, по склизлым берегам упыри-журналисты.
И взвыл великий русский писатель от соглядатаев – но поздно.
Я – доверчивый, верю в этот рассказ. Ведь, поди, не заглядывали бы в окошки незваные гости – совсем по-другому, может быть, покатилось бы красное колесо. Или плюнул бы писатель и сидел до сих пор в своем Вермонте. Потом он, правда, в Серебряном бору, или где там рядом, в Троице-Лыково, живет, где хрен пройдешь. Там только не то, что журналист не может пройти, а и тот, кто инспекцию дачам проводит.
Тишь там и благодать.
Да только напротив срамота нудистского пляжа с пригожими девками.
И вот тут наступает то, что очень бодрит – если удается скопить денег на дом, то наступает настоящая «privacy», как иностранцы говорят – частность, уединенность. Потому как никому ты в этом бревенчатом раю не нужен, даже если пустишь по участку рукотворный ручей.
Может, зайдет за топором сосед или там наш председатель за деньгами. Одно – добро, другое – зло неизбежное, но всё явления, данные нам в ощущениях.
Но если увидишь на своей территории голую красивую девку, то это значит, что ты не слил верхние фракции из самогонного аппарата, да оставил в стакане нижние.
А вот не надо жадничать – сливай дрянь, сиди да пей, да вечер длинный кой-как пройдет, а завтра то ж…»
У него на тумбочке целая стопка книг с крестами и ликами святых на обложках, и, отложив одну из них, он говорит: «Вот хроники часто спорят – когда лучше лежать, летом или зимой. У каждого есть свои резоны, это ведь не война, когда солдат точно знает, что летом лучше, чем зимой. Я раньше в августе всегда лежал. Август у нас не то чтобы не любят, его опасаются. Это, парень, ты может, и не знаешь, была такая песня – “Вот если бы только не август, не чёртова эта пора!” Это про Ахматову, ей в августе не везло – то мужа расстреляют, то сына арестуют, то в постановлении пропечатают. Другие мужья у неё сгинули просто так, без месяца, но про август у начитанных людей отложилось.
Но мы как-то августа не боялись, а вот у вашего поколения случился дефолт (нам-то, старикам, что до вашего дефолта), утонула подводная лодка, пожары были, наводнения и прочие трагедии. Множество людей сообщали нам о причинах этих августовских неприятностей – ну, там отпуска и время работы резервных команд, особенности мировых и отечественных финансовых каникул…
Но я тебе вот что скажу: есть такое явление, как выкликание августа.
Вроде бы все ничего, видимых признаков катастрофы нет, буревестники сидят по своим гнездам, а людям неспокойно. Не всем, конечно, людям, а тем, чья жизнь размеренна и даже скучновата. Нет, в ней полно суеты и разных тревог, но это тревоги белки в колесе. А самое кровожадное существо на свете – белка в колесе, то есть, мирный обыватель. Это он кричит «Распни!» и питается кровью из телевизора. Конечно, обыватель не настаивает на том, чтобы несчастья случались с ним самим, но вот как-то совсем без несчастий ему скучно. И если какое несчастье случилось, то ему теплее на душе, потому что его мелкие ошибки и крупные жизненные неудачи становятся не так важны. Когда большая беда – кому дело до неудач?
А ещё обывателю нравится самому быть буревестником. Причём это не свойство какого-то отдельного человека, а свойство человеческого общества вообще. В августе это просто становится особенно заметно – всё по тем же причинам: некоторая расслабленность и временное отсутствие новостей.
И тут начинается выкликание.
Если ты читал русских классиков, то помнишь: «Идут мужики и несут топоры, что-то страшное будет!» А, ну читал, хорошо… Кроме энтузиастов, есть профессиональные выкликатели несчастий, но набор общий: вот придет фашизм, вот придет распад, а война уже на пороге. На пороге, точно-точно. Солью запаслись? А? А!? Запаслись солью, лежебоки? А спичками? В глаза смотреть! Спичками запасся?!
Ты-то понимаешь, что нельзя сказать, что кризисы и войны нас минуют – все это, увы, случается регулярно. Но в этом и сила выкликателя: если беда приходит, то он предупреждал, а если не пришла, то никто на ней не настаивал. Это такая одиночная молитва, впрочем, можно и скопом. Август требует не чтения классиков и не прочего самообразования, а того, чтоб собраться приличным людям в кофейне, нарядившись в черные балахоны, разложить на столе красивую голую девушку, измазав ей живот если не нефтью, так шоколадным тортом, и отслужить ночную мессу: гибель всему миру – иди, власть – уйди, что-нибудь новое – приди.
Господь милостив, он, если долго просить, всё сделает.
Что нам делать-то? Спросил, тоже. Ты парень начитанный, знаешь, что на это отвечают. Ягоды собирать, варенье варить, а потом пить с ним чай. Ну и что, что он в девятнадцатом году помер? Что в восемнадцатом году без варенья ему надо было жить? Правильный у него совет был. Нет, я бы сказал тебе – молиться надо, да ты молиться не будешь, так будешь литературу какую-то свою бормотать. Главное, не выкликай – ни августа, ни сентября.
Ну и похудей, что ли, а то сдохнешь. До августа не доживёшь».
Он говорит, и только по побелевшим костяшкам пальцев, которыми он сжимает раму кровати, видно, что ему больно: «А ещё у меня шинель есть. Голубая. Угадайте, чья? И тут мне сразу с боков кричат, неужто, дескать, лермонтовская?.. Или лунинская?.. Или уже прямо гумилевско-асеевская?.. Хрен вам, дорогой товарищ, отвечаю я на эти голоса. Эта шинель раньше Гоголю принадлежала. Я её на Тишинском рынке купил, в уценённых рядах, поскольку вся отечественная литература её затоптала сапогами, когда ходила в народ и обратно. Лана-лана, будете мне тут бухтеть с недоверием. Шинель-то у меня. Да с неё погоны ещё не спороты. Вы мне ещё расскажите, что лучше меня знаете, как с фабрики «Дукат» бракованные сигареты воровать. И за “писателя” ответите. И не фальшивая шинель у меня вовсе, нет, хоть нынче и никому верить нельзя… Это у вас пенсионное удостоверение фальшивое и проездной билет акварелью нарисован. А у меня шинель самая настоящая. И под воротником так и написано: “Гоголь”. А вот “Пушкин” там зачёркнуто. Вы, разве не знаете, что эту шинель Пушкин Гоголю подарил, что бы только тот от него отвязался. Гоголь, что тебе каменный гость – придет в гости и сидит, как статуя Комендора. Так Пушкин ему ещё подарил ему китайский сервиз, двух дворовых девок, борзого щенка и сюжет для “Ревизора”… Не уходит. Тогда Пушкин ему шинель в зубы и говорит: “Проездись, падла, по России. Тогда и поговорим” Тот уехал, а дороги у нас известно какие. Так и не свиделись больше. Так, кутаясь в пушкинскую генеральскую шинель, Гоголь ездил себе и ездил, а потом проездился, и второй том «Капитанской дочки» сжёг, в землю закопал и надпись написал. Правда, потом выяснилось, вместе со вторым томом и его самого закопали. А когда откапывали и смотрели, не перевернулся ли он в гробу от всего о нем написанного, то, перевернув обратно, шинельку-то и сняли – не пропадать же добру… вот из этой шинели мы и выходили. И не надо мне тут со стороны кричать о фальшивках, что, дескать, надо спросить в портновско-адвокатской конторе “Белинский, Добролюбов и Ко”, их работа. Потому как вот фуфла-то не надо, не надо нас тут фуфлом кормить. Всё это история подлинная, дочка была в связи с Екатериной Великой – они в парке познакомились. Для отвода глаз дочка взяла фамилию Дашкова. И шинель стащил из гроба писатель Лидин, который ещё и ботинки подпёр, а какой-то комсомолец пуговицы срезал. Или подмётки срезал с исторических ботинок – они же и голову у Гоголя спёрли – до сих пор найти не могут. Но это была шинель одного чиновника, казённая шинель, гробовая. А дарёная шинель – та, моя, настоящая, самим Гоголем Некрасову завещана. Потому как лиры у Гоголя не было. Лиру-то Жуковский в Баден-Бадене не скажу с кем профукал. Именно поэтому моя шинель историческая, проверенная. Со справкой. Я в неё Шишкина однажды одел, и с тех пошла ему пруха и везука. Деньги потекли, и за книжку ему на десять долларов больше, чем мне заплатили. И вот про Некрасова не надо. Не трогайте святое – как он сказал однажды, что, дескать, лиру просветил народу моему, то все заплакали и простили ему кутежи с Достоевским Фёдор Михалычем в деревеньке Саксон, что в кантоне Вале. А шинели у него быть не могло – в руках-то трясущихся ничего не держалось, о чем он неоднократно сообщал Полине Виардо, полюбовнице своей, в Париж до востребования. Мне путеводитель по Швейцарии пересказывать не надо – я там на второй странице значусь. Потом Некрасова прижали в тёмном углу за шулерство и били канделябрами. Он прикрывался, сука, шинелью. В результате шинель отняли. Я нашёл её следы в Ясной Поляне. Но об этом в следующий раз. Ясную Поляну спалили агенты швейцарской Сигуранцы, и обменяли шинель на водку – она совершила долгий путь, прежде, чем попала на покойный ныне Тишинский рынок к беззубому цыгану, что продал мне её за шесть рублей тридцать копеек».
Он говорит быстро, но каждый раз с чуть заметным колебанием в ударениях, отчего становится понятно, что наркоз ещё не совсем прошёл: «Есть, дорогие товарищи, история про переходящее красное знамя. Но, одновременно, это история про конец русской поэзии.
Вот Пушкин передал перстень Жуковскому, Жуковский кому-то ещё, но потом началась смута, перстень подпёрли, и кончилась русская поэзия. Нет у неё переходящего перстня, а часть без знамени должна быть расформирована.
Вот какая это страшная история.
Но тут обнаруживается несколько обстоятельств.
Во-первых, Лермонтов-то, наивный офицер, кривлялся, дескать, погиб поэ-э-эт, невольник там и все дела, а перстень не ему, а Жуковскому. Но это и правильно – Лермонтов ведь ещё быстрее на баб профукал бы это народное достояние, и пошли бы косяком сплошь евтушенки с Вознесенскими, аж с позапрошлого века. Онто Пушкин, подумавши. Он подумать-то любил.
Во-вторых, это был перстень не собственно Пушкина. Он принадлежал Боратынскому. Перстень-то именно был переходящий. Как переходящее Красное знамя. А Боратынский его, как известно, украл – за что и страдал полжизни. Боратынский был тогда маленький, ничего не понимал и поэтому учился в Пажеском корпусе. Однако его быстро нашли, отняли ворованный перстень, насовали в рыло, и отправили на финскую границу. Потом, правда, вернули. Собственно, Боратынского застукали, когда он пытался вывести его в Финляндию и торговать его там финикам среди хладных скал. Тогда с него сорвали лычки, а в качестве наказания заставили стоять на советско-финской границе и в стихах описывать всё, что происходит на блок-посту. Там же на перстень положил глаз Ленин в шалаше, и с помощью перстня создал соцреализм. Да-да. Я изучал этот вопрос. Даже посетил Разлив и у меня есть письменные свидетельства. Ленин действительно держал перстень в руках. Именно поэтому первая глава “Государства и революции” написана верлибром. Но потом к нему приехали в гости Троцкий и Зиновьев, все выпили, после чего Ленин безобразно проиграл перстень в “три листика”. Итак, Боратынский его спёр, а Ленин – профукал. Лежит теперь перстень где-нибудь в говнище, а поэзия тю-тю… Охотники б нашлись из говнища-то выковыривать – координаты неизвестны. Некоторые уверяют, впрочем, что умирающий Александр Сергеевич передал свой золотой перстень с изумрудом не кому-либо из родных, а Далю со словами: “Даль, возьми на память” А когда Владимир Иванович отрицательно покачал головой, Пушкин настойчиво повторил: “Бери, друг, мне уж больше не писать” Даль по отцу датчанин, по матери – француз, по рождению – украинец, по вероисповеданию – лютеранин (лишь в конце жизни принял православие), по мировоззрению – демократ. То есть, некоторым понятно теперь, что во всем демократы виноваты – они вместе с Чубайсом и Гайдаром перстень, передававшийся из одного демократического поколения в другое, и пропили! Но это неверно, Даль тут абсолютно не при чём, он в этот момент уже написал свой словарь и принял буддийский приход в Луганске. Впоследствии даже изменил фамилию. Поскольку он жил в буддийской схиме, перстни ему были ни к чему. В общем, как говорят нам старшие товарищи, бильбо кольцо профукал, фродо кольцо завещал, фродо его не сберёг – выкинул в багровый рок. Веневититнову розу, Баратынскому – лозу, Бенедиктову – стрекозу, ну а Брюсову – козу.
Ах, нехорошо что-то мне…
Однако есть и оптимистичные вести про этот переходящий перстень. Перстней у Пушкина хватало, много у него было перстней – небедный был человек-то. Небедный. Вот был у него перстень с сердоликом, купленный в Коктебеле у непьющего татарина, перстень с агатом, купленный у трезвого еврея в Одессе, ну и перстень с аметистом, купленный у пьяного русского во Пскове.
Все они лежат в музее Пушкинского дома. Непонятно, правда, как его проводили по балансовой ведомости – как, скажем, “Символ поэзии напальцевый № 4556/2”… А, может, и “знак”. Писали же в наградных листах: “знак ордена Святого Георгия”.
Сестру позовите, вот что».
Он говорит: «Многие спорят, а я вот знаю, когда всё началось. Нам всем было знамение однажды ночью, в марте.
Я пошёл тогда в баню. В баню сейчас мне вовсе не с кем ходить – перемёрли все, а кто не помер, так врачи запретили.
А тогда пошёл я в баню с давними друзьями. Много лет назад я точно так же туда с ними пошёл, а в воздухе висела комета – предвестником дурных перемен. Так и вышло – началась война, и трёх моих друзей смолотило в её механизме.
Итак, мы снова выбрались в баню – уже тогда сильно поредевшим составом – и тут заполыхал Манеж.
Встало факелом пламя, а углём завалило все улицы до Центрального телеграфа.
Президент наш тогда в Кремль въехал.
Остановились мы, поставили в снег сумки.
Картина для меня была безотрадна.
Я сначала думал, что это небольшой пожар, да куда там.
Будто прибежал какой-то неизвестный мерзавец, сломал дорогую вещь и убежал.
Мне Манеж было жалко, как детскую игрушку, которую ты всю жизнь хранил, а нелюбимая жена выкинула на помойку. Гостиницу “Москва” – мне не очень жалко. Это, конечно Большой Стиль, но всё же. У меня район проредили, дома, как на войне, выкосили целым поколением.
Но на войне всегда несправедливо и ужасно. Сам видал.
А Манеж погиб как старичок – сидел на солнышке, щурил слепенькие глазки на солнышко.
Тут его и упромыслили.
Вот мы встали с вениками, а кум мой забормотал, что, дескать, Бетанкур был архитектор так себе, и что, дескать, хорошего в конюшне, что потом гаражом был. “Приличного человека, – говорит, – только затем туда могли позвать, чтобы ногами натопать и пидорасом назвать”.
– Ах, – говорю, – милый, да при чём тут это? При чём? Это ведь нам знамение! Знамение!
Да, вижу, он сам-то испугался. А как вспомнил о лиственничных пролётах, меж которых махорка была, так сам по карманам стал шарить.
Махорку эту, что была для отвода влаги, скурили не то в восемнадцатом, не то в сорок первом.
Да только у кума своя была, он сигарет не признавал, потому что сиделец был – по зряшному делу, за валюту.
Как засмолят вокруг, так доставал он из кармана мыльницу пластмассовую с резаной бумагой и махоркой, проворачивал между губами листик с просыпкой, продувал и вкладывал в уста, совершенно не говорившие по-фламандски.
Все эти дела занимали у него ровно столько же времени, сколько ты достаёшь сигарету из пачки.
Смотрю, нашёл свою мыльницу да и закурил. Искры полетели.
Достали мы банную водку, какая уж тут баня.
А кругом пляшут, фотографируются. Ад, короче.
Ещё пару дней в моё окно несло сырой гарью.
А жил я, понятно, в десяти минутах от пожарища.
А потом вернулся весёлый март, капель, косое пьяное солнце…
Все забыли про Манеж, а я вот не забыл.
Знамение, потому что».
Он говорит: «А я хипстеров твоих стал лучше понимать. Не твоих? Да это не так уж важно. Твои-мои, какая разница. Ну вот смотри, меня учили, что надо хорошо работать, и тогда тебе будет хорошо. Нет, ты что, причём тут коммунизм наступит? При мне уже в коммунизм не очень верили. Но верили, что если ты работал хорошо, не залётчик, если у тебя стаж трудовой непрерывный, то и пенсия большая. Были ещё персональные пенсии – союзного значения и республиканская. Ну и было обидное звание “пенсионер местного значения” – это, типа, когда тебе местный райсовет решил прибавку в червонец платить.
А так-то – ого! – люди за непрерывный стаж душу продавали.
Иной какой и уйти хочет, и начальник его тиранит, а ему всё бросить нельзя – стаж прервётся. Персональную-то пенсию не всем давали – например, если ты рабочий и у тебя орден Трудового Красного Знамени, то давали, а если инженер – то нужен не один, а два таких ордена.
Люди, повторяю тебе, из этих причин жизнь свою строили. Время своё на такие обстоятельства переводили, да не дни, а годы. Ай, да не говори глупостей, при чём тут коммунисты. Люди просто знали, что есть такие правила игры. Раньше другая игра была – в церковь нужно было ходить, не ходишь в церковь, так тебя после смерти в аду на сковородке зажарят.
А если ходишь и не грешишь, то вечно пиво в белой облачности пьёшь.
Такая тебе, по-старому, выходила пенсия.
И люди годы тратили, ужимались, и уж только в белых тапках, печалились, что вера у них слабая, и уж лучше было не в церковь, а по бабам.
А твои хипстеры пришли и говорят: да и хер бы с ней, с пенсией-то. А им наше старичьё так изумлённо: да как же хер? И тут же осекается – ведь, если вдуматься, действительно – хер. А если хер, что так горбатиться-то? Нет, ну некоторые свою работу любят, им прям не жизнь, если они за смену полтонны болтов не нарежут.
Но я тебе больше скажу – другие люди говорили: не, ну хер с ней, с пенсией. Прочь эти все ваши дурацкие ордена, надо детей рожать-ростить, они наше спасение, они потом прокормят, оденут-обуют. И вот смотрю я сейчас на своих сверстников, вижу, как их обули. И всё оттого, что они, может, и детей не по внутренней причине заводили, а их страх заставил – «заводи, – страх им говорил, – а то будешь в гробу без белых тапочков лежать». Необутый, значит.
А им судьба – херак! – то сына-наркомана, то дочь… Ну, не будем о грустном.
Это ведь тоже внутренние правила игры.
Люди заводили детей, ломали себя под них, мучились. А судьба им – хрясь по сусалам. Да и снова – хрясь! И – поделом, я считаю, потому что они с судьбой торговались, у неё цыганили на пенсию. А ты не цыгань, не мелочись – делай то, к чему душа лежит.
Хипстеры же эти мне нравятся – что им до пенсии? И на детей с прибором клали. Они – естественные, вот в чём дело, дружок. Вот не заводит он детей, живёт перекати-полем, а ему хорошо. Другой-то тоже, может, хотел, как птичка жить, а боится – пенсию не дадут, стаж прервётся. Дети не похоронят.
А вот хипстеры твои смекнули – хер с ними, с похоронами, да и с детьми, живём однова. И живут по совести.
Тут, правда, может выйти конфуз, состарятся эти дети, да заплачут о пенсии. Таких – да, в мешке топить надо.
Но в остальном ведь хорошо выходит: вот человек дачу строит, потому что ему сказали, что без дачи не старость, а хипстер твой ему – налоги, дурак, за всё за это заплати, а потом думай, чтоб дачу твою не обнесли. Или чтобы не сгорела она.
И хипстер, как не крути, выходит натурой цельной, подвижнической.
Сам такой фыр-фыр-фыр, честная стрекоза.
Повеселился, да и сдох к зиме.
Уважаю».
Он говорит: «Меня как-то послали на совещание. Ну там хренации-инновации, комплексное развитие, экономическое районирование и городское зонирование.
А у нас в области такое зонирование, что треснут заборы, так такое вылезет из этих зон, что только держись.
Мне-то – что, мне начальство приказало из нашей дорожной конторы. Отметься, говорят, в списках там, а после делай, что хочешь. Но расскажи только, что с бюджетами.
– Да что с бюджетами, – отвечаю, – будто вы не знаете.
Начальство только вздохнуло, потому как все знают, что с этими бюджетами.
Но ведь в русском человеке всё живо верой – вдруг объявят что-то, что нас возвеселит.
И приехал я в областную нашу столицу, где шли бесконечные заседания, и все докладчики начинали речь со слов “Мне кажется…” Так вот, в конференц-зале этого огромного здания, где всё это происходило, обнаружил я большую карту, которая называлась “Религии нашего федерального округа”.
Это была знатная карта, можно было даже без натяжки вам скажу, что это была сакральная карта.
Я остановился зачарованный и, опоздав всюду, застрял, разглядывая разноцветные пятна и значки.
Список религий потряс меня – я ощутил собственное невежество.
Оказалось, что собственными значками обладают ортодоксальные иудаисты (контур шестиконечной звезды) и иудаисты-хасиды (звезда закрашенная).
У нас в конторе три еврея было, да и те сало ели, как не в себя.
Старообрядцев на карте оказалось десять разновидностей, и каждая имела условный значок, похожий на косой андреевский крест.
Не говоря уж о множестве значков мусульманских фракций, включая пограничную фазу крещенов.
Чёрный треугольник вершиной вниз достался обществу Сознания Кришны, а треугольник остриём вверх – коммуне синьясинов Раджиши. Вместе они образовывали песочные часы, в которых Кришна перетекал в Раджиши. Пестрели по карте пятиконечные звёзды молокан и субботников, лучи множились, да так, что мунистам достался маленький ёжик.
Товарищ мой ткнул пальцем в свой родовой город, и, вглядевшись, я понял, что он из харизматиков. Туз треф достался последователям истинной православной независимой поместной церкви. Длинное название просто прихлопнули этим тузом.
Но круче всех оказались трезвенники, которые шли по разряду “маргинальные секты”.
При этом трезвенники оказались главнее и маргинальнее хлыстов – шли выше в списке.
Велика и обильна моя страна.
Много в головах её обитателей всякой всячины.
– Какие уж тут бюджеты, – говорю я начальству, вернувшись. – Знаете, что у нас в райцентре гнездо трезвенников?»
Он говорит: «А у меня вот доча стала гадалкой. Мы с женой сперва переживали, всё-таки – институт, помню, как мы надрывались, на репетиторов собирали, а толку. Он говорит: это, говорит – моё. Ну и гадает. И ничего так, доход идёт, люди довольны. Тут ведь главное, чтобы люди не убивали и не мучили друг друга, а остальные профессии очень даже ничего.
Но я её услугами не пользуюсь. Как-то мне кажется, что это лишнее, с тех пор ещё, как я фантастику читал. Уже тогда я понял, что будущее активно сопротивляется описанию, оно упруго и ускользает от пера, как яблочный мусс от вилки. Мне принесли такой мусс, так я его потом из-под койки полчаса доставал. Одним словом, чем более очевидным предполагается оно, тем неожиданнее результат. В одном научно-популярном журнале, что я читал в детстве, объяснялась теория вероятности – и журнал сообщал, что в закромах Вселенной найдётся всё, в том числе и уже написанные приветствия к столетней годовщине Великой Октябрьской революции. Популяризаторы были правы – приветствия-то найдутся, а вот нам столетие так, как об этом думали в семидесятые, уж не отметить.
Я уже в нынешние времена стал читать рассказы из сборника «Мой день в 2017 году». Ну, там устроители этого дела хотели рассказов про высокие технологии, и десять лет просто механически прибавили к тому году, седьмому, стало быть. И не ошиблись – почти никто и не вспомнил про столетие «главного события XX века». Все написали про то, как герой в муках просыпается от квантового будильника и опаздывает на работу. Будильник (квантовый, нейтронный или ещё какой) – это кошмар в веках, и предсказывать его зловещую роль в будущем – что у ребёнка конфету отнять. Но как быстро забылась дата 7 ноября – вот что удивительно.
Заглядывать вперёд страшно, потому как всякий благоразумный человек, проживая в области тучных годов, конечно, подозревает, что за ними последуют года тощие. Так и выходит. И тут уж держись, прибегут мужики и принесут топоры, и вообще что-то страшное будет. Был такой поэт Мандельштам, так он хотел вступить в сделку с веком-волкодавом (все века имеют хищную породу) и попросить, чтобы укрыли какой-нибудь жаркой шубой на смертном сквозняке. И я так хотел, а потом понял, что никакой шубы никто не принесёт. Но пока-то можно порыпаться, вырыть себе нору. Можно приникнуть к корням, построить дом с печью, купить самогонный аппарат и ружьё. Завести себе обрезанные валенки, и если кто постучит – сжимая цевьё, кричать изнутри дребезжащим старческим голосом: «Ни-ка-во нет дома»!
Я, как из газеты ушёл, так домик себе построил. Жена туда ездить не любит – ну, я её понимаю, удобства минимальные. Зато речка, печка, лес и книги, что остались от уехавшего писателя.
Он там свои еврейские фалафели ест, а я его книги читаю.
Его книги мне, впрочем, не очень понравились, а вот бумаги его прочитал. Правильно он их бросил, потому как если тебя, старика, везут умирать на историческую родину, то прошлая жизнь тебе ни к чему.
Вот он писал, что всякий человек, производящий внутри головы тексты, имеет определённый тип поведения. Есть любители Бродского – они должны между стихов пить виски и презрительно оглядывать водяные города, стоя на мокрых набережных в долгих пальто. Есть любители Набокова (шуршащие шины на серпантине близ Монако или снятый посекундно полёт бабочки). Есть безумцы-самоуничтожители в духе Берроуза, есть деловитые подобия Некрасова, что не прочь передёрнуть в карты.
И этот писатель следовал Юрию Казакову, был такой хороший писатель, помню его – бревенчатые стены, осень в дубовых лесах… Я отнёсся к этому с уважением, только аппарат по производству огненной воды.
Оказалось, кстати, что в отличие от Советской власти, что душила-душила самогонщиков, да так и не смогла задушить, власть новая довела их до ручки. Перевелись народные умельцы, производящие конструкции, легко помещающиеся в тумбы письменных столов. А ведь лет двадцать назад, или там тридцать – выйди на улицу, прошепчи заветное желание – и из каждой подворотни манили тебя, оглядываясь воровато, мастера аргоновой сварки и конструкторы оборонных заводов. Сгубила промысел дешёвая водка-паленка по тридцать рублей. Та же участь постигла печников, которых сменила порода каминных дел мастеров, и вот уж не поставишь приличной печи, готовясь к тощим годам.
А так-то живу без будущего и без предсказаний.
Просыпаешься, а пустой дачный посёлок покрыт первым снегом – мечта. Правда, нужно придти к этой сельской уединённой жизнь самостоятельно, а не как Овидий. Живёшь себе, капусту садишь как Гораций, разводишь уток и гусей и учишь азбуке детей. Предсказываешь по птицам, ветру и дыму погоду, а не будущее.
Кто-то мне рассказал про человека из Гидрометцентра, что жаловался, что жизнь у него тягостная – он всегда знал, когда будет какая погода, но природа навстречу ему не шла. Такова судьба всех предсказателей. Мне самому в прошлой жизни на лекциях говорили: «хотите точный прогноз погоды на завтра, приходите послезавтра» – поскольку точно предсказать погоду пока невозможно, как и будущее вперёд лет на десять-двадцать. Точно так же невозможно предсказать землетрясения – единственное, что добились японцы, известные знатоки геофизических наук не от хорошей жизни, так это быстрого оповещения, чтобы понять, будет ли цунами. А, касаясь земных чудес, так в Турции, говорят, есть место, где из расщелин пышет какое-то чёртово пламя, в воздухе висит пепел и под ногами дрожит земля. И всё это длится тысячелетиями – а что это, как, никто не знает. Ходят вокруг учёные и только кряхтят от недомыслия.
Доча моя, гадалка, как-то заехала ко мне с мужем. Выслушав эту турецкую историю, он вдруг оживился и говорит:
– Эко невидаль! У моей маменьки с батюшкой такое под Шатурой много лет идёт. И ничего – живут люди, огурцы содют, как у вас тоже самогон гонют – только в дыму и пламени. Три власти пережили – и ничего.
И сразу стало понятно, что моё будущее определено верно.
Тут дочины свечки и шары вовсе не пригодились».
Он говорит: «Я много думаю о смерти. Время такое, возраст ещё. На самом деле о смерти вообще надо думать, особенно, когда работаешь с напряжением. А я всю жизнь контакты замыкал да провода сращивал – дело своё знаю.
Но тут дело не только в этом – я заметил, что смертей стало больше. Это нормально – людей стало больше и смертей стало больше. Ещё все стали осведомлённей о чужих смертях. Телевизор, интернеты – раньше только по слухам узнаешь, что какой-то актёр помер. Лет десять смотришь с ним фильмы, а он, оказывается, уже того. А теперь всё сразу известно.
Но я тебе расскажу о другом – вокруг смерти довольно много прилипал. Прилипли и на ней живут и выражают соболезнование – и слово-то это довольно гадкое. “Соболезнование” – сабли в нём какие-то и лизание.
Длинное слово, неприятное.
Что-то в нём тухлое, как в похоронах на деньги собеса.
Я довольно много видел в своей жизни людей, что оживлялись от чужой смерти. Они сразу начинали соболезновать и шикали на тех, кто недостаточно печален. Были и другие, хорошие-то в общем, люди, что останавливались в своей жизни удивлённо, и не знали, как на всё это реагировать. И начинали ныть в телефонные трубки. “Какой ужас, какой ужас”. У меня дед когда умер, я чуть одну девку не прибил. Она всё блажила: “Да он такой прекрасный был, такой милый, я с ним говорила, а как он по телефону отвечал…”
Но это не только со смертью связано. Вот пришла женина подруга, как у меня сын не поступил, так она ну выть: “Ах, в армию теперь возьмут, так это теперь так страшно, ах, ужас”. Я на неё тупо так смотрю и думаю: “Дура ты, дура. Ну что вот тебе до этого? Жизнь твоя пустая, вот ты её моим сыном и заполняешь. Думаешь, мне это вот приятно слушать? Это ты мне таким своим воем настроение поднимаешь, что ли?”
Тьфу, пропасть!
Как-то дом у меня под снос пошёл, так ко мне мои престарелые друзья повадились за рюмкой ныть: “Ах, Михалыч! Родное ведь место, ты к нему прикипел, а уж мы сколько тут пили, тут дети твои выросли, здесь молодость наша прошла, а теперь тебя в Коровино-Фуниково выселяют, ах как горько это всё”…
А Лидия Михаловна и вовсе говорит: “А я ведь тут у тебя в коридоре… Тут меня Петя и зажал, десять лет как с ним развелась уж, а всё это помню”.









































