Читать книгу "Он говорит"
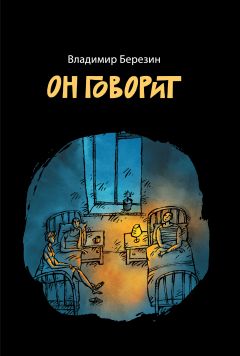
Автор книги: Владимир Березин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Боюсь, что, в конце концов, придется остановиться всё-таки на американце – они там привыкли к равенству полов. Но неужто наши мужчины так измельчали?! Ведь желание иметь жену-рабыню – это не что иное, как проявление комплекса неполноценности, неуверенности в себе. Страх, что женщина хоть в чем-то может превосходить своего супруга. А так ли это страшно на самом деле?».
Или вот было ещё: «Два женатых бисексуала из Москвы, хотят познакомиться с девушкой (женщиной) или семейной би-парой для занятий сексом. Очень любим би-секс во всех его проявлениях. Есть место для постоянных встреч. Чистоту и порядочность – гарантируем!!! Игорь – 40/187/89/16, Евгений – 20/175/75/18».
Я тогда всё никак не мог догадаться, что такое – «чистота и порядочность». Не мусорят? Бычки под кровать не запихивают? Ноги моют? Столько всего в мире непонятного… И эти цифры 16 и 18 – что могут обозначать? Возраст? Видно, первая позиция – возраст, вторая – рост, третья – вес. Боюсь, что последняя – это длина. Мы-то были простые люди, много не знали в жизни. Сосед мой порывался написать этой бабе, что руки ломала. Ему-то что, у него обе руки в металлических накладках – хрен сломаешь теперь.
Мы-то что видели – потолок да кусочек неба в окне. А тут люди живут, сходятся, трясут своими обрезанными и нет хренами, расчёсывают крашеные перекисью волосы и гарантируют друг другу чистоту и порядочность. Всюду жизнь, как на картине художника Ярошенко».
Он говорит: «А я вот люблю больничную еду. Ты не понимаешь, что это за любовь, если не тырил горбушки в школьной столовой. А я тырил. И едой этой вскормлен, в пионерском лагере её любил, и в армии. В ней какая-то простота и отчаяние. Ешь больничную еду и становишься ближе к земле.
Я вот ещё капусту люблю – и вот однажды я тушил капусту. Я стал владельцем кочана капусты, которую принесли в мой дом две возвышенные барышни. Впрочем, они принесли мне ещё и бутылку вонючего самогона, который сами и вылили в кухонную раковину. Потом они пытались играть в жмурки, делать самокрутки из моих документов, озарять пионерскую ночь синими кострами моей мебели. Однако вскоре они растворились в ночи, а я остался наедине с мирозданием, в котором храпят лидеры мировых держав – попеременно, правда: то один, то другой. В этом мире всё связано – семантика и поэтика, еда и философия, предназначение и ирония. Мирозданием, в котором природоохранительные организации сидят с удочками на берегах океанов, пожарники тупо корчат рожи в начищенные медные каски, физкультурники пилят гантели в ожидании золотого клада, службы спасения ловят единственную старушку, которая не хочет переходить улицу, дети душат друг друга в песочницах. Один я стою на страже мира, прогресса и человеческого счастья, поэтому и принялся я, как поэт Бродский, утилизовать трофейное, предаваясь той самой поэтике. Но тут возникли другие ночные люди и говорят: пойдём, братан, есть итальянской еды. Я только хотел им сказать о больничной еде и тушёной капусте, да уж поздно.
Ну, отвечаю, пойдём.
Пошли.
Там, значит, жареные баклажаны в томатном соусе на фарфоровой сковородке прыгают, телятина по-тирольски, сложенная горкой, а там и итальянские конвертики подвалили… Ну, в общем, вкус капусты я и забыл – а вынешь простую тушёную капусту из русской идеи, так всё затрещит по швам.
Несколько раз я хотел сказать сотрапезникам слово о больничной еде, да собеседники мои всё ругались всякими учёными словами. Это, видать, меня мироздание предупреждало, как масоны Моцарта – не болтай, Иван Николаевич, о тайнах, не дуди в волшебную флейту где ни попадя, не шляйся по ночам, а то придёт Папа Гена и прекратит дни твоих блужданий, пресечёт углекислый выброс, прикроет тебе зенки лакановские и наступит тебе Иван Николаевич, полная деррида».
Он говорит: «А мы всё работали со старообрядцами. На них какая-то мода пошла – не хочешь пить в гостях, скажешь так мрачно: “Я придерживаюсь старой веры”. Тут все зубами клацнут, но и рюмки уберут.
Так всегда бывает, когда в больших городах в чём-то простом разочаруются, и хочется людям не совсем другого, а того же самого, да только с рюшечками.
Но с настоящими старообрядцами было интересно – друзья мои их изучали, а я больше финансовой стороной занимался.
Один наш товарищ, фотограф, поехал на Белое море фотографировать пейзажи для альбома.
Ну и нужно было ему для этого альбома, всё ж он посвящён старообрядцам, этих самых старообрядцев сфотографировать. Ну и решили сделать коллективный снимок всей деревни, благо она небольшая. Однако ж старообрядцы фотографироваться страсть как не любят, даже на паспорт. Оттого их уж уговаривали-уговаривали, уламывали-уламывали, насилу уговорили и уломали.
Вытащили на берег моря лавки, чтобы молодёжь на них стояла, а старики сидели, собрали детишек по избам.
Ну, выстроились они, наконец, на этой конструкции, фотограф ставит аппарат на штатив, и тут самые зоркие в первом ряду видят на нём надпись Nikon.
И все молча расходятся».
Он говорит: «А мне пришлось отца хоронить. В Белоруссии. А белорусы, они упёртые – священник мне говорит: “А он ето делал? А ето делал?” Я ему говорю: “Зачем ты мне это говоришь, зачем меня-то спрашиваешь? Я ведь только сегодня к тебе в Гродно приехал. И его не спрашивай. Его на Курской дуге никто не спрашивал, вопросов не задавал”. Ну, обрядили его в китель его ветхий, на спине, правда, разрезали. А священник ко мне подходит и говорит: “Снимите грех с души, делал ли он ето?” – “Ну, как я вам скажу, – отвечаю. – Делал ли? На Курской дуге делал”. “А в Бога верил?”, – спрашивает. “В Бога верил”, – отвечаю твёрдо.
“А, – говорит, – ну и хорошо. Тогда я спокоен” – “Да и я, – говорю, – теперь спокоен. Спасибо, батюшко”.
И поехал из той Белоруссии.
Хорошо, когда русскому слову верят, вот что. У нас-то самих и не всегда верят».
А ещё он говорит: «Ну, а один готовил нас расстреливать. Прямо так готовил, да. Построили нас друг напротив друга, как для тренировки – я думаю, что командир полка был у нас сумасшедший, потом его убрали куда-то. Сумасшедший-то, сумасшедший, но идея у него была верная. Стоишь напротив своего товарища и смотришь на него через прицел карабина Симонова, и обойма у тебя не пустая, и при этом думаешь – если скомандуют, то надо стрелять.
И палец у тебя стынет, холодно.
Теперь я думаю, что этот наш комполка был очень правильный человек – важную вещь сделал. Не всякому это выпадет, такую важную вещь для людей сделать.
Только потом ещё круче было – потом он нас поменял.
И теперь я сам стою, будто голенький, хоть в своей шинели первого срока, мимо меня снег летит, холодно, а товарищи в меня целят.
Тут дело в том, тебе объясняю, что этот наш комполка говорил, что вот-вот китайцы нас захватят, и сначала отступим к Чите, а потом к Омску, и вот тех, кто отступит, военно-полевой трибунал в расход пустит. Привыкайте, дескать.
А я тогда стоял и думал, что вот дрогнет палец у сержанта Нагматуллина, дрогнет, мать, палец у него, дрогнет с какого-то хрена, так мне конец.
Но я тебе скажу, эти три или четыре минуты были самое главное, что я вынес с военной службы. Из двух лет, да.
Да что там со службы – с жизни всей моей.
Иногда и сейчас во сне приходит ко мне этот осенний день, рассеянное солнце, и целит в меня сержант Нагматуллин.
А больше ничего в жизни у меня и нет.
Семидесятый год, октябрь.
Забайкальский, мать твою, военный округ».
Он говорит: «А я полжизни в печали пребывал, только сейчас жить начал. Мы в прошлое своё, как в зеркало смотрим, и только себя и видим. Я тебе так скажу, я от сверстников своих часто слышу, что детство наше было ужасным и страшным. Трупы там валялись на улице, или в овраге заводские резали тех, кто из железнодорожного посёлка. Ну, некоторые начинают спорить, и говорят, что детство у нас прекрасное, нас выпускали гулять в любое время дня, драки шли на пользу, а ещё было можно пить воду из-под крана.
Так вот, не верь – ничего нет, кроме зеркала.
Я-то жил в Москве, на улице Горького, но дело не в реальности, а в нашей памяти. Одному ребёнку хватит травмы на всю жизнь, если он увидел девушку, вывалившуюся из окна по своей или чужой воле (и всё его детство отныне усеяно мертвыми девушками), другому привычны драки арматурой на пустыре. Детское время сжимается, плотность его увеличивается, а потом пересказывается, да не попросту, а поэтически. Ну, тут кто-то стукнет стаканом в стол и закричит, что “всё в нашем детстве было хорошо, абсолютно всё» и «наше детство усеяно следами ужаса” Спорят-то именно с этими крайними точками зрения. Поверх всего ложится наша мифология – Мосгаз. Этого убийцу по кличке “Мосгаз” расстреляли, когда меня ещё на свете не было, а бабки мои ещё много лет не открывали газовщикам дверь, да и мне наказывали – никому, слышишь, никому, а Мосгазу особенно. Или там, в этой яме детства, были иностранцы, фарширующие жвачку бритвенными лезвиями. А вот ещё убийца Фишер (я это имя запомнил, потому что оно – хорошее имя для убийцы. “Убийца Фишер” – почти как шахматист). Для меня все эти убийцы были Фишеры. Кстати, в пионерлагере вожатые нас как-то собрали и напомнили, что из лагеря нельзя удирать, потому что в районе – маньяк-убийца. И уже невозможно понять, это было средство поддержания дисциплины или натуральный Фишер, или, понятно, его предшественник… Этот, как его… Ну, Фишер, в общем.
А нет ничего, ни Фишера, ни детства, а есть только зеркало. И один из нас рассказывает о драке с заводскими, показывает, как старый солдат, свои заросшие диким мясом раны, потому что нет ничего у солдата к старости, кроме того скромного факта, что он выжил. И чем там страшнее было, тем ценнее его спасённая жизнь. Значит, будет пострашнее. Другой говорит о битве с железнодорожными с ужасом, потому что в этом ужасе оправдание его кривой жизни и горького пьянства. Вот оно – то, из-за чего он не стал тем, и не стал этим. Со сладким испугом рассказчика, пугающегося своей же байки, глядит он в это зеркало, а там только он сам.
Ты верь мне, там, в прошлом, вовсе всё пусто. Всё прах, прошлое давно превратилось в ту часть осыпавшейся амальгамы, что на старых зеркалах пузырится по краю.
Есть только несколько лет будущего. Медсестра вот есть, обход и градусник.
Нечего дальше загадывать – я как это понял, так счастье ко мне пришло.
Ну и, типа, просветление.
Вот про Раису Ивановну мы можем сказать, что она ставит капельницу хорошо.
И можем это сказать определённо.
А Вера – ставит плохо. Убийца, а не медсестра.
Прямо Фишер какой».
Он говорит: «Я вот однажды пришёл на свадьбу к дружку своему. Посадили меня рядом со странной барышней.
Я ей представляюсь, честь по чести, говорю, что военнослужащий человек, имею право на военную пенсию, а пока храню покой нашей Родины от воздушного нападения, ну и ожидаю всякого к себе интереса.
А она в ответ произносит длинное и странное имя.
Не помню, какое. Скажем, Гладриэль.
– Очень приятно, – говорит эта мне барышня, – познакомиться. Я – фея.
Я уже немного принял, но как-то шутить поостерёгся. Ещё в крысу превратит, если я вовремя торту ей не передам. И не то, чтобы сидел как на иголках, но на дальнейшем знакомстве не настаивал.
А потом я на Воробьёвых, во втором их замужестве – Ленинских горах, сидел в совершенно свободное от службы время и похмелялся.
Никого не трогал, сидел на полянке да смотрел на спортивные арены.
Вдруг на меня из кустов вываливается толпа, потрясая всяким дрекольем. И при этом орут вроде:
– A-а! Убей его, Шилов!
Испугался ещё больше и, несмотря на то, что меня уверяли, что эти толкинисты – люди мирные, всё никак успокоиться не мог. Как человек взял в руки меч – пиши пропало. Если ружьё раз в год само по себе стреляет, то, значит, меч одну голову должен срубать.
Раз в год.
Просто так.
А вот и ещё одна история. Мне её подчинённые рассказали. Говорят, что туристы какие-то не остереглись, и в голодный год толкинисты на туристов напали. Всех перер-р-резали!
Вот такая история приключилась с этими туристами.
Как говорят образованные люди – нуар произошёл.
Я так верю. Можно себе представить горожан, которые, типа, на шашлыки выехали. С детками. Детки, натурально, разбрелись окрестную живность мучить, а взрослые – шашлык готовить. А тут их двуручными мечами самих пошинковали.
Когда я это рассказал в присутствии одного толкиниста, то он аж на дыбы взвился:
– Да молчи ты! А то на нас и так постоянно кто-нибудь наезжает, типа журналистов, которые, ни в чём не разбираясь, хотят делать сенсации из простого, хоть и кровавого ритуала. А тут еще ты…
Я ему честно и отвечаю:
– Да какие там сенсации… Вот однажды я просто пошёл на Мальцевский рынок, где, по слухам, одному слепому подарили вязаную шаль. Вижу, в рядах толкиенисты барахлом детским торгуют. Присмотрелся: всё в кровищ-щ-ще! Ну, спрашиваю так осторожно – откуда, дескать. А они не отвечают. Свежее мясо стали предлагать. Свежатинки, говорят, поешь.
А у самих глаза пустые. Я пригляделся, среди антрекотов – палец с обручальным кольцом.
И это меня сразу насторожило».
Он рассматривает странный медицинский прибор, что висит на стене, и говорит: «Вот я вам расскажу о главном своём открытии – эпоху определяет то, кто долговечнее: люди или вещи.
Раньше вещи переживали несколько поколений. Люди судились за кровати, спорили о праве на шкаф.
Теперь мебель и салфетки оборачиваются за одно время.
Я заметил, что в жилищах знаменитых людей есть вещи, намертво привязанные ко времени – это, собственно, очень хорошо видно по той бытовой технике, что попадает в кадр, когда знаменитость фотографируют – для интервью или для будущего некролога.
У ракетного конструктора Королева в доме стоял приемник “Телефункен”. Приемник, а, вернее, радиола – не работал. Он был памятником сумрачному германскому гению и тем машинам, где дышит европейский интеграл.
Впрочем, Королёва фотографировали мало. Но когда снимают современных ученых, особенно пожилых, то сразу видно, когда они шагнули в признание.
То есть, ты глядишь на снимок и сразу замечаешь – вот он, музыкальный комбайн “Радиотехника”.
А вот у другого академика на специальном комодике телевизор “Рубин-714”.
Расставаться с вещами трудно. Вещи живучи – и часто бывает так, что они “зажились”.
Но мебель не так беззащитна, как аппаратура звука и вида.
Неважно, добытый ли это по закрытому списку “ВЭФ” или привезенный из командировки “Грюндиг” что ловит ФРГ. У многоуважаемых шкафов несомненно существует душа, но вот какова душа всех этих серебристых и черных монстров?
Они исчезают стремительно и быстро.
Днём с огнём не найдёшь теперь микрокомпьютера “Микроша”.
Но как нелепо он выглядит на старых снимках. Граммофон – нет, а вот советский проигрыватель “Аккорд” – печален и обречён.
Тогда я решил избавляться от вещей – прочь всё, ничего не надо. Меня многие принимали за психопата, а я был счастлив – сероватые стены комнаты, дощатый пол.
Я лежал на нём и вставал, кажется, только когда мне приносили пенсию. Потом её стали переводить на карточку, и жизнь стала совсем прекрасна.
Я истребил вещи, этих ненадёжных союзников в наших битвах за выживание.
Я пережил их.
И тут попал в больницу – в ад мелких предметов, набитых гниющей дрянью тумбочек, баночек с таблетками, что оставляет медсестра каждое утро с твоим изголовьем, недоеденные яблоки, вязка мёртвый и живых проводов по стенам – в общем, масса предметов.
Да, есть стимул скорее выздороветь».
Он улыбается, глядя в потолок и продолжает: «Неловкие моменты могут существовать где угодно – я вот проговорил с одной дамой минут пятнадцать о свингерах, пока не оказалось, что мы понимаем под этим словом совершенно разные вещи.
А в лихие девяностые годы я более внимательно, чем ныне, наблюдал коловерчение столичной жизни. Одна моя знакомая была любительницей группового секса, и на её вечеринках присутствовал специальный негр.
Этот негр учился у нас на инженера-строителя, да как-то задержался. Был чрезвычайно нравственный, и (по его словам) страдал от своего приработка.
Мой приятель, что ему платил, так и звал его – «Мармеладов».
Приятель этот был странноватый. Безработный пильщик бюджетов, колесил на роскошной машине, но денег у него вечно не было.
Семей у него было несколько, он менял их вместе с работой – мы все начинали на продуктовых рынках, так и жена у него была продавщица, владелица пары контейнеров. Ты наверняка помнишь – раньше на рынках торговали не с лотков, а именно из контейнеров.
Потом была жена-риэлтор, и он торговал квартирами на Гоголевском бульваре. Ну, вообще на бульварах.
Затем жена из банковского мира, но тут с ним случилась засада, и он стал устраивать эти вечеринки с негром. Я всё никак не мог понять, что там случилось, пока не встретил его бывшую жену – одну из первых.
Бывшие жёны часто начинают дружить – особенно, когда их накапливается много.
Оказалось, что этот мой приятель он ехал на машине с уже новой семьёй, причём в салоне сидели тёща, тесть-банкир, жена этого человека и их маленькая дочка. И вдруг девочка говорит: «Ножка!»
Никто не может понять, что это значит. «Ножка!» и «Ножка!», девочке уже осмотрели сандалики, проверили, не натёрли ли, и, наконец, она показывает наверх.
И вся семья видит, что на потолке салона аккуратный отпечаток маленькой женской ноги.
Я это выслушал, и сказал, что не видел его давно.
Пару лет назад случайно встретились, и меня подвозил в город с какой-то чужой дачи. По дороге он расспрашивал о моей жизни (для того, по-моему, и подвозил).
Его бывшая жена оживилась и спросила, нормально ли доехали.
– Потолок чистый, – отвечаю».
Он говорит: «Есть такая замечательная игра «пти жё», я недавно узнал. Мы бы тут сыграли, да водки у нас нет.
Но, к делу – оказалось, что её, эту игру, описал известно кто – светоч русской культуры. Там у него в романе, ты-то, наверняка все читал, а я их по названиям путаю, есть такой выкатывающийся колобком человек Фердыщенко, который предлагает собравшемуся обществу разные разности. И общество раскрывается как мусорное ведро – поскольку нужно рассказывать о самых гадких своих поступках, да так, чтоб без обману. Мне потом, правда, говорят, это у Набокова тоже есть. Правда, чёрт поймёт, «о» там везде или «ё» на конце.
Но, я так понимаю, в широкий оборот эту игру ввел тот сумрачный самый литературный гений. Взял он целую кучу салонных игр с общим названием petit jeu и сделал из неё одну, щекочущую обывательское сознание опасностью. Я, правда, столкнулся с её современной версией.
Выглядит это так: сидят люди за столом, разливают водку. Потом замирают, смотрят гипнотически на рюмки, но пить им пока нельзя. Наконец, один говорит: “Я никогда не прыгал с парашютом”… Или она (потому что игра эта далека от мужского шовинизма, и водящим-разводящим может быть лицо любого пола) говорит: “Я никогда не изменяла мужу”. Или он, опять же, говорит: “Я никогда не управлял автомобилем в нетрезвом виде”. И тогда… И вот, тогда те, кто прыгал, изменял или водил должны выпить свою водку. Остальные пропускают, угрюмо смотрят по сторонам, запоминают чужие грехи. Автор этого праздника публичного обнажения мне неизвестен, да и хрен с ним, собственно, с автором.
Не Фёдор Михалыч, чай.
Эта игра замешана на честности, доказательств в этом карнавале ни у кого нет. Можно признаться в тайной страсти. Или с удивлением узнать, что твой близкий друг был близок с твоей женой.
Ну, а если никто, как и водящий, не прыгал и всё такое, то должен пить тостующий. При некотором стечении народа и достаточном количестве смазывающей воображение жидкости, игра скоро становится забавной. При этом вышло, что игра эта абсолютно филологическая.
Один мой приятель и говорит: “Я никогда не целовался с мужчинами”. Ну, а я про себя быстро думаю – считать ли поцелуем то, что делал полковник Литвиненко перед строем после учений. Был он суровый мужчина – брал за плечи и засасывал по самые ботинки. Потом, правда, сплёвывал.
В общем, мне всё это очень понравилось. Правда, собравшиеся друзья, лесники и огородники, прокляли всё. Наконец, один из них наклонился ко мне и сказал:
– Хватит пить, чмо бывалое!»
Он говорит: «А меня из терапии быстро выписали. Потому что, сказали, вы у нас не профильный. А воспаление легких вам и в другом месте полечат. Теперь я лежу в урологии. Тут ходят старики с мешками для мочи на животе. Один и вовсе сумасшедший – блеет и трясет головой. Лондонский бедлам собственной персоной. Но можно обмануть судьбу – рехнуться гораздо раньше.
Опередить, так сказать. Я думаю, что тут пол-отделения так сделало.
Тут ведь что: полежишь три дня, и у всех уже диагнозы общие. Чуть врач за порог – все утыкаются в свои планшеты и ну искать подробности, повышать осведомлённость.
Я по этому поводу расскажу тебе такую историю: в середине девяностых к нашей компании приблудился один человек, что поражал нас своей осведомлённостью. Например, набивался в гости и говорил: “Не надо адреса, я так найду”. И действительно приезжал вскоре с каким-то дорогим виски. Или, когда мы сидели в Строгинской пойме, выходил к нам из кустов. Довольно быстро мы поняли, что он никакой не чекист, а просто работает в банке, только работает в службе безопасности банка и имеет доступ к базам данных и телефонной пеленгации. Как-то общение сошло на нет, да и сам он исчез.
Фокусы у него были простые, конечно, не для рядового человека, но и не для Штирлица. Да я и сам как-то, не затратив ни копейки, находил людей в Москве вплоть до номера домашнего телефона и адреса. Просто в банке, понятно, возможности шире. Но разумные люди этим не хвастают, и то, что он больше не появлялся, мне показалось закономерным. Жизнь жестока к людям, которые покупаются на внешнюю оболочку профессий. Прекрасно быть красивым офицером и сплясать с Наташей Ростовой в белых лосинах и прекрасном мундире, но непременной составляющей является сначала ядро под Аустерлицем, а потом гнойная смерть в каких-то съёмных комнатах в Ярославле. То есть, сплясать – прекрасно, но это минут пять.
Так и с этими медицинскими знаниями – оно, конечно, хорошо, но лучше без этого знания как-то прожить до старости. А то у меня был сегодня диалог с медсестрой.
– Ничего, – говорит, – поможет укольчик-то. А не поможет, так завсегда у нас топор есть.
– Лучше уж веревочка, – отвечаю.
– С веревочкой долго мучиться будете.
– Нет, нет, – говорю, – у толстяков таких проблем нет. У них сразу шейные позвонки ломаются.
Она сомлела и выдохнула:
– Вы такой понимающий! Прямо как доктор!».
Он говорит: «…Я сейчас вспомнил, как моя сестра с брезгливым удивлением рассказывала про мужчину, что гордо произнёс за столом, такие вещи чаще всего за столом произносят, в середине вечера, что никто от него не делал абортов. Сестра моя тут же вспомнила, как забирала его подругу из больницы.
– Он примчался после, спустя два, что ли, часа, – какая-то была у них история, что-то было очень непросто, я уж не помню, я помню факт. Я молчу, конечно, и ничего ему не говорю. Но сейчас-то? Забыл, что ли?
Я ей тогда начал говорить, что именно забыл, и был в этот момент абсолютно искренен. Просто забыл.
Это не ложь. Сестра вычленяла из общей мировой лжи какую-то неглавную разновидность и думала, что это особый случай. Онанист Лёша может врать самому себе, что ему хорошо. Вася врать подруге Маше, что он втайне – гомосексуалист, но боится попробовать, Маша может врать ему, говоря, что она его любит. А пара любовников – Саша и Шура – давно надоели друг другу, но зачем-то не расстаются и врут, что завалены работой и сегодня не встретятся. Всех нас окружает пелена лжи, от мелочей до крупной трагической неправды, и выделить из этого тумана горсть воздуха невозможно. Это неразрешимая оптическая задача.
Ты проживаешь ещё год, потом другой – и смотришь на те же события совсем по-другому. Видишь, что тебе открылись новые обстоятельства, совы опять не то, чем они кажутся. А потом проходит ещё пять лет, и калейдоскоп перекладывает картинку ещё раз.
Так я рассуждал тогда. А сейчас я чувствую, что всё ещё удивительнее – вглядываюсь в обстоятельства своей жизни, и думаю, со мной ли это было вообще. Видимо, к какому-то возрасту события накапливаются настолько, что уже могут вызывать удивление. Я тебе рассказываю не о скелетах в шкафу, которые сознание пытается забыть, а вообще о событиях – теснятся передо мной какие-то люди, прожившие без тебя, после вашей дружбы, длинную параллельную жизнь. Лезут из кастрюли, как мишкина каша.
Очень странно, да».
Он говорит: «А я, знаешь, много думаю о непрожитых жизнях. Вот живёшь и понимаешь вдруг, что просиди чуть дольше в гостях или там отправься на каникулах с однокурсниками вместо стройотряда в байдарочный поход – стал бы совсем другим человеком.
Я так пару лет назад поехал как-то в лес – к таким людям из прошлого.
В лесу, куда я приехал, было множество людей и комаров. Комары пели свою протяжную песню, понемногу замерзая. Будто древние племена, комариный корм чадил кострами на высоких берегах реках реки. Сотни костров перемигивались в этой пересечённой местности.
Лежали у сосен груды велосипедов, где, будто дохлые рыбы, сушились каяки, и вёсла торчали как странные саженцы.
И я потому это тебе рассказываю, что этих людей я знал давно, да только не стал одним из них. Их технический навык вызывал во мне уважение, но круг их был замкнут почище масонского. Как-то я попал на какой-то день рождения, подсел на угол стола и уставился в телевизор. Все сидевшие за этим столом внимательно смотрели в этот телевизор. Грохотала горная речка, прыгали по ней байдарки, мелькали в белой пене оранжевые каски. Минут через двадцать я почувствовал себя неловко, а через сорок – во мне прибавилось мизантропии. Картинка на экране не менялась – грохотала река на порогах, и бросало в экран белой пеной. И тут, парень, понял я, что чужой на этом празднике жизни, потому как слеплен был из другого, не водяного теста.
А в лесу я слонялся среди друидских костров, зашёл на поляну, где тарахтел электрогенератор. Там была лесная дискотека, бренчали стеклом продавцы пива, а в углу, на возвышении, мерцал телевизор. И как в настоящем баре, картинка не имела никакого отношения к музыке. На экране было всё то же – вода, движение вёсел…
После этого, размазывая комаров по шее, я пошёл к своему жилью, где давно копошились мои знакомые. Немолодой мой приятель ворочался со своей престарелой подругой. Нравы были простые, как у всех стареющих туристов. Они мокро и звучно целовались, и я задремал, пропустив продолжение. Мужья и жёны остались в городе, а тут была совместная память о водяной пене и оранжевых касках….
Но прилетели, жужжа, комары. Я съел трёх из них, самых назойливых, и заставил себя уснуть.
Как только я закрыл глаза, на меня обрушился грохот горной речки, и прямо мне в лоб из сонного марева выскочил нос байдарки. Надо мне, чёрт, было тогда с ними в поход ехать, по рекам плыть, а так что – всю жизнь лётчиком, кроме неба и полосы ничего не видел».
Он задумчиво и перебирает складки одеяла и говорит: «Ты пойми, что меня всё время бесило, так история с авиакатастрофами. Людям всегда хочется узнать, отчего упал самолет, прямо в тот же день. Нет, я понимаю, есть родственники и друзья погибших. Есть множество людей, которые воспринимают катастрофу как личную обиду, да беда – расследование катастроф идёт месяц или два и даже тогда остаются вопросы. Я вот работал с инженером, что в комиссиях этих заседал, так он подтверждал. Смешливый, правда, был. Говорил, что если пассажир не пристёгнут, то лежит чёрти где, а если пристёгнут был, то сразу понятно кто где сидел. Только голые все, с них всё от удара срывает.
Но, главное, говорил, всё равно ничего не понятно.
А людям ведь во всякой беде нужно виноватого назначить. Как назначили виноватого, так все и успокаиваются. Вроде как радость и спокойствие в людях разливаются. Инженер этот говорил, что главное разу под каток этот не попасть – потом не отмоешься, даже если не виноват вовсе».
Он говорит: «Чему ты улыбаешься? У нас совсем другое время было. Например, никаких педерастов я не видел и ужасно удивился, когда Хрущев их где-то нашёл. Думал, что просто ругательство какое-то, вроде “мудака”.
Потом, конечно, расспросил своих и узнал-понял, что такое.
Сейчас вот дочь одного полковника за иностранную теннисистку вышла. Ну, у них там так можно, ну так – совет да любовь. Не знаю уж, что там полковник по этому поводу чувствует.
А у меня вот история была: мы с братом ухаживали за девушками как-то и одна мне уж больно нравилась.
Но ничего не выходило, как ни ухаживай, только траты одни. Она красивая была и, кстати, теннисом занималась. Тогда, знаешь, теннис этот был как фигурное катание… А, не то я говорю, ты не понимаешь, что тогда было фигурное катание. Что тебе про этот теннис объяснять. Но моя красивая была, и я как пёсик за ней бегал. А только спустя лет двадцать, понял, что она мужчинами вовсе не интересовалась. А приметы ведь были, да я не замечал. Она с подружкой всюду в обнимочку ездила – у нас вот разнополых… Разнополые, да – слово такое было. Так их, то есть нас, вместе в гостинице не селили. Способ, правда такой – сунешь в паспорт двадцатипятирублёвку, фиолетовую такую, и – селят. Ну так это ж какие деньги были. А этим – можно было, потому что, знаешь, их не было вовсе. Но потом нас жизнь развела, и вдруг она появилась, и как-то даже мной заинтересовалась, да только у неё что-то с головой стало. Странные какие-то вещи говорила, к какой-то подруге своей отправляла. Я работу искал, так она мне адрес дала, а там – зоопарк. Потом в гости к кому-то позвала, а там её нет, только другая подруга заплаканная. На меня волком смотрит.
Наконец, и вовсе пропала.
И тут недавно у меня дома звонок.
– Здравствуйте, – говорят, – я, говорят, старший дознаватель истринского ровэдэ такая-то.
Ну, у меня сердце обмерло, у меня ж там дача. Думаю, дом сгорел, или там мёртвого бомжа под кустом нашли, а старший дознаватель продолжает:
– Знакома вам эта… – и тут я охнул.
– Несколько лет, – честно отвечаю, – не видел. Да уж чего, лет десять. А так, говорю, знакомы, конечно.
Ну дознаватель мне говорит – понятно, спасибо, извините за беспокойство.
– Погодите, – я так заблажил. – Девушка, милая, да что ж с ней случилось?
– Пропала, – мне отвечают.
– А давно ли?
– Да года четыре назад.
Тут я всё понял. Ну четыре года, значит – всё.
– Знаете у неё с головой было… – говорю.
– Да всё мы знаем, – отвечают. И трубку повесили.
Такая вот у меня грустная история была с этим племенем.









































