Читать книгу "Он говорит"
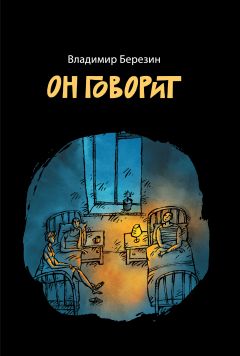
Автор книги: Владимир Березин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мне, что, не жалко дома моего, вида из окна на Моховую? Качелей во дворе, намоленных, к которым я в мороз языком… Ну, ладно, впрочем, что об этом.
Много жалостливых.
Нет, когда надо реально помочь, то это одно. Я, в силу физической комплекции, довольно много покойников перетаскал. Теперь, впрочем, это как-то стало автоматизировано. Теперь всё иначе – я вот как весной приехал на похороны, так думал – понесу. А там оказалось, что прям из морга дело специальные работники увозят. Попрощались – и в ресторан.
Ну вот теперь и вовсе ничего не надо тащить, если договоришься. Просто потом за урночкой заехать.
А раньше часто нужно было употребить грубую силу. Пятый этаж без лифта, а одна крышка от гроба килограмм двадцать весит.
Конечно, и раньше все эти плакальщики были, хер им на рыло.
Я своим сказал – как помру, чтоб меньше шума было. Ну помер, так помер.
И могил бы я этих не хотел – высыпали б меня куда под куст в симпатичном месте у реки. Растворился бы я среди жучков и паучков, пророс сорной травой, да и ладно.
Эта суета от пустоты внутри людей – они её чувствуют, и ну её заполнять.
Нет уж, ходите так. С дыркой внутри.
Проводку лучше новую сделайте, а то проводка у всех на соплях, а всё туда же.
Жалостные».
Он говорит: «Сейчас гуляют совсем не так, как в наше время. Скупо гуляют, устало, деньги экономят.
У нас не так было. Я тогда в Питере жил.
И вот как-то товарищ мой, фотограф Митрич из Москвы, собрался сходить в питерский клуб “Манхеттен”. Однако местный житель, которого для простоты мы назовём Серж, стал его отговаривать, да так, что всем сразу стало интересно, чем это там таким намазано. Москвичам всегда жутко интересно, как там всё устроено – в стране поребриков и булок. Клубная жизнь в особенности.
Оказалось, что друг самого Сержа как-то ему сообщил:
– Во все клубы ходи, только не надо ходить в клуб “Манхеттен” там охранники очень плохие. И вообще всё плохо. Нет, просто очень плохо, – говорит Сержу этот друг. – Мой приятель защищал диссертацию о Набокове, и потом отмечал там защиту. Мы, говорит он, говорили о Набокове, потом к нам подошли охранники, им Набоков не понравился, и они нас побили.
Но через некоторое время эти петербургские люди пренебрегли запретом. Нет, они колебались и сам Серж с чужих слов рассказывал что там всё плохо, охранники не любят, дурно относятся к литературе и разное другое.
– Нет, нет, – отвечали ему, – мы не скажем ни слова о литературе, о Набокове даже и думать не будем, всё будет очень хорошо.
Они зашли в этот клуб, и этот друг, не отклоняясь от прямой линии, тут же вышел на середину и громко сказал:
– А у вас музыка – говно. У меня есть с собой компакт-диск, поставьте его.
Охранники, как автоматы, берут его за шкирку, а он, вырываясь, удивлённо кричит:
– Ну ни хрена ж себе?! Вам наша музыка не нравится?!..
Все, натурально подрались. Вышел, как всегда в случае с высокими материями, конфуз. Всё плохо, очень неловко.
Но проходит лечащее все раны время. В какой-то момент сам Серж знакомится с девушкой по имени Жанна. Жанна, не стюардесса, кстати, но девушка весьма привлекательная. Перемещаясь с ней по городу, Серж начинает размышлять о культурном досуге, таком досуге, что возвысил бы его в глазах барышни.
И они случайно, совершенно случайно, попадают в клуб “Манхэттен”. И вот они сидят, уже достаточно поздно, вернее, поздно по меркам Северной столицы. К ним подходит охранник и говорит:
– Мы очень извиняемся, но очень поздно, поздно по меркам нашего славного города на Неве…
– О, да… – отвечает наша пара. – Да, мы скоро уходим.
Но через полчаса охранник появляется снова и начинает канючить голосом нищего из электрички:
– Такая неловкая ситуация у нас возникла, метро у нас до двенадцати работает, а девушкам надо возвращаться… Не могли бы вы покинуть нас…
– Хоро-о-ошо… Вы, конечно, нас тоже простите, что мы вам доставили такое неудобство, мы сейчас вызовем такси и тоже обязательно покинем вас… – отвечают Серж с подругой.
Они вызывают такси, а пока продолжают сидеть за столиком.
Через какое-то время охранник подходит снова и произносит:
– Мы ещё раз очень извиняемся, но очень поздно, поздно по меркам нашего славного города-героя…
– Да, – отвечают те, – мы уже вызвали такси, и вот-вот оно подъедет.
– Но, – продолжают охранники, – действительно очень поздно, и нам так неловко…
– И нам ужасно неловко, – говорит Серж, – но такси скоро подъедет, и мы…
Проходит ещё полчаса.
Охранник подходит к столику снова.
– Я вам, наверное, надоел, – говорит он, – я очень извиняюсь, но уже чрезвычайно поздно по меркам нашего города, а вы хотели уехать… Нам нужно закрыть наше заведение, а девушкам, что у нас работают, чрезвычайно далеко ехать, они молодые и им страшно.
– Хорошо-о-о, – произносит Серж. – Но поймите и нас, такси ещё не приехало, на улице холодно, моя спутница может замёрзнуть. Давайте мы перейдём в холл.
– Спасибо-спасибо, – рассыпается в благодарностях охранник.
Серж выбегает на улицу и видит, что такси нет. Но Жанна уже переместилась в пространство перед гардеробом и стоит там – бессмысленно и никчемно.
Рядом с ними возникает всё тот же охранник.
– Извините, – начинает он всё ту же песню. – Извините, ради Бога, но дело в том, что наша гардеробщица – тоже молодая девушка и ей тоже очень далеко ехать, а сейчас уже поздно, очень-очень поздно…Вы, конечно, меня простите…
– Нет, это вы меня простите, – отвечает Серж, – мне ужасно неловко, и я вам уже надоел, но на улице холодно, а такси всё нет… Можно мы постоим здесь?
Они стоят одетые ещё полчаса, и, наконец, перед ними снова вырастает тот же охранник.
Он, еле сдерживаясь, начинает:
– Извините, пожалуйста…
Но для третьего слова его хладнокровия не хватает и он с чувством говорит:
– Слышь, ты, хуйло, а ну, уёбывай отсюда!..
– Ага! – радостно кричит Серж, и коротким ударом бьёт охранника в лоб.
Но охранник большой, а Серж – человек маленький. Его как-то обхватывают и выносят на улицу. Тогда Серж подбегает к звонку и начинает яростно звонить.
Готовый к отпору охранник открывает дверь, но Серж уже наготове, рвёт дверь на себя, и тут же толкает обратно. Охранник с грохотом рушится в вестибюль. Тогда торжествующий Серж с тревогой оборачивается к своей спутнице:
– Жа-а-анна! Вам эти люди ничего не сделали?
Выясняется, что Жанны рядом нет. Тогда Серж поворачивается к двери, которую служащие клуба уже успели захлопнуть, и снова начинает давить на кнопку звонка.
Минут десять за дверью нет никакой жизни. Но потом дверь медленно открывается, и Серж повторяет ту же процедуру. Кто-то с глухим звуком падает на пол.
Заглянув в вестибюль, он видит, что там лежит молодая девушка из обслуживающего персонала.
Тем временем Серж пробегает по залам, протяжно и страстно крича: “Жанна! Жанна! Жанна!” Добежав до кухни, он спрашивает каких-то людей, не видели ли они девушку по имени Жанна.
Те говорят, что да, видели. И прибавляют, что за ней гонялся охранник, и она спряталась от него в ларь с бельём. Открывают ларь – там никакой Жанны нету.
– Ну у вас и охранник, – замечает Серж.
– Да, у нас безумный охранник! – не перечат ему непонятные люди.
Но Жанны всё равно нигде нету, и Серж через чёрный ход выбегает на улицу и грустный и потерянный, идёт по двору. И вдруг видит Жанну.
– Жанна! Жанна! – кричит он. – Как я рад вас видеть! Всё ли у вас хорошо?
– Да, – отвечает Жанна. – Да, у меня всё хорошо. Но, Серж! Кажется у меня небольшая проблема… Кажется, я в этом клубе забыла свою сумочку.
Они возвращаются ко входу и принимаются снова звонить в дверь. Снова никто не открывает.
Очевидцы говорят, что на следующий день клуб был закрыт.
И, кажется, навсегда.
Вот как устроена была клубная жизнь в Северной столице в наши времена».
Он говорит: «А вот ещё история, как раз про девяностые годы. Я думаю, что девяностые годы это такой бренд, вроде ковбоев на Диком Западе. Модно сейчас про них вспоминать – то, как мы были хороши, и даже с некоторыми деталями бандитского шика. Про девяностые любят вспоминать те, кто тогда был молод, у кого кровь кипела, а пиписька не висела уныло, а, как заметил американский писатель Миллер, была похожа на кусок свинца с крыльями. Кто тогда был постарше, вспоминают это не очень радостно, а уж те, кто ещё старше – вовсе не вспоминают. Не вспоминают от того, что просто перемёрли. Уж больно девяностые ускорили этот процесс – безо всякой красивой пальбы из револьверов. Но, впрочем, и на Диком Западе было вовсе не так, как в кино. Не кольты, а дробовики, не романтика, а антисанитария.
Но это я отвлёкся. Вот вам музыкальная история, которую мне поведал один питерский человек.
Жил-был певец, историю жизни которого рассказал человечеству всё тот же наш товарищ, о котором я говорил в прошлый раз. Этот певец взял у бандитов десять тысяч иностранных денег, потратил их на что-то бессмысленное – на что и сам не помнил. Помнил только, что сшил себе голубой пиджак с люрексом.
Но время длилось, и он, наконец, понял, что отдать долги не в силах. Тогда певец решил переметнуться к другому знаменитому человеку. Мирзоеву – назовём его так, потому как имена, фамилии, а также структура акцента в этой истории совершенно неважны.
К певцу пришли за деньгами, и он ответил, что все вопросы переведены на Мирзоева.
Что ж, бывало и такое. Тогда кредиторы пришли к Мирзоеву. Они немного трусили, но дело их было правое.
– Сколько он вам должен? – первым делом спросил Мирзоев, да так, будто не знал этого раньше.
Те ответили, что десять тысяч.
– Шамиль, мальчик мой, – сказал Мирзоев, – открой сейф.
Здоровенный громила открыл сейф, и всем стало видно, что он до отказа забит зелёными американскими деньгами. Люди, пришедшие за этими деньгами, невольно привстали со стульев и протянули свои ручонки к своему и чужому богатству.
– Слушай, подожди, да? – остановил их Мирзоев.
Кредиторы замерли. Их руки зависли бессмысленно, как гипсовые конечности садово-парковых пионеров.
Обращаясь к старшему из гостей, Мирзоев произнёс:
– Подожди, я сейчас тебе один история расскажу. Вот у тебя, скажем, был женщина. Ты его в ресторан водил, торт покупал, мороженое ей покупа-а-ал, шубу покупа-а-л… Вы год жили счастливо, потом он от тебя ушёл. Ушёл к уважаемый человек. Может такое быть, да?
Кредиторы с глухим стуком закивали головами, роняя их на грудь.
– Так вот. Женщина ушёл к уважаемый человек. И ты приходишь к нему и говоришь: «Я с этой женщиной год жил, мороженое ей покупа-а-ал, шубу покупа-а-ал, вот тебе, уважаемый человек, чек из магазина раз, чек из магазина два, вот тебе ещё чек. Заплати мне? Да? Ты, конечно, прав будешь… Но ведь уважаемый человек потом об этом людям расскажет.
Мирзоев откинулся в кресле, и, помолчав, продолжил:
– Я, конечно, могу отдать тебе эти деньги. Я пилевал на эти деньги. Но меня могут спросить, зачем вы ко мне приходили. А я ведь уважаемый человек, потому что я не вру. Я скажу, зачем вы приходили и скажу, что дал вам денег.
А вы знаете, кто такой артист. Ведь артист – он кто? Он как женщина, да. Купил себе платье – и пляшет, радуется. Артист купил себе пиджак – и тоже пляшет, радуется. Он чисто женщина, понимаешь?
Гости уже были не рады, что пришли, они сидели на чёрной коже стульев как на сковородках. Они обливались потом и порывались покинуть Мирзоева, но тот остановил их жестом.
– Ты, конечно, можешь взять эти деньги, да… Только вот представь, сидишь ты в кабаке, с друзьями, сидишь и видишь этот артист в телевизор. И ты друзьям говоришь: «Видишь этот голубой пиджак? Это я ему купил!». И гордишься – потому что ты уважаемый человек. А вы, конечно, правы… Конечно, правы, когда хотите денег…
А они, эти деньги, уже выложены на стол грудой резаной бумаги. Хозяин делает над ними несколько широких пассов, будто фокусник на манеже. И зелёная бумага пугает гостей не хуже, чем огненные кольца – тигров.
– Да, вы правы, вы правы. Эти деньги – ваши. Но подумайте сначала…
Кредиторам не надо было думать, они, уронив пару стульев, оттянув толстыми пальцами цепочки на отсутствующих шеях, покинули кабинет.
После того, как эта история была рассказана, к нам подошёл музыкант Балабанов и сказал:
– Надеюсь, вы понимаете, что это враньё?
– Ну да, – отвечали мы ему.
– Враньё, враньё, – продолжил серьёзный человек Балабанов. – Я их всех знал. Пиджак был совсем не голубой…»
Он говорит: «Нет, я-то в домике живу. Не в сельской местности, а в дачной, садово-огородной. Там по зиме лучше, чем летом.
Это старые дачи веселы по лету – там сосны за высоким забором. Тишина и спокойствие.
Мне так один сторож говорил в Красково:
– Еврей, – говорит, – он сосну любит. У нас тут самое оно. Сосны…
Я тебе скажу, как приборист со стажем: по евреям надо всю окружающую действительность калибровать.
Еврей плохого не захочет.
А наш человек возьмёт, что даёт, или, на худой конец, что плохо лежит.
Поэтому у нас – что? Суглинок и сорная берёза, комары.
Но я люблю эту жизнь.
Я там круглый год живу. И, что важно: не в сельской местности, не в дачной, а садово-огородной. Там по зиме лучше всего – огородники дома сидят, в квартирах.
Летом как сосед для душеподъёмности на грядке Лепса включит… Лепса у нас слушают ещё, это в городе перестали.
Лепса этого хорошо слушать головой вниз, во время прополки. Когда я его слушаю головой вверх, смотря на соседа с приёмником, мне дурно становится.
А раньше-то на грядках-то Аллегрову слушали, если кто ещё помнит, что это такое.
Вот поэтому я люблю зиму и позднюю осень. Тогда у нас там нет никого, и только забытые яблоки – фигак! – бьют в мёрзлую землю.
Огородники в эту пору дома сидят, в квартирах.
А у нас в эту пору народа мало, только в лабазе разве.
Как-то пришёл я в лабаз за всякой мелочью и увидал, как готовится народ к празднику. Прям как к войне.
Вдумчиво брали бухло – тоннами. Иначе смысла нет – Новый год же на носу.
Тренируются.
Некоторые вот философствуют о таких делах – где, думают, будут пить – в городе или на даче. Раньше-то, в праздники бухло ограничивали, а то и запрещали к продаже.
Я раньше на Маяковке жил, у нас и в магазинах-то не продавали. Рядом – парад, праздник, победа, день города, страны, мира. Да и то – с какой водкой лучше выйти – с магазинной, тёплой, или полежавшей в морозильнике.
Хотя, что это я? Просто вернуться с демонстрации неясного назначения и забухать за столом.
По праздникам, впрочем, у нас всё-таки старух много затаривалось. Но это примета того, что на кладбища поедут.
Хотя многие не доедут.
Но я отвлёкся – так вот, пришёл в лабаз в полдевятого вчера и увидал перед магазином на станции парад зомби, будто из фильма какого-то.
Молча идут. На негнущихся ногах, ползут к девяти вечера (им продадут всё равно, там у нас мимо кассы пробивают).
Но зрелище безумное. Будь у меня помповое ружьё, начал бы стрелять чисто профилактически.
На станции у нас вообще – жизнь. Везде уже осенний мёртвый сам, а на станции теперь такси самопальное у перехода через пути всегда тусуется. Там, где остановка автобуса на Лукино. А раньше там сортир стоял – вот где ад был. Полвека уж его помню, а как вспомню, так запор у меня.
Ну, так я всю жизнь там жил – и дед мой жил, и мать моя.
Помню, кроме сортира, разное: вот, древний дачный ритуал походов к телефонной будке.
Вечерний светский раут, когда спадет жара.
И я там был, и прижился в той жизни. Ушлые мои товарищи делали дырку в пятнадцатикопеечной монетке, продевали в неё нитку – и звонили до опупения. Это деньги тогда были немалые.
Правда, иногда нитку пережимало, да.
Обман, да. Правда, везде нынче обман.
Никто никому не верил.
Ни правительство народу, ни народ – правительству.
Да и оппозиции кто верит?
Народ-то оппозиционным деятелям не верит. Народ вообще себе на уме. Взять любое дачное товарищество – кто-нибудь верит правлению или председателю?
Мне ещё десять тыщ ещё за новый трансформатор внести надо. Но в каждом садовом (у меня садовое) товариществе есть ещё нелюбовь к правдолюбцам, что ну сраться на собрании, из идейных соображений на дорогу не хотят скидываться, когда все уже договорились, причём сами поперёк этой дороги навалят кучу компоста и съедут в город. И вроде бы они правы в том, что председатель пустил пожить украинских шабашников и деньгами не делится, да только мне как генералу Чарноте, всё хочется вписаться к большевикам, чтобы этого Парамошу расстрелять.
Но потом – выписаться.
Жизнь зла».
Он говорит: «Я вот ездил в одну маленькую, но гордую республику. Там есть один маленький, но гордый министр. Сидит под своим собственным портретом – причём в том же костюме, что и на портрете. А напротив, тоже в полный рост, портрет жены. Масло маслится на солнце, сверкает. Такое впечатление, что жена сейчас выйдет из дверки и сядет напротив мужа. Я всё хотел разгадать эту психологию.
Каково этому министру сидеть в окружении таких портретов. Под сумрачным взглядом жены решать дела внешней политики.
Мне это очень интересно».
Он говорит: «Вот у нас на автобазе был случай. Один слесарь завёл любовницу, но по бедности это была резиновая женщина. Ну, натурально, жена прознала – всё же там помада на шее, тальком пиджак обсыпан, да и деньги стали утекать. Ворвалась на автобазу и истыкала соперницу ножницами.
Слесаря только к стенам жались».
И тут же сам хохочет. Трясётся кровать, звякает ложечка в стакане, что-то падает внутри тумбочки.
Он говорит: «Я всю жизнь по строительной части, причём самой негероической. Я по канализации специалист. Палат каменных много не нажил, нажил бетонную двушку, сейчас на пенсии. Читаю в основном, а что ещё делать?
Перед внуками за все книги в ответе. Они меня как-то спрашивают, насколько велика книга “Чёрный лебедь”
Я впал в ступор, оттого, что считал, что “Чёрный лебедь” уже давно протух.
Ещё я думал, что вот этот мужик написал следующую книгу, у нас её перевели – “Антихрупкость”, кажется – и долго мусолили, и вот теперь уже и эту, новую, забыли.
Ну, у лебедей судьба одна – лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал. И, сложив бесстрашно крылья, на землю упал.
Автор всего этого дела, по имени Талеб, со всеми его книгами был певцом успеха – не в прямом в смысле “Как заработать миллион”, но из этой схемы.
Вокруг этой книги странное облако. Дело в том, что бывают такие книги, которые тебе хвалят заведомо странные люди.
Например, так мне хвалили Ричарда Баха – то есть, вот книга, что объяснит тебе всё. И не то, чтобы я не верил в то, что бывают книги, объясняющие всё, но как-то велик риск нарваться на сектантов. (Сектанты, как я тут вам говорю, это такое расширенное понятие).
Я сектантов не люблю, потому что у них не бывает чуда, сколько бы тебе не твердили, что перед тобой небо в алмазах, только оторви попу от стула и сделай пятнадцать приседаний. Чуда нет. Алмазов – тоже. И если ты смотришь внимательно, то видишь только нейлоновый полог палатки и сплющенных комаров на нём.
В обществе устойчивый спрос на книги-рецепты, написанные бодрым убеждающим тоном.
Но этот бодрый тон на меня не действует.
Я понимаю, что просто так уже не могу читать книги, написанные в этом ключе. Мне нужно его читать с таким внутренним арбитром, чтобы и внутренний сектант высказался, и внутренний экзорцист. А арбитр их должен рассуживать.
Но разбираться с этими деталями – труд, труд тяжелый – ну его.
У этих книжек-объясняющих-жизнь-как-она-есть наличествует такая особенность – пройдёт волна ажитации, и все начинают говорить “Эко мы повелись, это же не кровь, а клюквенный сок”.
И все говорят, что давным-давно подозревали, что это смесь Коэльо с Карнеги, а хвалили из вежливости. Или потому что им нужно было написать рекламную рецензию, а дома дети некормлены.
Кстати, Карнеги действительно учит жить – и советы его толковы – включая запомнившийся мне – “поздравляйте людей с днём рождения, потому что вы можете оказаться единственным человеком, что поздравил кого-то, кто в этот день оказался одинок” Мне безо всякой прагматики это показалось верным, да социальные сети сильно упростили это дело.
Так и с прочими такими книжками – я всё время рядом с ними чувствую себя в магазине на диване.
В общем, нужно было бы их спросить:
– А это точно, что книга, а не фильм про балерину?
Но не спросил.
В общем, чудны дела Твои.
Я думал, что этот лебедь уж где-то там, в омуте, воркует с чайкой по имени Джонатан Ливингстон.
Отчего-то вспомнил стишок, рассказанный мне ещё в конце семидесятых.
Сколько я помню, Зотов был у нас заместителем, а начальником отдела строительством канализации.
В этом я, впрочем, не уверен, память сбоит.
Уверен в другом – удивительной силе этого стихотворения, созданного его подчинёнными, которое, пронесённое памятью через года, не утратило своей силы:
Средь говна и сточных вод
Лебедь белая плывёт
В галстуке, заботах…
То – товарищ Зотов».
И он, откинувшись на подушки, переводит дух.
Он говорит: «А я книги пишу. Заработок – так себе, да и славы немного. Я и при жизни от своих-то книг пытаюсь избавиться. “Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда”, и всё такое.
Помрёшь, всё равно дворники-таджики снесут их на помойку, и он будут там печально шелестеть страницами, пока не намокнут.
Правда, мне грех жаловаться – я однажды понял, зачем книги нужны, и особенно, книги с фотографиями авторов.
Я как-то ездил по Америке. От одного океана до другого.
И вот в одном городе случился у меня конфуз – карточка-ключ перестала открывать дверь.
Я пошёл вниз и спрашиваю негритянских красавиц у стойки этого гигантского отеля: “Во-первых, не видали ли вы моего зонтика, а, во-вторых, я к себе в номер попасть не могу”
«Да отвалите с вашим зонтиком. Вы про него в шестнадцатый раз спрашиваете, – отвечают мне (но вежливо так, всё время улыбаясь, как у них это принято), – Что до карточки, так всё очень просто, сейчас мы карточку вам перемагнитим, только покажите нам ваше ID, господин N.
И я понимаю, что номер зарегистрирован не на меня, а на старшего группы товарища N., а он ушёл куда-то по делам.
И сейчас я никакого N. я не изображу с помощью своего паспорта. Без паспорта – изобразить могу, а вот паспорт – это совсем другое. А пока идём мы с охранником ко мне в номер.
Он открывает и говорит – теперь найдите в этом бардаке свой паспорт.
А я ему под нос сую свою книжку, где я во всю обложку: «Видите, видите, – говорю, – какой я красавец?! Узнаёте?»
Он же, упорный, всё паспорт требует: “Очень хорошо, рад за вас, но где же паспорт”?
А потом, как удар в поддых: “А в каком жанре это написано? Эти, типа, ваши Dialogues”?
Но я храбро бросился вперёд: “Это драматургия!?”
“А вы точно знаменитый писатель?” – спрашивает тогда меня негритянский красавец, и чувствую, что лёд тронулся.
“Офигеть, – говорю, – какой знаменитый. С самим Путиным чай пил”.
“Йопта, – говорит. – Сильный аргумент. Практически нечем крыть. А Бейонсе видали у нас вчера?”
“Да видал, клёвая чика, она ведь тут в баре матч смотрела. Ключик-то отдайте, дядя Том. Я волшебное слово знаю. Пожалуйста…»
“Ну ладно, лысенький, – отвечает он. – Потом покажешь. Если что”.
А затем охранник спустился вниз и по редкому совпадению натолкнулся на господина N, который там прогуливался: “Вы ведь, – спрашивает он его, – из России? Тут такой лысенький… По виду – знаменитость. Правда, что ли?”
Ну, тот шанса не упустил: “Такая, – говорит, – знаменитость, что не приведи Господи! Узник совести и свободы”.
Негр тут крякнул и говорит: “Ну, круто! Я и Бейонсу в один день увидал, и какого-то вашего лысого Солженицына”
Так вот зачем на задней части обложки печатают портреты авторов. Вот как раз за этим».
Он говорит: «Мы тут все лежим, думаем о вечном. О здоровье, конечно мечтаем.
А я как-то со своим приятелем Ваней Синдерюшкиным, стал рассуждать, что бы мы попросили у волшебника[5]5
Один человек небольшого роста сказал: «Я согласен на все, только бы быть капельку повыше». Только он это сказал, как смотрит – перед ним волшебница. А человек небольшого роста стоит и от страха ничего сказать не может.
«Ну?» – говорит волшебница. А человек небольшого роста стоит и молчит. Волшебница исчезла. Тут человек небольшого роста начал плакать и кусать себе ногти. Сначала на руках ногти сгрыз, а потом на ногах.
Читатель, вдумайся в эту басню, и тебе станет не по себе.
[Закрыть].
Я сказал, что попросил бы знание всех языков мира, и сам бы себя перевёл бы на них, потому что это, может, не обильный, зато – хлеб. Или там переводчику с экзотических языков на этот хлеб с маслом хватит – пока машины не подсуетились.
Ваня выслушал это и сказал:
– А я бы хотел, чтобы женщина испытывала бы от одного моего прикосновения оргазм.
Я вылупился на него и возразил: ну какая тут семейная жизнь, когда ты руку подашь жене, выходя из трамвая, а тут…
Он меня не слушал:
– Ты, дурень, ничего не понимаешь. Руку подал в транспорте, и тут… Попрощался с девушкой в метро, и – вот. Что от нас останется? Только эти воспоминания!
Я, впрочем, нашёл какие-то аргументы, выставил его идиотом, и каким-то радужным раздолбаем навроде прочих.
Но сердце моё было неспокойно».
Он говорит: «Я люблю письма. Звонить не люблю. Мне всегда было трудно звонить куда-то – в ЖЭК, в справочную или просто родственникам. Как-то тревожно мне было слышать чужой незнакомый голос – проще было дойти до конторы, посмотреть на вывеску и убедиться, что всё там закрыто. А как началась эта революция с компьютерами, так мне прям карта и пошла. Сперва ведь у нас никакой рекламы в них не было.
Знакомые писали, только знакомые.
Потом я по больничкам стал лежать – ну, а как там стало можно письма получать, мне и горе не беда стало.
Или вот мне сегодня пришло письмо. Начиналось оно так: “Итак, сейчас я задам вам несколько вопросов. Отвечая на них, вы поможете не только мне лично, но и социуму вообще. Уверяю вас, также вы получите и личное удовлетворение, однако это будет зависеть от вашей искренности”
И я подумал, что в жизни есть такое правило – если что-то хорошо начинается, то добра не жди».
Он говорит: “А меня реально бесит, когда люди мне рассказывают о себе. Ненавижу. Вот спросишь кого-то: “В котором часу встречаемся?” – А он тебе: “Значит, так… В пять я заканчиваю, там у нас ещё на мосту пробка… А потом мне заправится надо – это ещё… Десять, нет пятнадцать минут до тебя”. Я тебя, твою мать, что спросил? Я спросил тебя, когда мы встречаемся. Мне про твою жизнь знать не надо. Мы с тобой уже десять лет знакомы, мне надо знать, когда ты документы привезёшь.
Ты должен сказать: в шесть часов.
И привезти, твою мать, наряды, в шесть часов. А если ты скажешь мне, что привезёшь в шесть тридцать, то я это дело тоже пойму, но ты, твою мать, передо мной устным счётом занимаешься и рассказываешь ненужные подробности. И так у нас везде.
А этого ты, твою мать, наоборот, твою мать, спрашиваешь: “Ты им отделку сделал?”
А он тебе: “Виктор Иванович, тут у нас такая беда была, гайцы нас тормознули, и мы вместо рынка с ними расплатились, а ещё у меня жена беременная”. Мне, твою мать, неинтересно, что у тебя жена беременная, ну беременная, так ты уйди в декрет тогда. Я тебя спросил, сделал ли ты отделку, и ты мне, во первых словах своих уже ответил. Понял я со второго слова, что отделки ты не сделал, ну и зачем ты мне свою жизнь рассказываешь? Нет, я, твою мать, знаю – зачем. Причём ты ведь не для меня это всё рассказываешь, ты же знаешь, что я тебе скажу, беременная у тебя жена или не беременная, ты ж меня не первый день знаешь.
Ты это всё себе рассказываешь, чтобы себя убедить, что так жить можно.
А так жить нельзя.
Или вот жена мне говорит, что я её разлюбил, наверное, потому что стал холоден.
И теперь у неё тоска, твою мать. Но я-то знаю, что никто никого не разлюбил, ни я её, ни она меня, просто, твою мать, у нас у всех кризис, и нам страшно, и за себя и за детей, потому что хрен они нас прокормят, а уж про то, что вылечат, я и вовсе не заикаюсь. А за детей страшно, потому что они бестолковые, были б толковые, я бы и бровью не повёл, а так мне страшно, да. Но я молчу, меня спросят: “Когда наряды будут?” так я отвечаю: “Привезу завтра в десять” Меня спросят, как там с отделкой, так я честного говорю, что не успели. Будет через неделю, ручаюсь.
Ну и лежу с женой и говорю ей: “Милая, всё будет хорошо, только устал я очень, и не по себе”. А в боку что-то ноет, прям мочи нет, правда, но я говорю: “Потом, милая, всё и будет, потом. Потерпи”. Что мне ей, подробности рассказывать? Этого не надо».
Он говорит: «Мы тут все лежим в безделье, а время течёт мимо нас. Так я расскажу, что видал людей, которые управляли временем. Не то, чтобы они вертели им как хотели, но пытались – точно. Это довольно странная история про юбилей одного самодеятельного коллектива, который я давно знал и даже дружил с некоторыми основателями. В моей стране отношение к ученым было когда-то особым – сродни наполеоновскому желанию поместить их в середину вместе с ослами.
Правда, Бонапартий их хотел спасти, а меня, инженера, они раздражали.
Да только это всё обычная ревность.
Я-то инженером служил в разных конторах, и меня принимали за учёного.
Я даже защитился – хоть и по техническим наукам.
Ученые на воображаемых картинках моего детства всё время были с какими-то зверями – то с лягушками в банке, то превращались в священных коров, то возвращались в стойло к ослам.
Потом как-то разом учёные стали не в цене, и я, окончательно перестав быть одним из них, разглядывал развалины подмосковных институтов, опутанные старой колючей проволокой – ржавой и ломкой.
Два места меня всегда занимали в этом ряду – санаторий “Узкое” и Дом Ученых на Кропоткинской. Это был консервированный быт науки даже не собственно советского, а вымышленного имперского времени: Бомба создана только что, приборы в лабораториях стоят на дубовых столах, сверкают начищенной медью.
Балясины на лестницах помнят княжеских детей.
Рояль – обязательная деталь обстановки.
Деревья в парках шелестят по-прежнему, и те хозяева, что уцелели, все так же пьют на верандах чай – прислуга в наколках (в исконном, разумеется, понимании этого дурацкого слова “наколка”), а на столе – варенье, сваренное не по способу семьи Левина, а по способу семьи Китти.
А теперь я обонял запах стариков, собранных в одном зале.
Были, впрочем, внуки и внучки. Среди них, привлеченных для транспортировки старшего поколения, мне более нравились внучки.
Пожилые ученые пели удивительно фальшиво, пожилой ударник был похож на дождь, равномерно молотящий по жестяной дачной крыше. Но тут на сцену выбежали пригожие внучки в гладких черных колготках – это был беспроигрышный вариант.
Вот пригожие девки меня всегда занимали.
Меня один человек научил этому, и я поделюсь секретом с вами – критерием правильного мероприятия всегда было присутствие пригожих девок. Ведь у пригожих девок каждый вечер – тендер, и дурного они не выбирают.
В некоторых случаях пригожих девок можно заменить на телевидение.
Итак, у них там выбежали пригожие девки. Зачем, что там у них за капустник, и что это за кордебалет я не выяснил. Значит, не всё так плохо.
Я видал много капустников – пионерских и комсомольских, поставленных по методичке, видал кавеэнщиков, шутки которых за два года обычно опускаются ниже на метр, видал и корпоративное самодеятельное веселье.









































