Читать книгу "Он говорит"
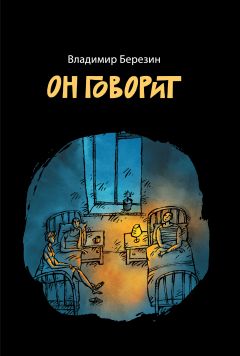
Автор книги: Владимир Березин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Обидно, да.
Ну так вот, был у нас в экспедиции такой морячок.
Не поймёшь, с чего его морячком звали – в тельняшках-то половина там ходит. Кажется, он там сидел, а потом и зацепился за эти места – так и кочевал из экспедиции в экспедицию. Сделал себе ружьё из водопроводной трубы. Вот клянусь тебе, из водопроводной! Загнул один конец, просверлил дырку. Причём заряжал он его с дульной части, как в старинные времена.
И вот на этого морячка вышел медведь.
Я на дерево забрался – тоже, конечно, глупо. Медведь, если захочет, и на дерево влезет.
А морячок наш внизу остался. С ружьём своим.
Медведь к нему идёт, а он как бахнет из своей пищали, да только попал медведю в лоб. А лоб у медведя, что башня у танка т-34, скруглённый, пуля его самодельная вверх и ушла. Медведь заревел, встал на задние лапы… Думаю, конец морячку.
А тот снова насыпал пороху, забил пулю с пыжом из газетки и чуть не в упор в медведя выстрелил. Зверь и завалился. Так он сразу же взял нож и ну, шкуру снимать. А медведь ещё не помер, задёргался. И как двинет морячка лапой в ухо. Тот и отлетел в сторону.
Но подобрал ружьё, снова набил ствол, да медведя и кончил.
Сидит, снова шкуру снимает. А у самого пол-уха нету.
Я потом долго в него всматривался, как у него голова устроена. Не в смысле, как ухо зарастает, а как вообще он жизнь понимает.
И вот что я тебе скажу – совершенно неинтересный человек.
Никакой загадки в нём не было.
И того, что учёные люди называют рефлексиями, тоже не было. Ни грамма.
Да и вообще ничего не было.
Оттого он и смерти не боялся.
Потом, правда, простудился и умер. Но это уже в Петропавловске. Поехал осенью в Петропавловск, попил пивка на десятом километре, простудился и умер».
Он смотрит в окно и говорит: «У нас воровали всегда. Просто в разные времена это было по-разному.
К примеру, у нас в день завод получал тысячу вагонов, и имел три миллиона единиц тары, которую гнал обратно. Часто охрана видела пустую тару, заполняющую вагон и физически не могла найти внутри зарытые запчасти. Иногда в вагоны залезали люди с запасом пищи и воды, и они раскрывали ящики, доставали крестовины и валы и выбрасывали под откос и прыгали за ними.
Схему поняли только в тот момент, когда кто-то из похитителей разбился.
Ты может, понимаешь, что этого не могло не быть. У нас, понимаешь, средняя зарплата у нас была сто сорок рублей, а крестовина с подшипниками стоила двадцать пять. Распредвал стоил 39 рублей 90 копеек, а уголовная ответственность наступала с сорока рублей.
Или же рабочие сговаривались между собой и несчастные охранницы в своих шинелях на выходе слышали писк металлоискателя, но толпа продавливала несуна через проходную.
На крыше главного корпуса мы находили катапульты, которые стреляли запасными частями за забор.
Или делали так – отправлялся вагон с тремя машинами, скажем, в Ташкент, а другой, с двумя, в Новосибирск. Ушлые люди меняли их местами, вскрывали пломбу и забирали одну машину – из того вагона, где должно быть три. Ну, в Новосибирске получали свои две и не рыпались. А в Ташкенте начинали возмущаться, но машины-то не их, а новосибирские. Начинала вертеться бюрократическая карусель и могла вертеться месяцами.
Была другая история – на наших заводах возникли спортивные центры и команды. И вот, у спортсменов были дармовые автомобили, они, эти автомобили, стояли на территории. И рядом стояли машины, в которых не хватало комплекта – ну там смежники не прислали зеркала заднего вида – и вот стоит две сотни машин, готовых, а зеркала у них нет, и они его ждут. Ну и спортсмены приходили со своими номерами, привинчивали их, и выезжали на этих машинах. Прямо через проходную.
Я из-за этих спортсменов прямо покой потерял.
Я понял, что будет дальше – это мне такое видение было. Я увидел всё в деталях, будто в волшебном телевизоре. Ведь у нас особое производство: прибыль на танках может и больше, но и контроля там больше, с кастрюлями контроля меньше, но и прибыль невелика.
Ведь о чём мечтал советский человек? Получить квартиру, построить дачу и купить автомобиль. Получить квартиру – тяжело, с дачей чаще всего тоже сложно. А с машиной – другое дело.
Потом ведь пришли гении. Ну, реально гении – вот один появился, и началось всё очень красиво – совместное предприятие с итальянцами по логистике, которое перевооружит центр запасных частей, создаст нам пятьдесят или семьдесят центров технического обслуживания по всей стране и всё такое. Под это попросили разрешения у Правительства беспошлинно ввезти как бы импортные автомобили (в кредит, разумеется – никто ничего не покупал), с тем, чтобы всю выручку пустить в производство. Понятно, что эти ребята многих уговорили пообедать на этом деле, а кого не уговорили, те вдруг обнаружили себя на иных должностях или с ними ещё что произошло.
К тому моменту наш завод пятьдесят процентов автомобилей поставлял на экспорт.
И вдруг это экспорт обвалился на хрен. Дистрибьюторы шлют нас на хрен, это прежде всего соцстраны, потому что капиталисты продолжали брать. Наши бывшие братья хотели ездить не на новых наших, а на подержанных – ихних. Плюс к этому – обязательства дилеров раньше гарантировались правительствами этих стран, а правительства эти теперь смотрят на сторону. А, между прочим, поставки записаны у нас в плане по две с половиной тонны грина за машину. При том, что на внутреннем рынке машина стоит пять тонн. При этом у западных дилеров была ещё отсрочка платежа по контракту в девять месяцев! Что такое девять месяцев в то время, при инфляции в две тысячи процентов? А? Понимаешь? Ты платишь в рублях, а потом получаешь…
Только глупому человеку это не внушит интересную мысль.
А уж ребята эти глупыми не были. Один был снабженцем в Тбилиси. А глупых снабженцев не бывает, не бывает по определению.
Западный дилер должен купить у нас машины, и если он отказывался, то обязан был платить неустойку. И вот к этому замученному дилеру приходил человек, и предлагал простить половину или всё, если он перепишет товар на неких лиц. И дилеры с той стороны просто прыгали от восторга. Сначала ещё скромничали – выгоняли в Чопе эшелон из страны, а потом загоняли его обратно под стук таможенных штампов, освобождающих машины от налогов как реэкспорт.
К машинам в девяностые годы относились как к полезным ископаемым – понятно, что мы ничего не вложили в производство нефти или угля, а только в их добычу.
Ну, я и ушёл на пенсию.
Нет, не надо гнуть пальцы, будто мне за державу обидно – ничего мне за державу не обидно. Она всех вырастила – и меня, и их. Это всё она, как гусеница, превратившаяся в бабочку, а потом бабочка, превратившаяся в гусеницу. Вечная такая.
Причём эти, новые, приезжают к сыну на дачу, куда хуже. Машины у них хорошие, немки да японки. Но сядут на веранде выть – прямо Конец Света. Страшные годы пришли, деньги кончились. Надо ехать к тёплым морям, спасаться от террора.
А я ведь их насквозь вижу – они ж никому не нужны.
Они не то, что деталь не выточат, они её подмышкой не вынесут. Обосрутся.
Я выхожу тогда в сад курить.
Как-то вышел, слышу: трещит что-то.
Это соседский мальчишка, у меня яблоки тырит. Я его знаю, безотцовщина. А у брата две ходки. Ну, поймал, в глаза смотрю. А глаза у него, как у волчонка – глядит, не мигает.
– Молодец, – говорю. – На тебя, пацан, вся надежда».
Он садится на койке прямо, не спуская ног, и говорит: «А знаешь, что самое обидное? Это когда кого-то разочаровываешь. Мы, художники, вообще народ мнительный, и, к несчастью, ещё наблюдательный.
Всё время подозреваешь, что кому-то ты не понравился. Рецензии вообще душу вынимают, спать невозможно.
Недавно вот я разочаровал женщину. Просто я вижу – вот женщина мной заинтересовалась, мы разговорились, а потом она решает: нет, а… ну его. Ну, по каким-то своим причинам, решает. Может, она вспоминает, что у неё муж есть, или, что она не любит толстых, или ещё что, и – охладевает к предмету.
Со мной это было несколько раз уже. Несколько обидно, хотя умом ты понимаешь, что тебе и не нужно это было.
Это такая мужская жадность.
Обычно люди этих стадий очарования, затем заинтересованности, потом – разработки, и, наконец, разочарования… Всех этих стадий не замечают. А вот мы, художники, замечаем. Потому что человека выдаёт всё, но, в первую очередь, мимика. Дело, конечно, не в том, что ты художник, тут я тебе не хочу говорить глупостей, чтобы не показаться каким-то фанфароном.
Важно просто видеть общую картину мира перед собой – а многие люди видят только фрагмент. Именно поэтому русские не различают китайцев.
Но всё равно, разочарование – это как напросился на ненужный тебе экзамен, да ещё и не сдал.
Вот ненавижу разочаровывать, а ведь постоянно кого-то разочаровываю.
Тут мелкая моторика жизни.
Такие разочарования… Они от того, что вот у людей друг о друге есть более-менее сложившаяся картина. Образ. И когда мы из него выбиваемся, оно и происходит. А кто их поймет, чего они там насочиняли. И наоборот – чем больше совпадения с представлениями, тем больше очарования.
Но ведь всё равно – обидно, вот в чём штука.
Это, кстати, я видел с заказчиками – вот тебя нанимают, чтобы делать дизайн чего-то. Заказчик тобой очарован (вернее, он очарован какой-то своей мыслью, видением, что у него возникло в ресторане или во время прогулки на яхте). Ты начинаешь исполнять свою работу и объективно понимаешь, что делаешь её как надо (бывают случаи, когда ты понимаешь, что работа не клеится, но не в этом дело). И вот ты пишешь, а заказчик уже пришёл в иное состояние. От него жена ушла (или, наоборот, пришла), ну или он просто стал другим. Смотрит на тебя, как на говно, и понимает, что ему всё это уже не нравится.
Поэтому теперь ему нужно в этом признаться самому себе, но лучше не заниматься анализом, а просто сказать, что исполнитель не справился с работой. Всё это проносится у него в голове, и я это вижу, и, потому что я много лет работаю с изображениями, я вижу, как струятся разноцветные потоки в голове у заказчика – это как краски, опущенные в ручей.
Ну и в какой-то момент заказчик перестаёт с тобой встречаться. В лучшем случае секретарша выносит конверт.
Так и с женщинами – в голову никому не залезешь. Нельзя же женщине сказать: “Не разочаровывайтесь, вы, конечно, взвешивали меня на невидимых весах, но, я хоть и не прохожу по вашим параметрам, зато меня можно пригласить на дачу и я чудесно помогу вам с шашлыком и буду травить байки с вашими друзьями на веранде. Им будет комфортно, обещаю. Или мы все поедем в Крым, и всё будет хорошо. А красавца-мачо вы обязательно потом найдёте”.
Но я вижу цепочку её мыслей – потому что мной владеют не обычные эмоции, а профессиональные – я вижу изображение.
Изображение универсально – текст очень требователен, а вот изображение к тому же более доступно.
Всем доступно, именно поэтому я стал заниматься картинками, а не буквами, а ведь в детстве хорошо писал сочинения, и вообще был книжным мальчиком.
А тут женщину разочаровал».
А потом он вдруг говорит: «Я про огурцы хочу сказать. Беда с огурцами, впрочем, с огурцами давно беда.
Днём с огнём не сыщешь хорошего огурца.
Это вот раньше огурцы были. Раньше вот один такой мог выхватить из кошелки самый большой огурец и ударить им товарища по голове. Тот, значит, схватился руками за голову, упал и умер. А ещё кто-то мог воскликнуть: «Вот какие большие огурцы продаются теперь в магазинах!»
Сейчас огурцы тоже большие, но ими не то, что убить, замахнуться не получится. Хрень толерантная это, а не огурцы.
Ну вот я купил в своём магазине с идиотским названием “Я – любимец фортуны” огурцы. Уж как изворачивался – выбрал те, что из Луховиц, среднеплодные, трогал их и поглаживал, нюхал и всматривался.
А всё равно – через два дня огурцы эти покрылись слизью, а на третий обратились в жижу и зелёное говно. Да иное говно и покрепче будет. Нет, и раньше я видал этакие превращения, но чтобы уж в три дня управились… Такого не видал.
Понятно, что некоторые предметы в полночь и вовсе в тыкву могут превратиться, а в говно превращается весь мир, но огурцы…. Огурцы! От луховицких огурцов я такого не ожидал».
Он и говорит: «А мне в городе жить не интересно. Я на даче живу, у нас там посёлок дружный, всё сообща делаем. Денег на дорогу собрали – на других участках хрен денег соберёт, на дорогу-то.
Всё оттого, что у дачников особый коллективизм и взаимовыручка. Но вот беда, Трофимов продал свой домик новому русскому. Мы ж ему говорили – не продавай, не надо. Да куда там, кто ж такие деньги перешибёт? Ну, натурально, на трофимовский домик набежали таджики, как муравьи – набежали, а как схлынули – нет домика. Пусто и голо, а потом выстроили забор в два нечеловеческих роста, а за забором – замок. Натурально, замок – с вострыми башенками, с окошечками-бойницами, с флюгером в виде иностранного дракона, а под флюгером – часы с боем.
Вот из-за этих-то часов с боем у нас началась беда. Сначала это даже интересно было, и детям нравилось – блям-блям, трень-брень, тили-бом.
Но мы быстро обнаружили, что часы днём и ночью звякают. То есть, конечно, это целые часы они так – блям-блям, трень-брень, тили-бом. А четверть часа только как тили-бом отбивают. Но тут уж у нас нервы не железные – проснёшься ночью, а над посёлком – блям-блям, трень-брень, тили-бом. Рухнешь обратно перину – тебя тили-бом догонит, потому что ты осоловело целые пятнадцать минут озирался. Собрали собрание, да так ничего и не решили. Как кто слово возьмёт, так ему поверх слов: блям-блям, трень-брень, тили-бом. Делать нечего, решили подать этому новому русскому петицию. Собрались как на смерть, Николай Петрович хотел даже своё ружьё взять, да мы ему объяснили, что тут уж нас точно из пулемётов всех выкосят, как сорную траву.
Старики ордена надели, прочие – чистое исподнее.
Пришли к воротам, кнопочку нажали и ждём. А Николай Петрович и говорит: а вдруг этот новый русский давно умер, сидит там как мумия, в одной руке пистолет, а в другой – высохший бокал с мартини. Этот сухой бокал в мёртвой руке всех нас впечатлил, особенно женщин. Известно, как они мартини любят. И тут над нами снова блям-блям, трень-брень, тили-бом – мы только головы втянули.
Втянули, значит, натурально, головы, а оттого не сразу заметили, что калиточка в сверхчеловеческом заборе открылась, а там – старичок в линялой тельняшке.
– Нам бы хозяина, – говорим.
– Я, – отвечает, – хозяин.
Мы на него смотрим недоверчиво, а потом и говорим, что нет больше мочи его часы слушать. Сказали, и сразу часы нам в такт: тили-бом!
А старичок вдруг как заплачет:
– Братцы, – причитает, – а уж как я измучился! Только я ведь и сам хочу их отключить, да как это сделать – не знаю. Выписал швейцарского мастера, а он уж вторую неделю не едет. Давайте, братцы, их ломать вместе. Тащите лом и верёвки!
Но тут как-то всем стало жалко их ломать. Всё же работа иностранная, люди делали, мучились, к тому же небедный человек страдает. А как узнаешь, что богатый человек страдает, так на душе как-то веселее.
– Нет, – сказали мы, – ломать ничего не будем. Ишь, ломать! Ни у кого таких часов нет, а у нас есть. Красота!
И, повернувшись, пошли по домам.
А нам в спину так:
– Блям-блям, трень-брень, тили-бом!
С удвоенной силой.
Но тут уж совсем другое дело, потому что у нас коллективизм и взаимовыручка.
Мы в посёлке все заедино. И, натурально, в город меня не тянет».
Глядя в потолок, он произносит: «А вот меня была такая история: мы как-то приехали на Верхнюю Волгу и стояли там у воды. Рыбаков среди нас, впрочем, было мало. Да какая там рыбалка – наливай да пей. Да и молодая кровь играла. Девки пригожие с нами были, как раз столько, чтобы одни гордились, а другие – завидовали.
Но мне там, конечно, ничего не светило.
Как-то встал я рано и решил поплыть на лодочке туда, где ловил рыбу отец нашего товарища. Когда я сталкивал лодку в воду, из палатки вышла жена другого нашего друга и попросила взять её с собой. Она была женщина видная, и мне нравилась. Но кто был я – и кто она? Много промеж нами лежало, как меч между Тристаном и Изольдой – не говоря уж о том, что она из богатых была. Но, даже понимая это, я всё нервничал, на неё глядя. Грёб так, что приплыли мы раньше, чем я думал.
Забрались мы по крутому склону на остров и переговорили со стариками. Есть такие старики, – молодым сто очков вперёд дадут. Они вполне ещё бодры, но уже познали толк в жизни. Они помнят строгие правила прежней жизни, их учили ещё по-старому.
Эти были как раз из таковских.
Над Волгой был туман, и пахло рыбацкими кострами.
А потом мы вернулись, я затащил лодку на берег и вынул вёсла. Мы вышли на поляну с палатками, и я понял, что как раз все наши друзья проснулись и высунули головы из палаток.
Смотрели на нас опухшие с утра люди, что не имели сил выползти из-под пологов. И вот тогда моя спутница подняла палец, назидательно так подняла и сказала, смотря мне прямо в глаза: “Уж лучше грешным быть, чем слыть”.
На этом всё и кончилось.
Был давний год, никто в нашей компании ещё не умер, и молодая кровь играла».
А потом он говорит: «Мы довольно хорошо умели дырки делать. Бурить то есть. По разному – и так, и наклонно, и горизонтально, и по-всякому. Бывало, конечно, по-разному – как-то в Средней Азии не рассчитали, буровая колонка изогнулась и выскочила с другой стороны холма. На следующий день мы её дёрнули, и нашли в головке остатки уздечки – это какой-то таджик привязал своего осла. Думал, видимо, что это столбик такой торчит.
Но потом много что было. В голодный год грех я на душу взял – шли с женой со станции, волокли сумки с едой. На месяц еды, нам да детям. А на нас гопники навалились, один на меня, другой у жены сумку рвёт. Жена-то визжит, как свинья, но сумку не отпускает: там ведь жизнь наша семейная. Ну, я изловчился и вытащил обрезок арматуры из-за пазухи. Огрел первого, а второй уж в раж вошёл, не смотрит по сторонам, и жену мою на снег валит. Ну и дал я ему со всей дури.
Отряхнулись мы и ушли. Кругом ночь, ветер воет.
А потом снова бурить стал – на нефть.
Одного олигарха, как тебя, видел. Молодой был, гладкий. Только не очень умный – он попутал, что перед кем говорить можно, и вот нам начал толкать речь о том, что после сорока лет человека ничему не научишь. Молодая кровь, бизнес-мышление, то-сё. А у нас-то самому молодому сорок два, и каждый станок, как жену, знает. Он на буровом станке, как на скрипке, играет. Тут ведь ещё надо угадать куда и как – в старые-то времена миллионы экономили.
Ну, пригнал к нам, сиволапым, американца. Молодой такой, гладкий – сорока, конечно, нет ему. Или им впрыскивают что-то такое, что у них вечные тридцать. Американец бодро нам так и говорит: будем наклонным бурением заниматься, я вас научу. Мы так в сторону смотрим, потому как что ему в глаза бесстыжие глядеть. Он получает в мильон раз больше, а наше дело простое: барину не перечь. Американец говорит: бурить будем так-то и так-то. Тут один из наших набрался смелости и говорит, что нельзя тут так бурить, разломаем всё к чертям. А у нас бешеные тыщи всё стоит, бур там алмазный и прочие дела.
– Нет, – отвечает, – делайте, как я сказал.
Ну, йопта, расхерачили колонку, как мы и думали.
Мы американцу и говорим: мы тебе говорили, а? Ну нельзя здесь бурить, говорили ведь?
А он отвечает, что уже всё новое заказал, и бурить будем здесь.
Пришло оборудование, стали бурить наново, ну и, ясен перец, снова всё расхерачили.
Мы опять американцу говорим: ну нельзя так, бешеные ж тыщи убытку.
Тут приехал олигарх, и мы ему: ну душа болит, хоть не наше, а твоё имущество, убери ты этого ирода.
А он, наоборот, даже загорелся: экого я правильного американца выписал – может постоять на своём. Вот она, молодая кровь, вот надежда страны. Так что третий раз мы колонку порвали уже у него на глазах, показательным образом.
И ничего. Обнялись они, сели в вертолёт и улетели, весьма довольные друг другом.
А через месяц мне на площадке кричат: “Слышь, Толя, а олигарха нашего за цугундер взяли”.
Ну и я, не сказать, что расстроился. Ежели он такое со своим делал, так уж про чужое я и думать не хочу. За прошлые времена я ему не считаю, тут уж каждый как может за свой харч бьётся, у кого какая арматурина припасена. Ведь на самом грех есть, молчит тут моя корова.
Но вот то наклонное бурение я ему не прощу – тут он был весь как на ладони.
Избави Бог нас от такого».
Наконец, он говорит: «А я бизнес начинал давно, в первых рядах. Варёнка-туалеты, потом как все – ваучеры-компьютеры. Да только это не бизнес вовсе – просто повезло мне с товарищем. А товарищ был мой из восточных немцев, учился здесь, да и по-русски хорошо говорил. И так мы с ним на пару хорошо развернулись, да вели себя тихо. Потому как – чем выше залезешь, тем больнее падать. В ту пору многие высоко залезли.
А потом порскнули по земле в разные стороны – будто тараканы по кухне, если свет включить.
Немец мой всего этого чурался, в бизнесе был за честность и, чуть что, рассказывал такую историю: он поехал отдыхать куда-то в Карибское море, где острова, как фрикадельки в супе. Туда не то что русский человек, не всякий европеец добирался. И вот плывёт он на пароме между какими-то бермудскими фрикадельками и вдруг слышит, что рядом с ним говорят по-русски. А говорят два неприятных человека, которые думают, будто их никто не понимает. Да и этот виду не подал, и правильно сделал, как оказалось.
Потому что он слышит, как эти двое толкуют, как бы им попроще завалить своего соотечественника, который тут, на островах прячется. Тут не поймёшь, что это было на самом деле – неловко переспрашивать.
Тогда люди только начали ударяться в бега. Кто с чужой женой, а кто с ценными бумагами. Был к тому же порог цены, ниже которой искать не будут. Да и за некоторых жён, подозреваю, приплачивали.
Вот у меня товарищ торговал нашими джинсами в ларьке, так рассказывал, что в соседнем сидела супружеская пара – он и она, спокойные такие люди, сын им иногда помогал. Сама честность и образец для подражания.
Так как-то в назначенный день пришла пора хозяину снимать выручку, он пришёл, а никого нет. И тряпок никаких нет, и денег, да и продавцы куда-то подевались. Хозяева с братками к ним домой – а там квартира месяц как продана. Только соседка, как потрясли её хорошенько, говорит, что всей семьёй эти деятели в Австралию уехали.
Тут уж ничего не поделаешь – далеко, там кенгуру прыгают, да и по слухам все в этой Австралии из таких приезжих. Правда, всё же некоторые под охраной приезжали.
Но я отвлёкся – стоит честный немец на палубе парома ни жив, ни мёртв, потому как, если догадаются, что он по-русски понимает, так его прямо в море и кинут, акулам на съедение.
Но обошлось.
Однако этот мой немец, как человек порядка, всё же пошёл в полицию и всё негритянским полицейским рассказал. Полицейские в ту пору ни одного живого русского не видели и даже очень заинтересовались этой коллизией.
Приехали на тот остров, покрутились, да только что нашли, так два трупа в прибое. Ну, колото-резаные у них наличествуют, а вот документов нет никаких.
Видать, не по зубам оказался колобок. А сам пропал, как в Бермудский треугольник прыгнул – тем более, что вот он, рядом.
Немец всё крутил головой: «Никакого криминала у нас в бизнесе не будет, никакого. Мы должны честно – честно». А потом он у меня жену и увёл. Честно так.
Осталось мне руками разводить, а она уже в Кёльне.
Ну, честное слово, немного обидно.
И ведь с топором туда не поедешь. Будешь во всех рамках звенеть, людей пугать.
А так – поехал бы. Если честно».
Он говорит: «Эту историю многие рассказывают, кто про один корабль, кто про другой.
Правды нигде нет, правду я только знаю. Никому не верь, только мне. Это с яхтой Денница было.
Денниц – это такой фашистский адмирал, ну, и, разумеется, была у него яхта. Мы её по репарациям отобрали и перегнали во Владивосток. А на яхте этой всё очень благородно – медь горит, полированное дерево тускло мерцает… Посуду, правда, сразу побили, потому что она со свастиками была. Все названия по-русски надписали, правда, кривовато, на мой взгляд. Но то и дело при каком-нибудь ремонте старина вылезала – сунутся в дизель, а там на каждой гайке какой-нибудь хайльгитлер изображён.
Ну и выходил на этой яхте комфлота, да и то, только когда к нам из Москвы кто-нибудь приезжал. Ну, натурально, тогда в море, с коньячком, да ещё певицу из ёперного театра прихватят. Рояль в кают-компании бренчит, амурские волны переходят в хоровую гибель “Варяга”, а адъютант уже с бумагами наготове.
И ручку в зубах держит, как пират свой ножик.
Потом, конечно, укатали сивку крутые горки. Ходовая часть ни к чёрту стала, и пили уже на берегу.
Наконец, постигла яхту участь всех пушных зверей – пошла она под списание. Так не только медяшки свинтили, но и гайки с хайльгитлером себе народ на сувениры разобрал. Но это уж е удивительно – в те времена «Аврору» на ремонт поставили, так кто-то у неё всю тиковую палубу подпёр. Так что сидит нынче какой новый русский со своими девками на бывшей адмиральской даче, а у него под ногами поскрипывает революционная палуба, по которой ещё комендор Огнев свой холостой заряд к баковому орудию тащил.
Ну так то – в Ленинграде, а у нас – Дальний Восток, нравы провинциальные. Ну и фантазия соответствующая: “Во время цунами утрачена хрустальная люстра, смыто за борт зеркало из каюты капитана”.
Принесли акты и на мебель – там кресла такие были, что говорили: не то, что Денниц, два Геринга поместятся. Ну и их волной за борт смыло.
Проверяющий прочитал, крякнул и приписал аккуратно: “И рояль – тоже”.
Верь мне, это у нас история была, на ТОФе, не где-нибудь.
Про рояль не скажу, а эти кресла своими глазами в одном доме видел. Два Геринга, может, и не поместятся, но один – точно войдёт».
Он говорит: «Мне часто приходит на ум мысль, – кем надо быть, чтобы чувствовать себя уверенным в жизни? Вот есть у меня стоматолог знакомый – никогда не бедствовал, ни при каком кризисе. Но это частности. Я вам вот что скажу: самый главный человек – это инженер, потому что круг замкнулся.
Сейчас никто ничего делать не умеет. Продавать худо-бедно научились, тратить деньги – тоже. Поэтому инженеру – любые двери открыты.
А я вот всю жизнь с механизмами дружу.
После института поехал в Европу – всё равно у нас работы не было. Через некоторое время оказался в Париже. Там ещё всё было по-другому, но негры с арабами уже тогда шалили… Ко мне пару раз на улице ночью подходили – всё как у нас есть, сигаретку дай, деньги есть, а если найду. Но я стал носить с собой разводной ключ. Как спросят закурить, я сразу ключ показываю – такая у меня инженерная смекалка.
Причём когда денег у меня сначала было немного, я в гостинице жил, а как завелись – проживал на барже. Ну, на Сене баржа стояла. Правда, не на фоне собора наши-дамы-из-парижа, где, по слухам, только бессмертные живут, да актёр Пьер Ришар. Нет, далеко, за Южпортом, если говорить по-нашему.
Я там познакомился с девчонками – всё как у нас, одна пострашнее, другая посимпатичнее.
У одной из них и была баржа – настоящая, ржавая.
– Можешь, говорят, нам движок починить?
– Да посмотрим, чего ж нет?
Вот я и живу у них, работа – “не бей лежачего”.
Да только симпатичная на меня внимания не обращает, впрочем, и та, что пострашнее – тоже.
Я только по ночам слышу, как они за переборкой любятся.
Думал, что они как-нибудь дверь отворят. Нет, не отворили.
Правда, как дизель я починил, они мне спасибо сказали и даже билет домой купили.
Ну и ладно, думаю, встречи были без любви, разлука будет без печали.
И поехал на Родину.
У нас-то инженеру все двери открыты.
Это всё потому, что никто ничего делать не умеет».
А ещё он говорит: «Была она девушка видная, красивая – спортсменка, комсомолка. И послали её в Берлин со всяко-разной культурной делегацией. И отчего-то вступило ей в голову посетить могилу Бертольта Брехта. Ну, бывает – он тогда был популярен очень. Да и то, отчего бы не посетить какую-нибудь могилу? Очень даже посетить. Могилы очень красивые бывают.
Ну так вот, выходит она из гостиницы и садится в трамвай. Отчего-то эта комсомолка решила, что всякий берлинский житель знает, где оная могила обретается. Да и то верно – к примеру, редкий москвич не знал, где могила Высоцкого. Как поймает его провинциальный житель, как спросит, где Высоцкий лежит, так тот сразу и отрапортует: на Ваганьковском кладбище, прямо у входа. Ну, и тут схожие ожидания, хотя дело много раньше было.
И вот эта комсомолка выбрала бюргера посимпатичнее и подсела к нему. Тот сразу насторожился, но виду не подал. А она и говорит, мобилизуя свой немецкий язык: Ich suche nach einer… ээ… Platz… wo… И тут забыла ключевое слово friedhof, то есть – кладбище. Ну, и как все мы, начала его объяснять, через имеющиеся слова:
Ich schuldigung, говорит, bitte Ich suche einem Platz, wo gefallen… toten schlaffen!
Бюргер несколько стал отливать в бледность, потому что эта красавица ищет место, где спят мёртвые.
А она, видя, что дело не клеится, продолжает, чтобы понятнее было:
– …Meine Mutter, dein Vater!
Тут немец совсем побелел, а она, наконец, выпаливает:
– …und Bertolt Brecht!
Тут старичок начинает обратно отходить в розовое, оживляется и называет ей не только номер трамвая, на который нужно пересесть, остановку, но и трёхзначный номер кладбищенского участка.
Тут, – ты понимаешь, – мораль в том, что у немцев во всём порядок.
Но с кем спят мёртвые, им дела нет».
А потом он ещё говорит: «А вот племянник у меня, знаешь, какой упёртый? Страх, какой упёртый. За неделю выучился на гитаре играть. Раньше ни бум-бум, а потом, слышу – играет. Ля-ля-ля, клён ты мой опавший и прочие интеллигентные песни. Выучился на программиста, а потом ещё на экономиста. Устроился, значит, на железнодорожную станцию – программирует, то есть, вагоны сортирует. В конце месяца программа полый отчёт даёт. Мы как-то интеллигентно сидим с братом, ну так селёдочка, картошечка и другие удовольствия, так и он подсел. Я племяннику и говорю: «Ты сходи к начальству, посмотри ему в глаза, честно так посмотри и спроси, какой у тебя тут карьерный рост будет? А то и за программу твою тебе чего-то не доплатили». Сказал я и забыл. А мне брат потом рассказывает: “Сынок мой пришёл к начальству на следующий день, а начальство ему бряк сразу – хрен тебе в грызло, а не карьерный рост. Тут у нас у самих родственников много непристроенных, и всё такое. Сиди ровно, да и вагоны сортируй. Скажи спасибо, что мы тебе на подработке позволяем ещё цистерны считать”









































