Читать книгу "Он говорит"
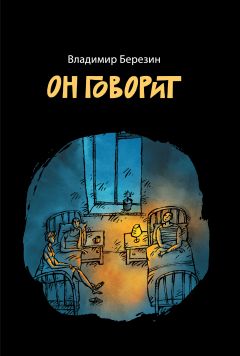
Автор книги: Владимир Березин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Тут он на этот бряк – фигак, и заявление на стол. Так и уволился, а через месяц программа стала в конце месяца все вагоны обнулять. Эти-то хотели ему денег дать, отступного, да поздно. Племянник мой в это время поехал в Китай – то ли за барахлом каким, то ли посмотреть на что. И увидел, что там можно в университет поступить. Поступил и начал язык учить – он ведь упёртый. А русских там много, но больше дети каких-то начальников, что жрут да пьют вонючую местную водку. После его на работу взяли – ничего себе работа, потому что он не только на разных языках говорит, но и разные предметы считать умеет. Потом он в Шанхай переехал, стал каким-то филиалом заправлять, поселился в гигантской башне. Женился на ихней девке – родители у неё сильно во время культурной революции пострадали, потому что интеллигенты были. Зажил нормально, нас всех в Китай вывозит. Хоть в той жизни мы ничего не понимаем, а только пьём вонючую китайскую водку, а уж о правильной селёдке там и речи нет.
Но, как бы то ни было, племяш мне всё отдельно кланяется – потому что понимает: главное в жизни вовремя спросить: “А какой у меня тут будет карьерный рост?”»
А тогда он говорит: «Я сумасшедших боюсь и сумасшествия боюсь – тут ведь всегда так, чего в себе подозреваешь, того и боишься. А у меня ведь пару раз припадки были – сижу я этак на стуле, а потом ощущаю, что весь в крови и лежу на полу. А кровь оттого, что у меня нос разбит и губа. А так больше ничего не помню. Ну и панические атаки у меня были несколько раз – как-то разбирал я старые газеты, складывал в стопочки. Ночью дело было, а ночь – глухая, никого со мной нет, и тут такой ужас подкатил, прямо беги вон, в морозную темень: “Кто я, откуда, зачем прожил так бестолково свою жизнь?! Как это всё стыдно, как нестерпимо, что нужно прямо разом кончить всё это!” Но побегал по комнате и успокоился.
Тут всегда надо что-нибудь поделать: побегать, тяжесть какую-нибудь поднять. Чтобы, значит, кислород в себе уменьшить. Или подышать в пакет, но это ещё пойди, найди пакет подходящий.
А так я докторам не верю. У меня при этом даже было несколько психоаналитиков в друзьях, и как закон, как аксиому, вывел я такое правило – ни копейки! Ни копейки этим жуликам!
А то вот приходит он ко мне и говорит: такой, говорит, сеанс был тяжёлый, прям с ума схожу! Дай водки!
Хлобыстнёт сто пятьдесят грамм и видно, как ему полегчало. Ну, думаю, вот жук – для того, чтоб пациентам полегчало, он с них несметные тыщи дерёт, а верное лекарство, значит, для себя припас. Меньше пятидесяти рублёв, да и те – мои.
Ни копейки, говорю!
Или вот прислали к нам в городок инженера для насосной станции. Хороший инженер, грамотный. За границей побывал, в Париже жил. А так вижу: тоже малахольный. У него тоже панические атаки были, так он своим умом пришёл к тому, что это физическими упражнениями надо лечить. У него кеды наготове стояли, чуть что – он выпрыгивает из дома как физкультурник, и ну вокруг своей котельной круги нарезать. Так у нас собаки повадились за ним бегать – бежит он спереди, за ним целая свора, шум, лай. А как нагонять начинают, так он штакетину из забора выламывает и ну от них отмахиваться.
От такого лечения его панические атаки враз проходили.
Ну, а я так скромно лечился.
Меня настоящие врачи хвалили. Настоящие врачи – это, значит, психиатры. Вот их – уважаю. Они действительно лечат.
Мне и жена-покойница перестала являться.
Простила, значит.
В общем, как мне на суде сказали, так и вышло».
Он говорит: «Я расскажу вам, пока не подействовало снотворное, почему все ваши жизненные неудачи и человеческие обиды – фуфло. Я расскажу вам историю о том, что уважение к начальству дороже денег, а бояться мне давно надоело. И ничего мне не надо – потому что я, слышите, вы, козлы, слышал звон славы.
А вы не знаете, что это такое.
Итак, я жил однажды в иностранном городе К.
Жил не в центре, а на окраине, у леса.
Внезапно оказалось, что мои честные деньги, деньги довольно большие, вдруг завязли между винтиков чужой бюрократической машины. Мои руководители, а они были именно руководителями, а не начальниками, и хорошими людьми, пытались ссудить мне этих разноцветных денег. Но я, питаясь мюслями, давно дружил с отребьем третьего мира – с иранцами и реликтовыми тунисскими евреями одновременно, с китайцем и пакистанцем, а также крохотным человеком неизвестной народности. Он-то как раз и увидел, что я нашёл на помойке телевизор и довёл его до ума. Потом он смотрел, как я воткнул в антенный ввод витую пару и привесил на разведённые концы пару пивных банок. Мой знакомец, с трудом поменявший привычное направление письма, восхитился этим. Дело в том, что за легальную антенну нужно было платить налог, да и стоила она дорого. Скоро я делал самодельные антенны приятелям-арабам – они несли мне пока ещё полные банки, зная, что они быстро будут подготовлены к заоконной инсталляции.
И вот однажды, выйдя во внутренний дворик, я обнаружил, что из большей части окон моего дома свешиваются парные банки из-под пива, раскачивающиеся на проводах. Ветер тихо пел в них, и банки звенели.
Звенели…
Это был звон славы, слышите вы, гады! Поэтому мне ни хрена не страшно терять, и ничего никому не надо доказывать.
Всё, уснул».
Потом он говорит сурово: «А ты, парень, евреев держись. С евреями не пропадёшь. Кто за нас заступится, когда прижмут, когда обвинят в том, что мы все войны развязали из народной любви к душегубству.
И вот тогда евреи выйдут, старые такие, со своими медалями и орденскими планками, и нас защитят.
Потому что у евреев нынче сила.
Они повсюду. Тут с кем коньяку выпьешь, а после коньяка-то и не такое полезет.
Так-то беседуешь с кем в поезде – чистый татарин. И за Казань-то ему обидно, и чувствуешь, как в нём кровь татарская играет, рука к кривой сабле привычна.
А хватишь по двести из железнодорожных стаканов – глядь: он по-прежнему сидит напротив тебя, а уж чистый хасид, и шляпа на нём откуда-то взялась чёрная, и борода в крошках.
И сам у не разливает, а тебя просит, потому что вечер пятницы настал.
У них-то всё по-быстрому – у тебя ещё пятница, а у них уже суббота, и коньяк быстрее кончается.
Я евреев знаю, у меня синагога в соседнем доме.
Вот у меня рядом с домом магазинчик, знакомая продавщица – я у неё всякую мелочёвку покупаю.
Лампочки, веревочку, клей, который всё клеит. Пальцы сожмёшь с этим клеем – до смерти со щепотью, как Иуда, ходить будешь. Не разожмёшь.
Эта продавщица рассказывает, что пришёл к ней хасид, хотел купить скотч.
– Нет, – говорит, – у нас сейчас скотча. Не подвезли. Но я вам могу дать свой, только принесите обратно.
Принёс через десять минут. И, в подарок, – две пачки мацы.
– На сколько просрочена? – спрашиваю я свою продавщицу. Спрашиваю с пониманием, деловито.
– На три года, – мгновенно отвечает она.
Вот я тебе и говорю – с ними всегда договориться можно».
Он садится на стульчик у больничной койки, смотрит мне в глаза и говорит:
«Пойми, мальчик, никаких злых людей нет. Люди ровно такие, какими им позволено быть.
Вот бабка у меня была баечница. Анекдоты, значит, рассказывала, да не просто так, а будто пела. Что там твой Райкин. И жена у брата, Машенька, тоже певунья. Да и дед мой – тоже.
Один я такой – ни слуха, ни голоса.
Брат и тот, поёт – на трезвяк и сухонький.
Но поднялись все как-то. Внуки у самих скоро будут – только дети в городе живут, нос к нам не кажут.
Сейчас богато стали жить, по заграницам ездить, никто на зиму огурцы не солит – купить проще.
А я прежнюю угрюмость помню – прожили между деревней и райцентром, как в щели за комодом.
Дед мой помер рано, а бабка мне его историю рассказала. Пришёл он с войны t приехал домой вместе с другом-однополчанином. Мой, значит, из райцентра был, а тот-то из району. Городскому голодно, деваться некуда, а деревенский сразу кур завёл, начал обживаться – откормился, одним словом. Ну а городской мой дед понял, что дело труба, да вспомнил, что у него гармонь от отца осталась. Надел медали, чёрные очки и сел с гармонью на рынке. Так лето и перебился.
А как пришла осень – смотрит, его приятель с яйцами на рынок приехал.
Деревенский-то дружок к нему подбегает, всё никак понять не может: как, говорит, мы ж с тобой вместе с фронта ехали, и у тебя с глазами всё в порядке было! Тому деваться некуда, и он начинает врать: что, дескать, в последнем бою его чуть контузило, а потом и постепенно слепота пришла. А пришла слепота, отворяй ворота, карманы нараспашку, жизнь – промокашка. Деревенский дал другу яичко, да попросил, чтобы потом он спел что-нибудь для него лично. Сидят они рядом у входа на рынок, а слепец поёт жалобные песни. Но тут присмотрелся деревенский к дедовой шапке – и видит, что туда не только медь сыпят, а некоторые бабы и бумажки кидают. Да он со своими курами за неделю такого не заработает! И цап четвертную из шапки! А дед мой видит это, да что же тут поделать? Но всё же не сдержался – стал на гармони наяривать и петь: “А я всё вижу, вижу, Микола, сраное твоё дело, товарищ мой боевой!”»
Голодно было, чо.
Но выжил как-то, устроился, женился на бабке моей.
И всё оттого, что люди помогли – не один кто-то, а так, каждый по копеечке. Так и вылез из нищеты, стал работать при автобазе, да и я туда за ним.
Он машины чинил, и отец там обретался, да я тоже. Потом я в рейсы стал ходить, а он уж старенький был, и, наконец, ослеп по-настоящему.
Стал на рынок так выходить – для души. Руки гармонь держат – и ладно. Его было доведут, усадят на табуретку, а он им поёт, да слова всякие вставляет, напоминает им, что о ближнем думать надо. Жизнь-то давит, помогать надо, хоть люди и такие, какими им быть дозволено.
Станет им страшно, так поедом мать свою съедят, а чуть отогреются, разживутся хлебом, так и подобреют.
Вот мне рассказывали, как замёрзла мать с детьми в поле, потому что их никто в дом не пустил. Не открыли. Нет, дети, кажется, выжили. Ничего хорошего в той истории не было, не спорю, а уж зачем баба ночью в чисто поле подорвалась, вовсе непонятно.
Но вот, что я тебе расскажу: у меня брат с женой купили дом в деревне. До столиц у нас далеко, да и до трассы не так, чтобы близко.
Работа у меня сезонная, строительная, брат дальнобойщиком был, да тоже ко мне на летние шабашки подался. Когда работа есть – хорошо, кум королю, как нету, так сидим на запасах. Жена у брата оказалась практическая женщина, во всём толк знает, и в человечьей жизни, и в том, кто под землёй редиску красит.
А в перерывах между плотницким делом сидим мы втроём в избе, вокруг снега.
Спим, да телевизор смотрим.
Вокруг не то, чтобы нет никого, а так, в деревне десять домов – старухи понемногу отходят. Мы им воды принесём, или за едой сгоняем – вдруг кто и нам в другой раз поспособствует. Дети-то хрен приедут в этот край.
В общем, в зимнем сияньи путь серебрится, сидим как-то, вечеряем – и тут нам стук-стук в дверь.
Кто-то на ночь глядя прётся.
– Не открывай, – Маша аж побелела вся.
Ну и говорит нам, что цыганы так делали – запустят девочку в дом, она дождётся, когда все заснут, да своим дверь откроет. Они семью вырежут, подгонят «Газель» и вывезут всё.
Я сразу в эту историю не поверил: проще цыганам наркотой торговать, чем в деревнях так живиться. Ну что возьмёшь там – микроволновку да телевизор, три тыщи гробовых денег? Да три – и то много.
Недолго мялись, откинули крюк, да и открыли, а там – девочка.
Так у меня сразу холодок по спине.
Сразу она мне не понравилась, и не в том дело, что у неё что-то во внешности такое. Как раз, наоборот, соплёй перешибёшь. Но глаза неприятные – а ведь так не поймёшь, сам, может, замёрзнешь, так будешь смертью глядеть.
А девочка явно не русская, блеет что-то на своём-то языке. Деваться некуда – напоили и спать положили.
Но ведь, понимаешь, будто сами себе чёрта за пазуху пустили.
Брат мне и говорит, давай, дескать, не спать, а сам вытащил “Сайгу” и у стола попрятал. Достали мы водки и пустили по маленькой.
Сидим, телевизор одним глазом смотрим, а девочка в соседней комнате не спит. То там шаги к двери, то обратно к кровати. Так до утра время и скоротали, мы – тут, а она – там.
Наутро она ушла – не прощевайте, ни спасибо, ничего. Посмотрела так косо, и в сторону трассы потопала. А туда ещё полтора километра.
Вот и пойми что это было – с одной стороны, людям помогать надо, да и, может, ребёнок нас сам боялся… А с другой стороны, я потом своих знакомых шоферов спрашивал – правда, говорят, было дело. И три тыщи гробовых кому-то ведь нужны, и микроволновка кому-то не лишняя. Но не на “Газели” они были, и не цыгане.
Тут ведь страшно что – мы с братом поутру стоим, шатаясь, смотрим, как девочка эта валеночками топ-топ на взгорок, и оба понимаем, что ежели этим вечером сам Иисус Христос нам в своём небесном сиянии постучит, то не откроем.
Такая вот тебе, мальчик, история».
И он, порывшись в сумочке, начинает доставать гостинцы.
А потом он говорит: «Мужчины как-то не очень стесняются. Женщины вроде стесняются больше. Это вовсе неправильно – перед болезнью все равны.
Я вот когда первый раз в больнице лежал – был здоровый такой.
И хер у меня был здоровый.
А тогда врачи не понимали, что со мной, стали путаться в показаниях, рассматривая мои анализы, тем более, что вышедшая из отпуска заведующая раздала всем люлей, так, что все доктора средних лет стали бегать в два раза быстрее и с выпученными, как у варёных раков, глазами.
Заведующей я заранее боялся.
И вот она пришла в палату и принялась меня осматривать.
Первым делом она обнаружила, что на мне нет трусов.
– О! – сказала она, несколько зардевшись. – Немного нескромно.
И, представляешь, как я загордился.
Сразу настроение поднялось, и самочувствие улучшилось, и лечение как-то быстрее пошло».
Или вот ещё он говорил: «А вот знал я одного дедка на Колыме, что чеченцев это… эвакуировал. Он так рассказывал, что это было очень ловко организовано, ему, сержанту, выдали бумагу на две семьи и говорят, твоё дело только эти, пусть другие хоть с пулемётом по улице бегут, не твоё это дело. И действительно, человек тридцать убежало – от тех, кто отвлекался. Их потом месяца два ловили, но уже иными методами. А в бумаге все члены семьи перечислены, да ещё пометки, где оружие лежит, стукачей-то там тоже хватало. Ну, в два часа и управились, сдали на станции под расписку А потом этот дедок вохрой служил на Колыме, да и женился на зечке. Дети у них такие пошли, что с зоны не вылезали. В общем, он мне рассказывает, что как-то в их лагерь попал один его родственник, а родственника этого он страсть как не любил. В общем, война промеж ними была, пополам с взаимной обидой. И тут смотрит этот дедок – он, точно он, с этапом пришёл в ватничке новом. Дедок в то время на вышке стоял, ну и думает: “Сниму гада, уж найду за что”. А тот, видать, тоже увидел и обо всём догадался – и ну между людьми шнырять, хотя тот его раза два целил. Ну а потом родственника этого и вовсе услали на какую-то дальнюю командировку. Порядка оттого что не было вовсе – куда захотят человека, туда и пошлют. Туда или сюда, с неправильными бумагами, а то и вовсе без бумаги, в которой всё перечислено: кто чей родственник и где оружие лежит».
Вспомнив что-то, он рассказывает: «А я мимо Мамонтовки с тоской проезжаю. Я-то теперь в Абрамцево живу. Там у меня участок тридцать соток, дом, септик… Тот, кто септик себе отрыл, тот, почитай, на землю сел. Пока у него будочка для сранья, он гость тут, а как септик – всё. Так я о Мамонтовке: там жил наш мальчик знакомый – Коля Дмитриев. Я как-то для детей решил купить детского писателя одного пятитомник. Там смешные повести такие, но потом читаю – так это ж про нашего Колю. А Коля художник и вся родня его – художники. Женщины холсты делали, дядя красил, так он и вырос. И стало у него всё получаться, он такой был правильный, а поехал с другом, тоже мальчиком на охоту – тогда и в пятнадцать лет можно было пацану с ружьём. Дружок его в яму провалился, Коля к нему бросился, да зацепился ружьём за ветку – так и не стало Коли. А он в Мамонтовке жил, – как все мы. Голодно было, сортиры на ветру, в баню раз в две недели. А сейчас – септики и всё такое. Только Коли нету».
Он говорит: «Во время переходного периода я занимался политикой. Тогда я обнаружил, что политика построена на запоминающихся фразах.
И ещё в ту пору был у меня приятель-анархист. Тогда хлопотливый и деятельный, он, говорят, стал спокойнее – ведь с тех пор прошла целая жизнь. А было и иное время и в нём, этом времени, была у нас одна общая знакомая.
Я был влюблён в неё безнадёжной тоскливой любовью.
И вот к этой девушке анархист часто приходил в гости. И вот, однажды, наевшись борща, анархист развалился на диване и произнёс:
– Хорошо у тебя, Таня. И вообще, ты мне нравишься. Что бы нам не соединиться…
– Э-э, – отвечает она. – Я уже была замужем, и мне не понравилось.
На что он ответил:
– Да кто же говорит о замужестве?!! Я имею в виду лёгкий необременительный роман!
Мне, надо сказать, очень понравилось эта фраза, и я долго катал её на языке.
Завистливо щурился.
Лёгкий, необременительный роман…
Отчего её сказал не я?»
Или вот он говорит: «А я тогда в фаворе был, работал в администрации. У меня одних референтов штуки три было. Мы мост хотели через Амур строить, очень суетились по этому поводу, к столице нервно дышали. Вдруг нам говорят: едет к вам дочка писателя Шолохова делать фильм о вашем нелёгком труде и героической обороне. Про эту дочку Шолохова я давно слышал, и губернатор о ней что-то говорил, и прочие – она не первую неделю у нас ездила. Вызвали меня и говорят: тут дочка писателя Шолохова хочет в Китай поехать – нормальное дело, многие хотят. Прикупят всякой дряни и радостно потом в столицах ей распоряжаются. А у меня пропуск был, и с начальником заставы я на короткой ноге. Ну, пришёл я к начальству: приходит такая круглая, но видно – с бодуна. Вежливо говорю, что, дескать, “Тихий Дон” меня перепахал, а “Судьба человека” переменила. Слово за слово, оказалось, что она с нашими генералами накануне в бане пила. Но держится хорошо – только где-то свой паспорт оставила заграничный. Да не беда, кликнул я своих, дескать, принесите чей-нибудь паспорт, чтоб лет на сорок – принесли. Правда, какой-то страхолюдины, да и то тоже не беда – эта похмельная, та страшная. Поехали к китайцам, там стол накрыли, выпили водки китайской с едким запахом, и тут она зачем-то захотела купить китель маоцзедуновский и значок старого образца. Потому как артист Буйнов в таком кителе у них в Москве ходит туда-сюда, а всем завидно. Но оказалось – нету такого значка. Китель нашли – правда, грудь у неё с этого кителя вперёд прёт, как Амур в половодье. Узковат, стало быть, китель.
А вот значка этого старого вовсе нет. Мы в такие кварталы за этим значком лазили, что мне самому страшно стало, а ей – ничего. Правда, видно, что она уже не первую неделю пьёт. Пьёт, да помнит всё – с кем встречалась, фамилии, имена. И стало у меня сомнение закрадываться, может, это шпион какой, а не дочь писателя Шолохова. Я ей сам подливаю, а потом ещё ящик в машину взял, да как переехали границу, так у речки и присели. Слово за слово – вижу, точно – не та, за кого себя выдаёт. И съёмочная группа должна приехать вот-вот, а всё нету, и оператор один как-то на обрезе карты топчется. Укатали эту сивку наши крутые горки, начала она проговариваться, да и сама сомлела. Гладкая такая, впрочем, ухоженная. Как груша прям, и эта груша передо мной – шлёп! Ну а потом отвёз я её в гостиницу, а на утро у нас шум – сама дочка писателя Шолохова в гостях! Все вокруг неё хлопочут, как нерадивые шофёры вокруг вскипевшего уазика.
Мне Семёныч и говорит:
– У тебя к ней поход, а я хочу сфотографироваться, уж сделай ты мне такую милость.
– Нифига, говорю, Семёныч, ты с ней не снимайся, потому как она аферистка какая-то, а тебе в следующем году на выборы идти.
– Как так аферистка?
– Натурально аферистка. Это пусть губернатор с ней снимается, ему терять нечего. А ты подожди. Эти, вишь, вокруг неё пляшут, колёса на машине меняют, кормят-поют, а наше дело – сторона.
И точно – уехала она куда-то, а на следующий год Семёныч на выборах своего конкурента и ущучил – тиснул фотку, где тот с этой бабой обнимается, да она ещё в кителе чёрном, да с красным значком бывшего вероятного противника на выпуклой груди. С подписью – “Самозванцы”. Ну и понеслось.
А ведь нужно было только внимательнее посмотреть – да что там: вот разве дала бы мне настоящая дочь писателя Шолохова? Да ни в жизнь не дала бы! Сразу видно – аферистка».
Он говорит: «А мне позвонила как-то дочь друга моего, она на телевидении работает. Позвонила и говорит: у меня такая просьба – мы тут передачу про лысых делаем, так давайте вы в ней поучаствуете.
Ну, отвечаю, передачи – дело хорошее, да только при чём тут я?
А мы, говорит, снимаем передачу про то, что лысые люди – такие же как мы. И замолчала на минуту.
Я только открыл рот, чтобы сказать, что отец у неё куда круче, чем я. А она меня упредила и отвечает: “Папа стесняется”. “А за это, – продолжает, – я вас проведу на пароход, который по речке плавает, и там лысые встречаются. Бомонд, шампанское и баранина на шпажках”.
А у меня на заводе как раз зарплату срезали, и так это она про шпажки ввернула, что прямо саблей по горлу. Как пикой в сердце. Я хоть и какую-то простуду в себе чувствовал, но нервно сглотнул, да и поехал по адресу в назначенное время.
Ну, речной трамвайчик, а рядом толпа. Меня, значит, встретили, махнули охране, и я взобрался по трапу на борт.
А там народа видимо-невидимо. Лысых действительно много, и каждого постоянно снимают. Лысые уж какие-то умученные, и видно, что им шампанское не в радость. Вот и меня спрашивают, не имею ли, дескать, я отчаяния от жизни. “Да какое отчаяние, – отвечаю. – Что Бога гневить?” Очень им это понравилось, и я пошёл искать бараний запах. Действительно, обнаружил буфет, но сразу же откуда-то выскочил строгий человек и говорит: “Вам туда нельзя, вам для здоровья вредно, при тех таблетках, что вы принимаете”. Я-то, конечно, вспомнил, что с утра арбидолу наелся, но какое тут препятствие, понять не могу. Да и откуда они это всё знают, ума не приложу.
Тут кораблик и причалил обратно. Причём рядом со сходнями обнаружились две скорых, куда сразу же каких-то лысых погрузили. Видать, они настойчиво шампанского требовали.
Я сошёл на набережную и в последний момент поймал какую-то распорядительную девку за рукав. Спрашиваю, когда в эфир эта передача про лысых пойдёт? Она смотрит на меня, как на барана без шпажки, и недоумевает: “Каких лысых? Мы снимаем передачу ‘Рак – это не приговор”’.
Перекрестился я, да и побрёл домой.
А воздух вокруг такой, будто яблочный сок.
Весна, природа, жизнь вокруг.
Хорошо».
А дальше он и говорит: «А как-то нас повезли за границу. Ну, я – руководитель делегации, у меня ещё несколько человек, всё люди солидные, крепкие хозяйственники. Однако ж эти азиаты приняли нас по высшему разряду, но поскольку я с ними был знаком, выставили нам ещё и девок местных. Я, правда, говорю: день тяжёлый был, мы с вами намучились, да и ужин обильный был, так что эти дела мне не в коня корм. Тут мне мой партнёр косоглазый хитро подмигнул и говорит: “А я вам средство верное предложу”. Что, думаю, за верное средство? Он мне флакончик показывает: “Вы, говорит, как встанет, побрызгайте этим на ваш Лотос Власти и Столб Желания, и не пожалеете о результатах”. Ну, я и решил, что уж лучше три раза получить, чем раз не попробовать, выбрал трёх самых длинных девок, и отправился к себе. Ну, в момент они меня раздели, хохочут басурманки, но я шмыг в ванную, и Лотос свой опрыскал, как велели. И, действительно, результат впечатляет, я и начал веселье. Откуда что взялось, да только через шесть часов девки и говорят: “Спасибо, господин-товарищ, у вас до трёх только оплачено, и продлять нельзя, профсоюз не велит, с этим строго”. И остался я даже в некотором недоумении.
Но на утро с этим флакончиком побежал в местную аптеку, смотрю, сличаю иероглифы. Вижу – ба! Всего по два доллара это чудо стоит! Ну, я десяток и прикупил сразу.
И надо же, сразу по приезде протрепался. Приятель мой, как про этакое волшебство услышал, так сразу затрясся. Дай, говорит, а то у меня счастье рушится, жизнь не мила и баба на сторону смотрит. Ну, дал ему флакончик. Он его одной рукой к сердцу прижал, а сам уже номер набирает.
Я на следующий день его в офисе встречаю, а он на меня волком смотрит:
– Что ж, ты, гад, не нашёл лучше способа надо мной посмеяться?
– Да ты что, – говорю, – может ты что не так сделал? Рассказывай быстро!
Тот и поведал мне скорбную историю – сделал всё как надо, подняли его трудолюбивый шлагбаум, а как начали прыскать, обкапали всю простыню чем-то чёрным и странным. А яростный лев спрятался в пещеру, и хрен его оттуда кто мог выманить.
Я побежал к себе, начал из флакончиков прыскать. И точно – везде соевый соус. Тут-то я понял, что там за всякие эксперименты с веществами – смертная казнь. Вот они во флакончик и добавили чудесного эликсира. Да поздно уж.
Одно хорошо – жене соевый соус понравился. Когда его не расточительно льёшь, а экономно в салат брызгаешь. Вкус такой необычный. Терпкий».
А потом он и говорит: «А, знаешь, я на корейском радио служил. На корейском. Хоть я корейского языка и не знаю, но там это было не нужно. Только там ведь все корейцы говорили по-русски, с разной степенью успешности. Да и корейское радио было условно корейским – вещало оно на русском языке, да и хрен поймёшь, вообще для кого вещало. На нас, что ли? На тех корейцев, что у нас тут родной язык позабыл? Не знаю, как сейчас, но у нас тогда много их, присланных с ихнего Севера, в тайге сидело – целые леспромхозы. Валили нашу тайгу и, значит, к себе в социалистическую Корею отправляли. Какая нам с этого была выгода, кроме братской дружбы и политического взаимопонимания, ума не приложу. Да я и не прилагал – работал у них на радио, что на русском языке рассказывало о хорошей жизни – что в Корее хорошей, что у нас. Моё дело было простое – смотреть, чтобы не очень смешно это в итоге выходило. А то ведь соотношение культур – вещь тонкая, не всякому доступная. Вот я в Германии служил, в нашем представительстве в аэропорту, так одна старушка из репатриированных пришла просить один билет на Люфтваффе. Смешно, конечно, а немцам, так даже и не очень смешно. Или как раз один германский человек говорил, что его соотечественники всё время падали в бассейн в каком-то мексиканском зале прилёта. Там бассейн с низким бортиком был посреди зала, у него встречи и назначали. И вот стоит себе немец-перец-колбаса, важный такой, а к нему мексиканцы бегут, раскрыв объятья. Немец один шаг назад делает, другой, – и оппаньки, уже в бассейне плавает, визитные карточки вместо утят пускает по волнам.
А корейское радио это было странное, с экономией на заглавиях. Так диктор и говорил: “Сейчас вы услышите заметку”. Подождёт немного и говорит “Заметка”.
Всё бы хорошо, но стала на меня заглядываться секретарша. Ничего такая, бойкая, мне тоже понравилась. Но она нравилась главному редактору с их стороны. И случилось оттого какое-то напряжение в наших братских социалистических отношениях. Запад, восток, всё едино тварь человеческая об одном мыслит. Только воплощает по-разному. Это ведь у нас всё просто – запер кабинет, поднос с кофе в сторону – и на диван, а там у них это было обставлено очень сложными церемониями. Не просто поднос в сторону, а с тремя приседаниями. Как-то не учёл я этой специфики, и через недельку мне позвонили из Конторы.
– Извини, Василий Петрович, тут какая-то накладка, культурное непонимание, мы тебя пока в резерв отводим.
Ну, я недолго горевал. Собрал вещички, сдал ключи, да и пошёл на волю. Дверь закрываю, а сам слышу, что в приёмной бормочет наша радиопередача из репродуктора. Новая, уже без меня сделанная, и говорит там диктор задушевно: “Двое рабочих – Пак Сон Чи и Ли Сын Мун работали на валке древ. И на них упало древо. Их отвезли в советскую больницу, и советские врачи спасли их. Ли Сын Муну советские врачи перелили крови даже больше, чем у того было раньше”.
По-разному, говорю, люди говорят. Хоть и думают об одном и том же».
И потом он говорит: «Смекалка – незаменимая вещь. На флоте так в особенности – я в училище попал после войны, некоторые курсанты ещё с медалями ходили, особенно, если кто из местных, ленинградских. А жили голодновато – не то, что сразу после Победы, но всё равно тарелки оставляли как мытые.
Летом те, кому ехать некуда было, оставались в казарме.
Можно было выписать увольнительную в город, да и идти по своим делам.
Так мы устроились на молокозавод. Молокозаводу нужен был для каких-то своих целей чистый песок, вот надо было его возить с карьера – разбитый грузовичок ещё с дырками от пуль, да мы трое с лопатами. Нам что понравилось на этом молокозаводе – там подъедаться было можно. То есть, к молоку тебя, конечно, не подпускали, а вот масло кое-где на ёмкостях перед очисткой оставалось, да и сыром можно было разжиться. Но правило строгое – никакого хлеба. Поймают с хлебом, и пинком за ворота. Потому как если молоко где скиснет, так убытку на тысячи рублей.
Мы неделю в этом раю жили, пока чёрт не дёрнул нас показать смекалку. И всё дело в том, что увидели мы на нашем песчаном карьере экскаватор. Хороший, мощный, ещё ленд-лизовский – да только копается он по своим делам, и до нас ему дела никакого нет.
И вот тогда мы, ребята технически подкованные, сняли аккумулятор с грузовика, привертели его в другое место, но сам ящичек не тронули. И вот в этот ящичек как раз входила небольшая головка сыра. Сейчас, может, на такую никто и не взглянет, но тогда время другое было. И вот за эту головку экскаваторщик стал нам засыпать песком весь кузов минут за пять. А потом мы ещё купались, да курили, чтобы уж совсем быстро не приезжать. Да и шофёру это в радость было – ему чем больше поездок, тем лучше.
Это уж совсем рай был, да сгубила нас зависть. Оказывается, шофёрский лишний червонец старыми стал обидой его братии. Они-то на нас настучали. Но смекалка и тут нас спасла – дружок мой Никифоров, красавец, он потом стал командиром БЧ-5 на атомной лодке, от рака умер в восемьдесят восьмом… Ну так вот, он красавец был, в первый же день подбил клинья к секретарше, она-то нас и предупредила.
Мы даже аккумулятор на место ставить не стали, забили короб всякой дрянью, да в электролите – так что поимщики наши долго матерились, всё отчиститься не могли. А нам и заботы нет – уже учебный год начался.









































