Текст книги "Страсти революции. Эмоциональная стихия 1917 года"
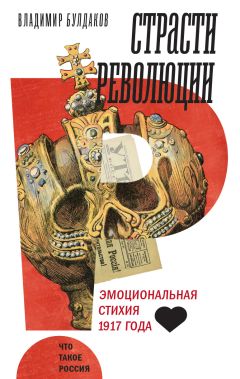
Автор книги: Владимир Булдаков
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Эсеры ужасались ходом аграрной революции. Газета «Земля и воля» подробно описала злоключения Р. Д. Семенова-Тян-Шанского, внука знаменитого географа. Этого «почти толстовца», самостоятельно возделывавшего 20 десятин земли, крестьяне «потащили с шумом, гамом и песнями, избивали, хотели даже убить». Расправу предотвратил священник. Причиной крестьянского неистовства была попытка «помещика» выставить свою кандидатуру на выборах в уездное земство. Инициировал расправу его конкурент по выборам – некий В. И. Чванкин, человек с уголовным прошлым, ставший главой уездного Совета. Он же засадил Семенова в тюрьму; имение его было разграблено. Правда, со временем справедливость как будто восторжествовала – в тюрьме оказался уже Чванкин со своими подручными. Однако злоключения Семенова не закончились. 19 октября его тяжело ранили выстрелом с улицы в освещенное окно. Возможной причиной покушения было то, что он подглядел, как крестьяне «трех деревень» дружно рубили его лес. В стихии «черного передела» Семенов-Тян-Шанский выжил – для того чтобы в ноябре 1919 года умереть от голода в Москве.
По-своему символичны реакции известных деятелей культуры на погром их владений. Имение А. Блока Шахматово наивные владельцы доверили постеречь крестьянам. Те принялись потихоньку растаскивать добро; когда же масштабы хищений стали слишком заметны, имение сожгли – не со зла, а скорее «от смущения». Однако Блок не расстроился (или сделал вид), напротив, ухитрился опоэтизировать события в духе «возмездия». Другие жертвы «столкновения культур» реагировали иначе: С. Рахманинов, вложивший в свое тамбовское имение все состояние, пребывал в отчаянии. Все зависело от угла зрения на происходящее, определяемого эмоциями. А у деятелей культуры они всегда неустойчивы. К примеру, И. Северянин в декабре 1917 года смотрел на происходящее с относительным оптимизмом:
Минуют, пройдут времена самосуда,
Убийц обуздает народ.
Поля позлатеют от хлебного гуда,
И песню живой запоет.
Я верю во Время, как в лучшее чудо!
Я знаю, что Жизнь не умрет!
Поэт ошибался: пик самосудных акций был еще впереди; возможно, он психологически настраивал себя принять неизбежное.
А пока врагом для крестьян становился всякий, кто осмеливался идти против воли общины. В начале октября в Оргеевском уезде (Бессарабская губерния) дело дошло до побоища крестьян двух сел между собой. Случаи межобщинной розни множились, правда, в основе обычно лежали старые тяжбы.
Масштабы погромных действий не поддаются учету. В хлебной Тамбовской губернии с сентября 1917‑го по март 1918 года было разгромлено 241 имение: в сентябре – 89, в октябре – 36, в ноябре – 75, в декабре – 30. Никто из политиков (кроме, может быть, части анархистов) в аграрном беспределе не был заинтересован. Демагоги появлялись сами собой. Князь С. М. Волконский описал характерный случай. На митинге крестьяне «приперли оратора: сколько земли получим? Он глаза зажмурил и бухнул: Двадцать! Ему кричали ура. Другие называли меньше, но все равно с потолка».
Эпизодически крестьяне высказывали политические требования. 30 августа общее собрание деревни c примечательным названием Усть-Погромная выразило недоверие Временному правительству и указало, что власть должна принадлежать Совету солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. 8–12 сентября аналогичное требование прозвучало на уездном крестьянском съезде в Новониколаевске, 18 сентября подобную резолюцию принял съезд Советов в Бийске. В ряде случаев крестьян возмущал рост сельской бюрократии. Состоятельные крестьяне сообщали: «Чтобы добыть предмет первой необходимости, прежде надо было сунуться в 1–2 места, а теперь… в 7 мест, и в конце концов ничего не добыть».
Политические ярлыки деревня использовала по-своему. Так, крестьяне Ржевского уезда (Тверская губерния) в начале сентября «по некоторым вопросам рассуждали как ярые черносотенцы, а по иным вопросам рассуждали как большевики и даже сверхбольшевики». Некоторые заявляли: «Мы сами больше большевиков». Сообщали, что «по деревням идет сильная… агитация под специально ржевским большевистским лозунгом „Всех долой, солдат домой, сахару по-старому“». Крестьяне рассуждали просто: «Никого… не признавать, никому ничего не давать, землю и имущество у буржуев отнимать». К последним все чаще относили сельскую интеллигенцию.
Оборотной стороной аграрного движения становилась угроза голода в городах. Даже в Москве и Московской губернии, куда продовольствие поставлялось относительно регулярно, в середине октября не осталось хлебных запасов. По некоторым данным, накануне большевистского переворота примерно 20 губерний Европейской России из 43 были охвачены голодом. Голод наступил в Дагестане; в Туркестане «мусульманское население было доведено голодом до отчаяния».
Местная власть оказывалась бессильной перед натиском бунтующего охлоса. Так, в Астрахани во второй половине сентября пополненная местными жителями толпа из предместья Форпост потребовала хлеба, а затем выволокла на улицу и избила губернского комиссара (тот вскоре сдал власть начальнику гарнизона). Фактически это означало переход власти к местному Совету. Нечто подобное произошло ранее в Ташкенте – «на почве голода в связи с явными злоупотреблениями должностных лиц». В начале октября в Калуге вооруженные члены местного Совета выпустили из тюрьмы анархистов. Под их влиянием солдаты гарнизона фактически поставили у власти «свой» Совет – его пришлось устранять вооруженным путем. В целом ряде местностей ситуация была на грани переворота. Сказывались два фактора: угроза голода и недовольство солдатских масс.
КТО СТАНЕТ ГЛАВНЫМ ВОЖДЕМ?
Октябрьскую революцию принято связывать с именем В. И. Ленина – человека, большую часть своей сознательной жизни проведшего в ссылке и эмиграции, а из восьми революционных месяцев чуть ли не половину срока скрывавшегося вдали от столицы. Тем не менее другой кандидатуры на место «творца Октября» не находится. Понятно, что «теневая» фигура Сталина не годилась на эту роль, а еврей Троцкий не мог претендовать на роль вождя русской революции. Выбора у потомков не было; оказывается, не было выбора и у современников революции.
Ленин действительно был вождем Октябрьского переворота – исключительно потому, что он меньше других большевиков колебался относительно его необходимости. Но главный его «секрет» состоял во взаимодействии с революционной массой. Похоже, Ленин действительно видел революционный идеал в том, чтобы «следовать за жизнью», «предоставить полную свободу творчества народным массам», больше полагаться на их «опыт и инстинкт».
В свое время советские историки гадали: почему Ленин, в отличие от прочих членов большевистского ЦК, находясь вдалеке от столицы, настаивал на немедленном вооруженном восстании уже в начале осени 1917 года? Находясь в Финляндии, он не мог знать настроений петроградских рабочих и солдат (правда, возможно, был осведомлен о настроениях русских солдат в Гельсингфорсе). Между тем, читая буржуазные газеты, он знал о панических страхах, которые переживала интеллигенция, этот барометр состояния страны, в связи с ожидаемым ими выступлением большевиков. Для успеха восстания в тогдашних условиях была важна не только сила революционеров, но и слабость их противников.
Развалившаяся в корниловские дни контрреволюция была бессильна против нарастающего социального хаоса. Ф. А. Степун не случайно считал, что большевизм – это не партия, а умонастроение масс, использованное большевиками. О роли Ленина он отзывался так:
Как прирожденный вождь он инстинктивно понимал, что вождь в революции может быть только ведомым, и, будучи человеком громадной воли, он послушно шел на поводу у этой массы, на поводу у ее самых темных инстинктов. В отличие от других деятелей революции он… сразу же постиг, что важнее сегодня, кое-как, начерно, исполнить требование революционной толпы, чем отложить дело на завтра…
Ленин инстинктивно отверг логику своего рационального времени ради логики торжествующего хаоса (более понятного на примерах массовых движений Средневековья). Возможно, при этом сказывался и обратный фактор. Характеризуя взаимоотношения интеллигенции и охлоса, П. А. Сорокин отмечал, что толпа ускользает от «настоящих» революционеров и попадает в «загребистые руки авантюристов революции». «Изделываясь под вкусы толпы… эти скоморохи и ханжи революции готовы льстить без конца» все более распоясавшемуся охлосу. Ленин фактически признавал это, прибегая к характерному «оправданию»:
Лишенные возможности получить ясные руководящие указания, инстинктивно чувствующие фальшь и неудовлетворительность позиции официальных вождей демократии, массы принуждены ощупью сами искать пути… В результате под знамя большевизма идет всякий недовольный, сознательный революционер, возмущенный борец, тоскующий по своей хате и не видящий конца войны, иной раз прямо боящийся за свою шкуру человек…
Ленин вовсе не был обычным циником; в данном случае он был обезоруживающе искренен. Революция, эта, по словам Троцкого, «великая пожирательница людей и характеров», активизирует и самое дерзновенное, и самое жалкое в человеческой натуре. Революционер призван сломить во имя разрушения все, что мешает движению вперед. Осенью 1917 года большевизм уверенно черпал силы из источника, который предписывала не марксистская теория, а скорее М. А. Бакунин. Для этого требовались особые таланты: прежде всего, доходящая до слепоты вера в осуществимость своих идеалов, для чего следовало «слиться с массой». Этим были отмечены еще лидеры Французской революции, этим же стал силен большевизм.
Некоторых Ленин разочаровывал. Вот каким увидел его бывший эсер-максималист:
Это очень невзрачная фигурка, небольшой, хотя и коренастый человечек, лысый, с мелкими чертами лица, маленькими глазками – тип умного интеллигентного ремесленника… Самое разочаровывающее… то, что нет… ничего вдохновенного и вдохновляющего, трудно назвать его даже фанатиком. …Перед нами очень трезвый человек, рассудочный политик, хладнокровно взвешивающий все доводы за и против. Конечно, его увлекает страстная ненависть к капиталистам… И в анализе его почти все верно, но до невероятности все упрощено и схематично.
Но именно последнее требовалось полукрестьянской толпе. По мнению этого очевидца, Ленин не давал ответа на вопрос, «что делать именно сейчас», а потому на него отвечала сама масса в том «упрощенном виде, который приводит в ужас даже Ленина». При этом А. Н. Потресов, правый социал-демократ, некогда соратник Ленина, отмечал, что тот обладал своего рода гипнотическим воздействием на людей, умением подчинять их. Потресов связывал это с тем, что Ленин представлял собой «редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, сливающего фанатичную веру в движение… с не меньшей верой в себя». Но возникает вопрос: как же ему удавалось такое воздействие? Оратором Ленин был плохим, однако некоторые находили, что он «больше, чем оратор», ибо «умел ощущать аудиторию, умел возвышаться над ней», зная, что «толпа любит поработиться». Такие представления были отголосками хорошо известных в России представлений то ли из Э. Ренана, то ли из Ф. Ницше, то ли из Г. Лебона. Правда, из всех большевистских ораторов больше всего Лебоном увлекался А. В. Луначарский, который уверял, что знает, как в ходе получасового выступления можно перевернуть сознание рабочих.
Напротив, Ленин искренне осуждал фразерство и пафосность, выступал против вульгаризации языка ради доступности изложения. Однако он же обожал использовать гипертрофирующие приставки: архи-, гипер-, квази-, ультра– и анти-. Подобная «ученость» создавала впечатление не логики, а особого рода магии. Слушая Ленина, Ф. А. Степун недоумевал: «…он говорил изумительно убедительно, но и изумительно бессмысленно». Ему казалось, что Ленин использовал стилистику лубка и тем самым «перекликался не только с подлинной мужицкостью, но и с подлинной народностью». Некоторых интеллигентов именно это и впечатляло. Вспоминали, что, выступая, Ленин «размахивал правой рукой, словно забивал гвоздь в крышку стола». Отмечали, что он говорил «без внешнего красноречия, но убежденно и чрезвычайно настойчиво». Действительно, при знакомстве с текстами ленинских речей поражает постоянное возвращение к одной и той же – обычно достаточно простой – мысли.
Технику внушения массам агрессивной непреклонности раскрыл отнюдь не философ, а сатирик А. Т. Аверченко. Он посетил ряд митингов и выявил, что в основе речей большевистских ораторов лежит единая матрица: с помощью искусственной логической цепочки у слушателя вызывалась нужная эмоциональная реакция. Аверченко описывал это так: поначалу следовало произнести какую-нибудь общеизвестную банальность: «Волга впадает в Каспийское море»; затем подпустить сомнение: «Справедливо ли это?»; наконец, прояснить вопрос: «Пролетарская Волга впадает в буржуазное Каспийское море». После этого можно было декларировать: «Довольно многострадальной Волге питать разжиревшее Каспийское море!.. Да здравствует самоопределение Волги, да здравствует Третий Интернационал!» Увы, это было действительно так: логика идейных революционеров резонировала с психозом «обиженных» людей.
«Гипноз» речей Ленина был связан с их соответствием ожиданиям толпы. Сохранилось характерное свидетельство «буржуазного» гимназиста:
Ленина я слышал во время одной из знаменитых речей с балкона дворца Кшесинской… Первое впечатление было не сильным. Речь спокойная, без жестов и крика, внешность совсем не «страшная»… Содержание этой речи я понял… по поведению окружающих. Если при слушании Зиновьева и Троцкого мы присутствовали при пропаганде гражданской ненависти и войны, то здесь то и другое было как бы уже фактом. То, к чему те призывали, у Ленина было само собой понятным… И это сказывалось на толпе. Слушатели Зиновьева ругались, безобразничали и грозили; слушатели Ленина готовы были… сорвать у прихвостней буржуазии и ее детенышей головы. Надо признать – такого раствора социальной ненависти мы еще не встречали…
Между тем нечто подобное звучало в тогдашних стихах рабоче-крестьянских поэтов. 7 июня 1917 года некий Ардин в «Уральской правде» клеймил позором буржуазию:
Капитал
Обирал,
И пощады не знал,
Человеческой кровью питался.
Воевал,
Убивал,
Беззастенчиво лгал…
20 августа некий Марсий опубликовал в «Пермской жизни» свой «Красный звон». Ему виделся такой исход:
Миллионы, миллионы
Погибают на войне…
Но наступит единенье
Всех народов, всех племен,
Зазвучит над всей землею
Долгожданный Красный звон!
Поэтическое негодование творящимся беспределом не могло не нарастать. Однако пролетарские поэты упорно пели свои песни. И. Панфилов в стихотворении «Завод» 25 августа 1917 года утверждал:
Но сквозь дымную мглу и угар
Видим мы твое счастье, Россия,
И несем тебе радостный дар…
Большевики были не одиноки эмоционально. 22 октября 1917 года от лица левацких литераторов и художников Велимир Хлебников объявил Временное правительство несуществующим, а «главнонасекомствующего» Керенского посаженным под арест. Это по-своему перекликалось с большевистскими призывами.
Люди проницательные отмечали, что риторика большевиков подкупала своей радикальной простотой: «устранить („долой“) и устроить („да здравствует“)». Правда, отталкивали ее носители. Один поручик записывал в дневнике:
Сидишь, как пень, и думаешь… о грубости и варварстве. Не будь его – ей-богу, я был бы большевиком… Будь все сделано по-людски, я бы отдал им и землю, и дворянство, и образование, и чины, и ордена… Так нет же: «Бей его, мерзавца, бей офицера (сидевшего в окопах), бей его – помещика, дворянина, бей интеллигента, бей буржуя…» И, конечно, я оскорблен, унижен, истерзан, измучен.
Страхи перед неизбежным заставляли обывателей организовываться. Один из них писал:
Вчера в Петрограде и Москве ожидалось «выступление» большевиков. Напуганному обывателю рисовалось, что ночью произойдут на квартиры вооруженные нападения, резня, грабежи, – одним словом, что-то вроде Варфоломеевской ночи. И вот «домовые комитеты»… на этих днях собирались и совещались, как бы оберечь свои семьи, имущество и сон от анархических эксцессов, и тут обнаружилось, что большинство обывателей имеют и револьверы, и ружья, и кинжалы…
Страхи были непомерными: совещались, что делать, если «ввалится шайка в 10–15 человек, и как действовать, когда дом осадит толпа в 500–1000 человек». Накануне большевистского переворота и сразу после него в глубокой провинции говорили о том, что город будет то ли подожжен, то ли взорван. В связи с подобными слухами столичный сатирический журнал иронизировал:
Провинциальная газета,
Как прежде, сплетнею живет…
Весьма удобна для кло…
Бессодержательна и врет…
Увы, столичные газеты были немногим лучше.
В России слишком ценят искренность убеждений, легко распознают ложь, а потому революционная харизма возникает от истовости и твердости веры. Большевистская демагогия была связана с определенным типом личности. И. Эренбург как-то встретил во Франции среди солдат Экспедиционного корпуса Русской армии «большевика», который напоминал сектанта. Он все время «боролся с какими-то пережитками и предрассудками», будучи уверен, что «можно все перестроить заново, – хотел ввести эсперанто и многобрачие». Во все это он верил «с чистотой ребенка и с преданностью средневекового еретика». «Большевизм пленил его своей радикальностью и прямолинейностью, – отмечал Эренбург. – …Человек по своей природе мягкий, он готов был расстрелять на месте любого „неверующего“, который усомнился хотя бы в пользе эсперанто». В общем, в лице этого человека средневековая психика сомкнулась с новейшим порывом к «рациональному» переустройству мира. При этом «бывали минуты, когда его подлинная жажда справедливой лучшей жизни заражала толпу. В особенности близки солдатам были мысли о том, что „все равны“ и что „война – грех“». Получалось, что весь мир созрел для своего – «диалектического» – отрицания.
Встречался и еще один большевистский типаж. Один патриотичный интеллигент свидетельствовал:
…Я видел большевика – ехавшего с Демократического совещания солдата. Я никогда не видел такой физиономии. Это ужасное – «лицо без лица»… Я убежден, что он сумасшедший, ходящий между нами… Старый партийный работник… Он – ни минуты не молчит. Он – все говорит… металлическим, никчемным голосом, с митинговыми интонациями… И, как многие ненормальные люди, он логичен и убедителен… Родина – звук пустой для него… Этот человек похваляется тем, что солдаты не будут воевать.
Разумеется, такие типажи воплощали в себе патологическую крайность реального большевизма. Куда более органично могли нагнетать обстановку люди типа Л. Д. Троцкого. Общительного и несдержанного на язык Троцкого в то время знали куда лучше, чем «таинственного» Ленина.
Луначарский позднее высказался весьма неожиданно: «Вот пришла великая революция, и чувствуется, что, как ни умен Ленин, а начинает тускнеть рядом с гением Троцкого». Действительно, Троцкий никого не оставлял равнодушным – из‑за язвительности по отношению к противникам и публичного неистовства. Газета «Киевская мысль», с которой Троцкий некогда сотрудничал, со знанием дела сообщала:
…Вот имя, которое публика повторяет все чаще теперь… Имя, собравшее вокруг себя уже огромные каталоги восторгов и брани…
Ораторское дарование Троцкого очевидно и неоспоримо. От оратора требуется умение внедрять по желанию то или иное убеждение в умы своей аудитории. Этим даром Троцкий владеет в высокой мере и пользуется своим искусством с удивительным мастерством… С избытком вкусивший от всех цивилизаций Европы, искушенный во всех политических интригах, Троцкий все понимает, но мало что любит… Троцкий обладает холодным рассудком и еще более холодным сердцем, но одарен железной настойчивостью… Она придает его выпадам огромную ударную силу. Вместе с этим Троцкий владеет всеми оттенками сарказма… Чтобы вызвать улыбку одобрения в слушателях, Троцкий весь свой талант превращает в игру остроумия – остроумия злого, тщеславного и парадоксального… Троцкий никогда не способен превратиться в раба идеи. Но жажда аплодисментов нередко превращает его в раболепного демагога…
Такие свидетельства не учитывали возможность деформации личности в условиях разгула бунтарской стихии. Более проницательно высказался один контрразведчик: «Чернь слушает Троцкого, неистовствует, горит. Клянется Троцкий, клянется чернь. В революции толпа требует позы, немедленного эффекта».
Подобных оценок было немало. Другой наблюдатель отмечал:
Троцкий поразил меня чудовищным запасом ненависти… Я был также поражен его диалектическими способностями. На крестьянском съезде он выступал среди предельно враждебной ему аудитории… Вначале оборонческие и эсеровские делегаты прерывали Троцкого на каждом слове. Через несколько минут своей находчивостью и страстностью Троцкий покорил аудиторию настолько, что заставил себя слушать. А окончив речь, он услышал даже аплодисменты.
Троцкий словно подпитывался энергией от яростных эмоций толпы – включая враждебные. Н. Н. Суханов описал его ораторский триумф 22 октября 1917 года в Народном доме перед почти четырехтысячной публикой – «рабочей и солдатской по преимуществу». Троцкий поначалу неторопливо подогревал настроение. Затем начал бросать в публику простые фразы:
Советская власть отдаст все, что есть в стране, бедноте и окопникам. У тебя, буржуй, две шубы – отдай одну солдату, которому холодно в окопах. У тебя есть теплые сапоги? Посиди дома. Твои сапоги нужны рабочему…
Так нагнеталось настроение, близкое к экстазу. Суханову показалось, что «толпа запоет сейчас без всякого сговора какой-нибудь религиозный гимн». Троцкий «формулировал» тем временем нечто вроде краткой резолюции «вроде того, что „будем стоять за рабоче-крестьянское дело до последней капли крови“». Ясно, что толпа, «как один человек, подняла руки». Троцкий чеканил: «Это ваше голосование пусть будет вашей клятвой – всеми силами, любыми жертвами поддержать Совет, взявший на себя великое бремя довести до конца победу революции и дать землю, хлеб и мир!» Толпа клялась. По всей столице «происходило примерно то же самое».
В сущности, Троцкий довел до логического конца ораторскую манеру Керенского, заменив надоевшие абстракции, вроде «республики» и «демократии», доступными понятиями «земля, хлеб, мир». Нечто подобное делали тысячи самодеятельных большевиков.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































