Текст книги "Страсти революции. Эмоциональная стихия 1917 года"
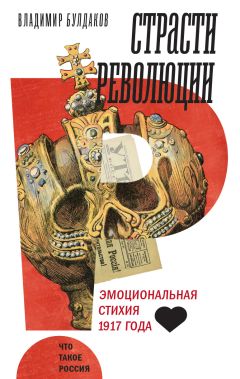
Автор книги: Владимир Булдаков
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 20 страниц)
ПОНЯТЬ СМУТУ. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Предложенный нарратив – лишь одна из возможных интерпретаций революции, причем далеко не самая глубокая из возможных. Следует иметь в виду, что среди бесчисленных заблуждений революционных лет все же встречались поразительные прозрения. Надо уметь их увидеть, разглядеть и постараться воспользоваться.
В 1918 году появилась книга-альбом «Расея» известного 32-летнего художника Бориса Григорьева. Поработав перед войной в Париже, объездив ряд европейских стран, он обратился к российским глубинам. Галерея крестьянских портретов – молодых и старых лиц со сжатыми губами и бесстрастными глазами – выявила нечто противоположное европейской суете предвоенного времени. Алексей Толстой, тоже по-своему знаковая фигура российской культуры, отмечал:
У Григорьева много почитателей и не меньше врагов. Иные считают его «большевиком» в живописи, иные оскорблены его «Расеей», иные силятся постичь через него какую-то знакомую сущность молчаливого, как камень, загадочного, славянского лица, иные с гневом отворачиваются: это ложь, такой России нет и не было.
Такая Россия была. Это пришлось признать всем, как пришлось признать и «безразмерный» талант Григорьева. Трудно сказать, кто еще мог столь основательно потрясти представления о «народе-богоносце». То же самое, в сущности, проделал И. Бунин в «Окаянных днях». Вместе с тем Григорьев по-новому показал и «известную» Россию, создав и другие портретные образы: В. Э. Мейерхольда – фигуры, словно изломанной силой своего неспокойного таланта; М. Горького – человека, словно недоумевающего в окружении своих литературных персонажей. Оба – представители «антикрестьянской» России. В сущности, художник по-своему показал то, что позднее назовут «столкновением культур». В этом и была та суть русской революции, которую упорно старается обойти наше боязливое сознание.
Можно необычную творческую догадку принять за научную гипотезу и проверить средствами привычной истории? Несомненно. Для этого надо, как писал Л. Андреев в феврале 1918 года, избавиться от «глупости умных», то есть вместо «ученых» теорий научиться вглядываться в глубины собственной человеческой истории. Правда, понадобится круг источников, неизмеримо шире привычного. Придется также признать, что «Расея» не столько противоречива и экзотична, сколько устойчива и архаична – прежде всего, в отношении народа к власти. Страсти революционного бытия, запечатленные в художественном творчестве, отражали глубочайший социальный и культурный раскол, истоки которого уходили в глубь веков. Они таятся в нижних пластах русского сознания, точнее – исторического подсознания. Как отмечал И. Бунин, «есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом – Чудь, Меря…». Народ сам сказал про себя: „Из нас, как из древа, – и дубина, и икона“ – в зависимости от обстоятельств…»
Разумеется, подобные оценки – плоть от плоти традиционной российской эмоциональности с ее непременными гиперболами и сюрреалистическим воображением. Но они существуют, как существует и способность выдающихся умов собственной «кожей» ощущать ритмы «непонятной» истории.
Но почему пик системного кризиса пришелся именно на 1917 год? Почему не раньше, как ожидали некоторые другие представители культуры? «Удивительно, как те или иные настроения охватывают страну – во всех слоях, во всех сторонах жизни, словно эпидемически, каким-то невидимым внутренним веянием, – флегматично философствовал «раскаявшийся» народник, а затем монархист Л. А. Тихомиров. – Иногда налетает эпидемия революционная, иногда – эпидемия национально-устроительная». Но где причины такого явления?
В том же 1918 году 24-летний участник революционных событий Александр Чижевский в тихой провинциальной Калуге попытался объяснить, почему размеренное течение истории постоянно прерывается ужасающим вихрем дурных человеческих страстей; какие силы превращают людские массы в некую «собирательную личность», способную творить то, что ранее представлялось невозможным; отчего вскрывается при этом «вся обширная область человеческого безумия, неуравновешенности и страсти».
Малоизвестный тогда ученый-космист связывал эти устрашающие события людского бытия со всплесками солнечной активности.
Фактор «психического заражения» масс отрицать невозможно – нечто подобное описывали во все времена. Однако к гипотезе Чижевского ученый мир отнесся со сдержанным скепсисом – она шла вразрез с рационализмом эпохи Просвещения. Мало кто и сегодня отважится вообразить, что социальная смута всякий раз приходит из глубины душ маленьких людей, малозаметное существование которых связано с бесчисленными факторами, включая космические. Нельзя забывать, что человек – естественная часть Космоса. А потому он способен откликаться на бесконечное число внешних раздражителей.
Возможны и другие факторы эскалации неизбежных системных кризисов. Так или иначе, нельзя забывать, что история катастрофична. Причем именно в силу ее человеческого наполнения. За всяким беспечным «застоем» непременно последует кризис.
В кризисные времена люди неслучайно становятся тревожными и мнительными, упорно программирующие общественное сознание на «дурной конец». Уместно ли в связи с этим говорить о том, что россиян это касалось в особой степени? Если да, то чем это было обусловлено? Удастся ли на этой основе воссоздать психологический портрет российской революции – этой великой смуты в человеческих умах?
Человек обречен на испытания историей по самой своей природе. Как биологическое существо, лишенное инстинктивной программы существования, он вынужден двигаться в пространстве и времени путем бесконечных проб и ошибок, опираясь при этом то на разум, то на эмоции, то на интуицию, то на инстинкт выживания. Этим колебаниям подвержены и обществоведы. Они не могут поставить себя на место людей, отдаленных от них временем и образом мысли. При этом аналитические слабости усиливаются у них из‑за профессиональной разобщенности.
Так или иначе, историку важно найти свой особый путь вживания в наше общее прошлое. Очевидно, что это возможно в связи с максимальным расширением круга источников, позволяющих двигаться от человека, его индивидуальных, природно и культурно обусловленных мыслей и страстей, а не от институтов и организаций, созданных в суете текущего дня. Это путь культурно-исторического постижения духа ушедших поколений. Именно он позволяет придать взгляду на прошлое необходимую глубину.
Ясно, что выбраться из былых заблуждений предстоит профессиональным историкам, а не идеологам и политикам. Очень многое могут подсказать поэты и художники. Совместное переживание прошлого способно облегчить движение в будущее. Главное – избавиться от «специалистов», которые упорно отплясывают под дудку капризно-беззаботной современности.
О роли эмоций в кризисные времена со времен Гюстава Лебона писали многие, включая людей, не страдающих их избытком. Выдающийся психиатр В. М. Бехтерев еще в 1897 году говорил об «одушевлении народных масс в годину тяжелых испытаний и фанатизме, охватывающем народные массы в тот или другой период истории». Он видел в этом «своего рода психические эпидемии, развивающиеся благодаря внушению словом или иными путями на подготовленной уже почве…». К изучению «страстей истории» еще в 1930‑е годы призывали такие социопсихологи и историки, как Хосе Ортега-и-Гассет, Люсьен Февр, Норберт Элиас. В свое время Мишель Фуко отмечал, что в философском дискурсе, который с помощью наивного позитивизма пытается указывать, где лежит истина, есть нечто смехотворное. По его мнению, историкам следовало бы обратиться к заложенным в природе человека аффектам, инстинктам, морали, телесности. В современной литературе не раз отмечалось, что для определенных периодов истории характерны «фобические сверхреакции». Возникает вопрос: почему и как внутри таких устойчивых величин, как культура, хозяйство или ментальность, «вдруг» происходит лавинообразный рост «малых возмущений», оборачивающийся водоворотом страстей, которые словно пытаются взломать генетический код системы?
Человек – существо не только разумное, но и эмоциональное, причем мысль и чувство пребывают в подвижном, порой безумном состоянии. Его внутренние интенции двойственны. С одной стороны, он стремится упрочить свое нынешнее состояние, с другой – добиться чего-то большего. Последнее связано с возрастным фактором: молодежь всегда бунтует.
О склонности русских к фантазиям говорили и Ф. М. Достоевский, и В. И. Ленин, что не мешало фантазировать им самим. А потому неудивительно, что возмущенный крестьянин-общинник попытался стать подобием помещика, наемный рабочий – собственником. Имущие сословия были подвержены особым соблазнам: среди помещиков встречались «маниловы», среди предпринимателей – «социалисты», среди аристократов – «вольтерьянцы». Эти фантазии ранжировались в соответствии с личным темпераментом, принадлежностью к культурной среде, нации, эпохе. Слишком многим хотелось упорядочить общественное разнообразие по собственному разумению.
В отличие от утопистов консерватизм умеет казаться мудрым. До известной степени он таковым и является. Однако он никого не спасал и тем более не вдохновлял. Кроме наиболее нервных контрреволюционеров, не принимающих неизбежного будущего – всегда неведомого.
В условиях общественной несвободы добрый барин может воспылать сочувствием к униженным и оскорбленным, досужий мыслитель – возмечтать о более рациональном общественном устройстве, люди образованного слоя – попытаться донести свои альтернативные предложения до высшей власти, социальные низы – в совместном порыве потребовать «справедливости», а люди, которым нечего терять, – отчаянно взбунтоваться против всего существующего порядка. Отсюда не только стремление к «свободе, равенству, братству», но и порывы к тотальному уравнению.
Очевидно, что во всем этом больше эмоций, нежели рассудка; причем человек может оказаться заложником неведомых ему страстей. Так бывало в истории не раз, но разум упорно склонялся затем к разумному пониманию случившегося: хаос представлялся организованным, а стихийный бунт – подготовленной революцией. В этом суть неспособности человека к постижению природы системного кризиса, вызванного собственными страстями.
Не раз было сказано, что революция – это стихия. Отсюда следует, что относиться к ней следует именно как к стихии: не проклиная и не восторгаясь ею и тем более не надеясь, что она сама вынесет в «лучший мир». Перед лицом ее остается только одно: правильно рассчитать не только свои силы и возможности, но и степень их возможного «искривления» своими же необузданными эмоциями. Иного пути нет.
Давно замечено, что скучное течение исторических событий порой прерывается периодами общественных катаклизмов. К началу XX века европейский мир стал слишком тесным, агрессивным и быстрым для того, чтобы элиты могли это осознать, а политики успели договориться относительно поддержания привычной стабильности. И всякое европейское поветрие имело обыкновение производить бурю в мозге русской интеллигенции. Отсюда пароксизм взаимоисключающих утопий 1917 года. Это состояние резонировало с психикой масс, отчего эмоции превращались в страсти, а страсти – в коллективный психоз. Но когда эмоции выгорают от ощущения безнадежности, человек останется со своим основным инстинктом – инстинктом выживания. К этому подводит его бездонная прошлая история.
Возможности постижения истории поистине безграничны. Не стоит только пользоваться чужим умом, сводя русскую революцию к чисто политическим переворотам. За восемь месяцев 1917 года не могло сложиться даже подобия гражданского общества. Место расчетливой и предусмотрительной (в европейском смысле слова) политики заняли эмоциональные реакции на непонятные шаги непонятной власти. На то были свои причины.
Российская история не знала планомерно дисциплинирующего насилия в лице инквизиции – процесс форматирования социальной среды затянулся. В отличие от европейца россиянин, отчужденный от традиций римского права, не умел мыслить категориями формального закона, предпочитая максимы справедливости и правды. Практически отсутствовал средний класс, способный жить своим умом. Попросту говоря, россиянин не был отформатирован для демократии, но этого не хотелось замечать.
События 1917 года политические доктринеры не случайно связывали с излишним разгулом страстей. Эсеровский лидер В. М. Чернов сетовал, что большевизм «концентрировал в себе известную сторону охлократических тенденций революции». Его соратник по партии Е. Г. Шрейдер выражался еще резче: «Октябрь – это тот же Февраль, но доведенный до пароксизма, облеченный отчасти в психологическую форму вольницы». Д. Пасманик (некогда кадет, затем сионист) видел в революции сардонический «красный смех», «вызванный стонами миллионов людей, погибших на кровью пропитанных полях Западного и Восточного фронтов». Правый деятель Б. В. Никольский отмечал «судороги воображения» масс, связанные с утратой привычной картины мира. Если вчитаться в сочинения В. И. Ленина, то окажется, что свои главные решения он принимал в расчете на общественные страсти. В сущности, на большевиков работала стихия русского бунта.
Мало кто возьмется отрицать, что генетический материал русской революции запрятан в глубине веков, и особенности взаимоотношений власти и народа складывались на протяжении столетий. Из ситуационного недовольства конкретной властью и традиционной веры в ее же спасительность складывалась историческая психика народа. В результате в массах закрепились лишь две модели поведения: смирение и бунт. При этом крестьянское большинство хотело видеть над собой не помещика и земского начальника, а лишь отдаленный образ «своего» царя. В этих условиях сыграла свою роковую роль интеллигенция. Именно ее привычка казаться, а не быть, дискутировать и актерствовать в ситуации, требующей реальных умственных и волевых усилий, обрушила едва зародившуюся веру в демократию. Этим был спровоцирован саморазрастающийся бунт против всякой власти, стоящей на пути к народному идеалу.
С чем было связано падение власти? Отнюдь не только с ухудшением материального положения масс – это всегда относительно. Власть теряла точку опоры по мере обнаружения собственной недееспособности. Она попросту разваливалась в атмосфере всеобщего безразличия и злорадства.
Нечто подобное к концу мировой войны отмечалось и в западных странах, хотя там возобладал иной сценарий развития событий. Обессиленная Европа все же смогла вырваться (пусть на время) из кровавого хаоса и нравственного кризиса на путях общественной самоорганизации. Россия этого не смогла: русский человек «привык быть организуемым» (Н. А. Бердяев) с поразительной долей безответственности для самого себя. Но с этим последним фактором связана уже другая – сталинская – страница российской истории.
В конечном счете русский бунт, вырядившийся в европейские революционные одежды, не произвел ничего, кроме того болезненного выворачивания людских душ, о котором так хочется забыть. Именно поэтому «безвольные» обществоведы не смогли указать на вполне различимые пути избавления от российской революционности. Но это все равно предстоит сделать. Иначе мы вновь и вновь будем наступать на грабли, коварно притаившиеся в траве забвения.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Аксенов В. Б. Война патриотизмов: Пропаганда и массовые настроения в России периода крушения империи. М., 2023.
Аксенов В. Б. Слухи, образы, эмоции: Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918 гг.). М., 2020.
Асташов А. Б. Пропаганда на Русском фронте в годы Первой мировой войны. М., 2012.
Асташов А. Б. Русский фронт в 1914 – начале 1917 года: Военный опыт и современность. М., 2014.
Булдаков В. П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. 2‑е изд., доп. М., 2010.
Булдаков В. П. Хаос и этнос: Этнические конфликты в России: 1917–1918 гг.: Условия возникновения, хроника, комментарий, анализ. М., 2010.
Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. М., 2015.
Бурджалов Э. Н. Вторая русская революция: Восстание в Петрограде. М., 1967.
Бурджалов Э. Н. Вторая русская революция: Москва. Фронт. Периферия. М., 1971.
Колоницкий Б. И. Погоны и борьба за власть в 1917 году. СПб., 2001.
Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры российской революции 1917 года. 2‑е изд. СПб., 2001.
Колоницкий Б. И. «Товарищ Керенский»: Антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март–июнь 1917 года). М., 2017.
Тарасов К. А. Солдатский большевизм: Военная организация большевиков и леворадикальное движение в Петроградском гарнизоне (февраль 1917 – март 1918 г.). СПб., 2017.
Тютюкин С. В. Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905–1917 гг.). М., 2012.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































