Текст книги "Страсти революции. Эмоциональная стихия 1917 года"
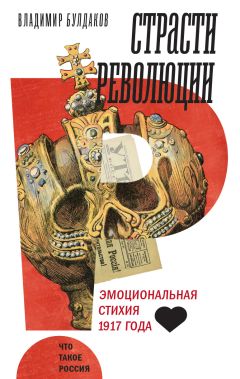
Автор книги: Владимир Булдаков
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
КОНФУЗ ПОБЕДЫ
В июне 1917 года на I Всероссийском съезде Советов было решено, что следующий съезд будет правомочным при условии, что его численность составит не менее 2/3 предыдущего состава. Увы, II съезд до уровня собственной легитимности недотянул. «Новое время» отметило, что на предыдущем съезде было 1180 делегатов. Кворума (2/3 численности делегатов предыдущего съезда) не набиралось, однако, похоже, этого никто не хотел замечать.
В целом делегаты II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов представляли собой нечто странное. Присутствовали представители лишь от трети существовавших к тому времени Советов. Активно прибывали солдаты-большевики, рабочих оказалось вдвое меньше. Именно за счет делегатов от армии и флота, а отнюдь не рабочих, большевистская фракция смогла основательно увеличить свое представительство. Инородцев было не менее 280, преобладали латыши и евреи, большинство последних тяготели отнюдь не к большевикам. Впрочем, соотношение «друзей» и «врагов», «революционеров» и «контрреволюционеров» давно уже трудно было определить из‑за невозможности понять, кто подталкивает, а кто сдерживает процесс углубления революции.
Вряд ли когда-либо удастся точно восстановить состав участников съезда. «Рабочая газета» указала, что к моменту его открытия явилось 562 делегата. Среди них было 252 большевика; 15 объединенных интернационалистов; 65 меньшевиков, из них 30 интернационалистов и 21 оборонец; 7 национальных социал-демократов; 155 эсеров, из них 16 правых, 36 центровиков, 70 левых; 3 национальных социалиста-революционера; 31 представитель беспартийных, сочувствующих большевикам-интернационалистам; 5 анархистов различного толка. 29 октября «Правда» опубликовала «предварительные данные» анкетной комиссии, где уже давалась несколько иная картина представительства: зарегистрировано 670 делегатов, в том числе 300 большевиков, 68 меньшевиков, 193 эсера. Ясно, что в кулуарах большевики приложили немалые старания, чтобы, во-первых, перетянуть на свою сторону беспартийных представителей и обеспечить полновесными мандатами своих сторонников с правом совещательного голоса, с другой – подтолкнуть влево часть эсеров и меньшевиков.
Поздно вечером 24 октября В. И. Ленин отправился в Смольный, оставив записку, смысл которой остается не вполне понятным: «Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил». То ли Ильича берегли от контрреволюционеров, то ли опасались, что своими заявлениями он распугает колеблющихся делегатов съезда. На одной из улиц Ленина и сопровождавшего его 32-летнего Э. А. Рахью (отчаянного финского левака, однако успевшего умереть своей смертью в 1936 году то ли от туберкулеза, то ли от алкоголизма) остановил конный патруль. Рахья умело изобразил пьяного мастерового, это позволило Ленину скрыться и добраться до Смольного. Впрочем, о его появлении там мало кто из его сторонников узнал.
Президиум съезда должен был составиться из 14 большевиков, 7 эсеров, 3 меньшевиков, 1 меньшевика-интернационалиста. Однако меньшевики и эсеры отказались занять кресла на сцене, демонстративно отмежевавшись от большевиков, устами ВРК заявившими о захвате власти. Впрочем, и большевистские руководители не склонны были обострять обстановку. Председателем стал Л. Б. Каменев, ранее вроде бы не соглашавшийся с В. И. Лениным относительно поспешного захвата власти. Тем временем делегаты единогласно поддержали Ю. О. Мартова, выступившего против «чисто военного заговора» и настаивавшего на мирном разрешении кризиса в целях предотвращения гражданской войны. Такую же позицию занял не только левый эсер С. Д. Мстиславский, но и А. В. Луначарский. Уже тогда большевики сделали вид, что поддерживают идею «однородного» (чисто социалистического) правительства. Представители меньшевиков и эсеров не поверили, и около 70 их сторонников покинули съезд, намереваясь своими телами прикрыть Зимний дворец от обстрела. Вряд ли этот героический жест мог быть тогда оценен. Правда, после воинственной речи Троцкого, обвинившего этих «соглашателей с буржуазией», съезд покинула часть крестьянских делегатов. Похоже, они не задумывались над тем, что своим уходом облегчают задачу манипулирования оставшимися делегатами.
Усилиями большевистской пропаганды II съезд Советов предстал поистине судьбоносным. На деле психологическая атмосфера съезда стороннему человеку могла показаться странноватой: «…Никакого подлинного энтузиазма и глубокой серьезности – так, обыкновенный митинг…» Каждый видит то, что хочет видеть, и верит в то, во что хочется верить. Длительное время на съезде шли препирательства между сторонниками большевиков с меньшевиками и эсерами. Здесь показал себя Троцкий. «Худое, заостренное лицо Троцкого выражало мефистофельскую злобную иронию», – так описывал поведение его по отношению к соглашателям Джон Рид, не забыв отметить, что присутствующие реагировали на его появление громом аплодисментов.
Сам Троцкий описывал ситуацию более сдержанно. По его словам, когда доложил о смене власти, на несколько секунд воцарилось напряженное молчание. Аплодисменты были не бурными, а «раздумчивыми». Он считал, что если ранее рабочий класс был охвачен неописуемым энтузиазмом, то теперь его сменило тревожное раздумье.
Все делегаты ждали развязки. Н. Н. Суханов свидетельствовал, что настроение съезда поднялось лишь при известии об аресте Временного правительства: «Масса чуть-чуть начинает входить во вкус переворота, а не только поддакивать вождям…» Конечно, люди неуверенные склонны доверяться людям действия. Но понимают ли они, куда ведут последние? Задним числом некоторые журналисты уверяли, что «у аудитории под влиянием ряда психологических переживаний создалось категорическое убеждение, граничившее с верой и охватившее ее на манер массового психоза, что она, аудитория эта, волей судеб явилась повелительницей всего мира, и повелевает ему мир и благоволение в человецех». Вероятно, так оно и было.
На съезде, с которого принято отсчитывать эру социализма в России, никаких собственно социалистических решений не было принято. Съезд просто дозволил крестьянам доделить землю в соответствии с их собственными наказами, собранными эсерами; солдатам стало ясно, что зимовать в окопах необязательно, а судьбы мировой революции их не волновали. Граждане получили подтверждение, что выборы в Учредительное собрание пройдут в срок, однако образ упорно запаздывающего «Хозяина Земли Русской» уже потускнел. Впрочем, известие о появлении нового правительства – Совета народных комиссаров – также не особенно впечатлило. Людям не нужны были ни демократия, ни социализм, ни тем более конфликтующие между собой народные избранники; им нужна была надежда на выживание.
Историческая символика не всегда совпадает с реалиями прошлого. Из двух знаменитых декретов съезда, вроде бы самолично написанных Лениным, один был воспроизведением собранных эсерами крестьянских наказов о земле, где говорилось о ее социализации, то есть о переходе под контроль крестьянских общин (которым вместе с тем предлагалось как-то ужиться с подворным землевладением). Текст Декрета о земле Ленин, по свидетельству Н. Н. Суханова, зачитал, «спотыкаясь и путаясь» в силу дефекта зрения (астигматизма) и, как видно, неразборчивости самим же написанного текста. Эпохальный документ не вызвал никаких прений, лишь один делегат был против (при восьми воздержавшихся); «масса рукоплескала, вставала с мест и бросала вверх шапки». Поняли просто: земля перейдет к крестьянам. Во времена общественной смуты поворотное значение может приобрести любой решительный, пусть чисто символический жест, о последствиях которого мало кто станет задумываться. Декрет о мире был не законодательным актом, а то ли призывом, то ли пожеланием превращения «войны империалистической в войну гражданскую» (мировую). То и другое могло быть истолковано массами по-своему, причем в разное время возникали особые инверсии. Так, во времена социалистического застоя декрет трактовали в пацифистском духе.
Возможно, самое поразительное, что делегаты съезда практически единогласно, простым поднятием рук, как на митинге, голосовали за все подряд. Джон Рид, которого стихия русской революции сделала коммунистом, в ставшей знаменитой книге «Десять дней, которые потрясли мир» писал, что, когда один из делегатов робко попытался поднять руку против Декрета о земле, «вокруг него раздался такой взрыв негодования, что он поспешно опустил руку». А один из крестьян в порыве стадного радикализма даже потребовал ареста «контрреволюционного» исполнительного комитета Крестьянского союза. Действовала «магия единодушия» – то ли психология толпы, то ли практика сельского схода. Голосовали скопом, причем вразрез с наказами избирателей. Как ни парадоксально, лишь 75% формальных сторонников Ленина, согласно наказам, должны были поддержать лозунг «Вся власть Советам!», 13% большевиков устраивал девиз «Вся власть демократии!», а 9% даже считали, что власть должна быть коалиционной9696
Второй Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов. М., Л., 1928. С. 107.
[Закрыть]. Теперь, в обстановке политической неразберихи, делегаты приободрились с появлением «людей дела».
При этом, вопреки позднейшим уверениям коммунистических пропагандистов, присутствовавшие вовсе не готовились к свержению буржуазного правительства – по крайней мере, не брались за это сами. Их волновали куда более прозаические – жизненно важные для них – вещи. Поэтому преобладала атмосфера неопределенности. События несколько подтолкнул демонстративный уход со съезда «соглашателей с буржуазией» – правых меньшевиков и эсеров. Дальнейший ход работы и решений съезда, как оказалось, целиком зависел от событий извне. Очень немногие деятели старой культуры смогли это понять. Среди них был Марк Алданов – один из немногих по-настоящему проницательных российских писателей. «Делегаты II Съезда Советов не понимали, „кто есть кто“, не знали, кто стреляет, готовы были бежать при известии о том, что Керенский возвращается с войсками», – писал он, и это походило на правду. Сам Ленин не случайно появился перед делегатами лишь тогда, когда стало ясно, что Зимний взят, а потому «он предстал в образе человека, который все предвидел».
Парадоксально, что, провозгласив на съезде победу «рабоче-крестьянской» революции, большевики практически ничего не пообещали пролетариям, во имя и от лица которых вроде бы одержали историческую победу. Некоторые члены партии недоумевали: «Есть два декрета, о мире – для солдат и о земле для крестьян, а для рабочих нет». Весьма символичный казус объяснялся тем, что в большевистских верхах не было единого взгляда на рабочий контроль, как не существовало и проработанной экономической программы в целом.
«Положение о рабочем контроле» было принято ВЦИК и Совнаркомом лишь 14 ноября, поскольку вопрос о том, каким должен быть рабочий контроль, долго обсуждался с представителями пролетарских организаций. Суть тогдашних дискуссий состояла в том, что императивы властного централизаторства требовали поворота от полусиндикалистского рабочего контроля к тому самому государственному контролю, за идею которого большевики совсем недавно критиковали меньшевиков. При этом представители рабочих организаций, по сути, отказывались от низовой инициативы в пользу государственной плановости. Напротив, Ленин склонялся к тому, что на данном этапе надо дать побольше прав рабочим и лишь постепенно переходить к централизованному социалистическому производству.
Неслучаен эпизод с появлением после Октября в Петроградской думе делегации путиловцев. «К черту Ленина и Чернова! Повесить их обоих… Мы говорим вам: положите конец разрухе. Иначе мы с вами рассчитаемся сами!» – заявил молодой рабочий. Массы ожидали от власти чуда, совершить которое она была просто обязана. На деле получалось нечто противоположное. «Обещали хлеба, обещали землю, обещали мира… ничего, видать не будет», – уныло сетовал один из пролетариев 27 ноября, признавая, что и новые власти «сдурили голову». Как известно, недовольство невыполненными обещаниями можно подавить новыми, еще более грандиозными планами. Так и случилось, ибо сила обманщиков – в предрасположенности неуверенных в себе людей к подмене реального воображаемым.
Очевидно, что с классовой сутью свершившегося переворота было что-то не так. Однако этого тогда не замечали. Вопреки реалиям, победителями были символические основания грандиозного «пролетарского» мифа, притяжение которого очень долго не могли преодолеть потомки.
Странности «общенародной поддержки» большевизма также не замечались десятилетиями. Это было связано с тем, что историки (не только большевистские) упорно вычерчивали ленинскую победу по лекалам «классов и партий», и без того слабые очертания которых терялись в хаосе революционных страстей. Впрочем, их заблуждениям предшествовал обман и самообман: большевистское руководство лишь прикрывалось принципом «власть Советов», как и идеей диктатуры пролетариата, для самоутверждения в качестве правящей, точнее – направляющей силы. Да и само государство было необходимо Ленину и Троцкому не столько как утверждение нового строя внутри страны, сколько как средство подталкивания мировой революции. «Либо русская революция приведет к движению в Европе, либо уцелевшие могущественные страны Запада раздавят нас», – заявил на съезде Троцкий. Ленин всерьез рассчитывал, что свержение старой власти послужит толчком к революционным взрывам в Европе. Позднее он искренне удивлялся, что большевикам удается продержаться у власти столь долго, ибо они всего лишь начали и ведут «войну против эксплуататоров».
В низах победу большевиков поняли по-своему. Через несколько недель подверглись разгрому подвалы Зимнего дворца – оплота старой власти. Газеты сообщали, что «разгром Зимнего дворца начался 24 ноября в 5 часов вечера. Солдаты и матросы двинулись со стороны Зимней канавки, смяли караул. Затем во дворец хлынули мальчишки и хулиганы. Выстрелы караульных не подействовали. На следующий день попытки остановить погром не увенчались успехом. «Вино стекало по каналам в Неву, пропитывая снег, пропойцы лакали прямо из канав», – живописал развитие событий Троцкий. Беспорядки прекратились только утром 25 ноября: к этому времени ближайшие потребности погромщиков были удовлетворены: «площадь Зимнего дворца была покрыта полумертвыми телами пьяных солдат». Часть из них разбрелась по городу с теми же погромными намерениями. Такое, впрочем, уже случалось многократно. В Петрограде на Галерной улице, у дворца великого князя Павла Александровича, где теперь помещался главный комитет эсеровской партии, по сообщению газеты, «громадная толпа, в которой преобладали солдаты и красногвардейцы», проникла в подвалы, где хранились запасы вин, и «началась вакханалия, подобная той, которая происходила в погребах Зимнего дворца». Грабеж продолжался до глубокой ночи, никаких мер к водворению порядка принято не было.
Дабы пресечь пьяные бесчинства, ВРК вынужден был пообещать ежедневно выдавать представителям воинских частей спиртное из расчета по две бутылки на солдата в день. «В казармах шел пир горой», – вспоминал очевидец. К подобным приемам прибегали и в провинции. Пролетарскую революцию уверенно подпирал разгул солдат и городской черни, сдержать который рабочие, если того и хотели, физически были не в состоянии.
В Петрограде 1 ноября наблюдали по-своему многозначительную картину. Пьяный шофер на большой скорости снес бронеавтомобилем перила моста и «следом нырнул в реку». Утонули все, кто сидел в машине. «Триумф революции» выглядел символично.
Вряд ли люди, оказавшиеся у власти, замечали это. А. Бенуа отмечал в Троцком готовность принести себя в жертву, чтобы «зажечь такой пожар, который… вынудил бы весь мир переустроиться по-новому». Так думали многие левые. 2 ноября 1917 года на заседании Петроградского комитета большевиков было произнесено буквально следующее: «Мы никогда не считались с тем, будем ли мы победителями или нас победят». Получалось, что у власти оказались потенциальные политические самоубийцы, а не люди, собирающиеся продуманно строить новое – социалистическое – общество. Впрочем, последнее и не предусматривалось марксистской теорией. Для начала большевикам приходилось расчищать социальное пространство, чтобы уверенней расположиться во власти.
Так или иначе, 25 октября Россия вступила в полосу длительной Гражданской войны. Попытка А. Ф. Керенского спасти ситуацию, организовав поход на столицу из Царского Села и Гатчины казаков генерала П. Н. Краснова, провалилась. Пытались помочь и представители союзников. Прибывший из Ставки французский генерал Г. Ниссель после обмена мнениями с Керенским и Красновым согласился, что положение безнадежно. При этом Краснов считал, что, будь на его стороне хотя бы батальон иностранных войск, «можно было бы заставить царскосельский и петроградский гарнизоны повиноваться правительству силой». Однако Ниссель ничего предложить не мог. В сущности, окончательно нейтрализовал казаков предводитель матросов П. Е. Дыбенко. Этот «громадного роста красавец мужчина… заразительно веселый» сумел очаровать «не только казаков, но и многих офицеров», предложив обменять… Ленина на Керенского. Подобный юмор понравился казакам. Преодолевать переговорные тупики пока помогала циничная шутка. Казаки сожалели, что Керенский бежал: они действительно готовы были выдать его большевикам. Впрочем, те с готовностью отпустили казаков на Дон: стороны предпочли мирно разойтись. Однако газеты продолжали пугать известиями о масштабных сражениях в Царском Селе: были якобы убиты от тысячи до полутора тысяч солдат и казаков, не считая мирных жителей. Картину дополняли страшные подробности о творимых расправах.
1 ноября 1917 года Керенский в Гатчине письменно заявил о сложении звания министра-председателя.
Растущее ожесточение Гражданской войны сказалось через несколько дней в Москве, первопрестольной столице развалившейся империи. Оказалось, что упрямое миротворчество лидеров противоборствующих сторон лишь провоцирует взаимную озлобленность. Попытки договориться не отвечали настроениям ни красногвардейцев, солдат и военнопленных-«интернационалистов», с одной стороны, ни юнкеров и гимназистов – с другой. Благодаря усилиям командующего Московским военным округом К. И. Рябцева, с одной стороны, и позиции «мягких» большевиков, возглавляемых В. П. Ногиным и А. И. Рыковым – с другой, возможности мирного развития событий сохранялись до утра 28 октября. Однако произошла трагическая случайность. В Кремле юнкера пытались разоружить солдат. Далее очевидец вспоминал: «Пленные большевики… уже сложившие в кучи свои ружья, вздумали вдруг наступать толпою к пулеметчикам-юнкерам; те предупредили их остановиться, но безрезультатно. Тогда юнкера пустили в ход пулемет…» Скорее всего, у юнкеров просто не выдержали нервы. Вслед за тем еще не разоруженные солдаты, решив, что им на подмогу прибыли броневики, открыли огонь по юнкерам. Результат – около 50 убитых и раненых. Вслед за тем в городе в пределах всего Садового кольца началась ожесточенная перестрелка с использованием минометов и артиллерийских орудий. Противоборствующие стороны не выдержали неопределенности, созданной их же руководителями. Военные действия шли с переменным успехом. Постепенно инициатива перешла к получившим подмогу большевикам, начавшим наступление на противника утром 29 октября. В ходе боев большевики обстреляли из тяжелых орудий Кремль. Это вызвало приступ эстетической паники среди художественной интеллигенции. Обстрел Кремля связывали с провокациями футуристов. Но публично одобрили стрельбу по кремлевским храмам лишь В. Маяковский и Д. Бурлюк.
Пролетарские поэты восприняли произошедшее проще. Поэт П. Орешин, принимавший участие в московских боях, описал ситуацию в разухабистых стихах:
Храм ли Божий тут, тюрьма ли, —
Пушки разве разбирали!
Эх, качнулся неспроста
Храм спасителя Христа.
Судьба православной культуры «истинных» революционеров волновала меньше всего.
4 ноября в Москве большевистский листок вышел под шапкой: «Да здравствует Великая Российская Революция!» Сообщалось, что победа «одержана по всей линии», «контрреволюционные заговорщики из „комитета безопасности“ с Рудневым и Рябцевым во главе сдались, признав свое бессилие в борьбе с революционной армией», «юнкера и буржуазное студенчество („белогвардейцы“) сдают свое оружие». Свою победу большевики объясняли так:
С самого начала нашу революцию назвали «великой». Но до последних дней, до конца октября она ничего не сделала, чтобы оправдать это почетное название… Первые шаги революционной власти ясно показывают, что отныне революция наша вступает на новый путь…
Убитых в московских боях хоронили раздельно: большевиков – у Кремлевской стены под революционные гимны, торжественно и с «каким-то мстительным настроением»; юнкеров, студентов, сестер милосердия отпевали в храме Большого Вознесения у Никитских ворот (там, где 8 месяцев назад провожали жертв Февральской революции) и затем похоронили на Братском кладбище.
Позднее А. Н. Вертинский воспел их «светлые подвиги», совершенные в «бездарной стране» ради какого-то неведомого и недостижимого идеала. На вопрос: «За что они погибли?» были бессильны ответить и социалистические политики всех мастей. 5 ноября «Известия», фактически превратившиеся в большевистский официоз, писали:
Никогда еще не было такого бесшабашного извращения слов и понятий, пользующихся популярностью в народных массах, как теперь, со времени Октябрьской революции. Словами «революционер», «социалист», «демократ» так и пестрят столбцы газет, ведущих непримиримую, злобную борьбу с Советской властью.
Автор статьи был неправ: «бесшабашное извращение слов и понятий» началось в феврале – марте 1917 года. Именно тогда знаки и символы европейской политической культуры начали свою безудержную и бессмысленную пляску под музыку российских эмоций. Тем самым некое подобие коммуникативного разума, навязываемого прежней «отеческой» системой, была разрушено: теперь у каждого была своя истина в собственном кармане. Результат был налицо: революционеры воевали с революционерами во имя тотального освобождения от былой безнадежности. В низах каждый также находил своего врага. А потому победу мог одержать лишь тот, кто готов был во имя своей личной правды, раздувшейся до «классовой справедливости», готов был уничтожить всех чужих. К решению этой задачи лучше других были подготовлены большевики, готовые, помимо прочего, оседлать стихию русского бунта.
Готовность разрушить до основания старый мир по-своему проявила себя и в крестьянской среде. Случалось, что сожжение барских усадеб превращалось в настоящий праздник, сопровождаемый искренним весельем. Радовались женщины и дети. Пожарных со смехом отгоняли. Представители старой культуры воспринимали происходящее как разгул бесовщины. 27 февраля 1918 года газета «Знамя Христа» сообщала:
Жизнь ткет кошмарные узоры. В одном месте из храма выносят престол и вокруг него под звуки гармоники устраивают пьяный пляс. В другом месте на грабежи ходят в священнических рясах, в третьем, наконец, сжигают иконостас, престол, облачения, и из алтаря устраивают непотребное место.
М. Горький пытался найти этому историческое объяснение. Пролетарский писатель уверял, что «мы, Русь – анархисты по натуре, мы жестокое зверье, в наших жилах все еще течет темная и злая рабья кровь – ядовитое наследие татарского и крепостного ига…». В «самокритичных» объяснениях не было недостатка. Ю. Мартов отказывался признавать за революцией пролетарское содержание. Он писал в Швейцарию: «Над всем тяготеет ощущение чрезвычайной „временности“ всего, что совершается. Такое у всех чувство, что все это революционное великолепие – на песке, что не сегодня-завтра что-то новое будет в России – то ли поворот крутой назад, то ли красный террор каких-нибудь полков, считающих себя большевистскими, но на деле настроенных пугачевски». Бунин вспоминал о «воровском шатании», столь «излюбленном Русью с незапамятных времен, в охоте к разбойничьей, вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч отбившихся, отвыкших от дому, от работы, и всячески развращенных людей». Казалось, проснулась та самая необузданная Русь диких степей, которую в течение столетий безуспешно пыталось укротить государство. Между тем «отеческая» власть не могла рано или поздно не спровоцировать «детской» разнузданности.
Некоторые интеллигентные противники большевиков, казалось, готовили почву для отступления перед неизбежным. 6 ноября в «Утре России» Н. В. Устрялов (будущий колчаковский пропагандист) утверждал, что сила большевистских демагогов «призрачная». Из этого делался вывод, что нынешняя революция – «не политическая, не буржуазная, не социалистическая», а «биологическая». Он был отчасти прав: историки до сих пор не могут понять, как Великая российская революция зародилась вовсе не там, где ее ожидали ученые мужи. Она выросла в глубинах народной души из нежелания терпеть то безнадежное состояние, в котором ее десятилетиями, если не столетиями, удерживала «отеческая» власть. Отсюда те «непонятные» дикие эмоции, которые сотрясали Россию в 1917 году.
Некоторых победа большевизма словно завораживала. «Жестокость страшна, но в ней есть сила и обещание», – так комментировал это Л. Андреев. В ноябре 1917 года ряд антибольшевистских газет опубликовал «открытое письмо» студента Л. Резцова с характерным подзаголовком – «Вопль отчаяния». Автор заявлял следующее:
Месяца два тому назад я записался в студенческую фракцию партии народной свободы… Во время октябрьско-ноябрьских событий (боев в Москве. – В. Б.) я всей душой стоял на стороне белой гвардии… Теперь… я, будучи принципиальным противником большевизма, выписываюсь из партии народной свободы… Россия в тупике, и единственный выход… – в большевизме.
В доказательство правильности своей позиции автор приводил запущенное еще в дореволюционные времена В. А. Маклаковым сравнение дурной власти с мчащимся под гору лишенным тормозов автомобилем: стоит ли в связи с этим рвать руль из рук неумелого шофера?
Писатель В. Г. Короленко жестко прокомментировал заявление юного экс-кадета: «Наша психология – …это организм без костяка, мягкотелый и неустойчивый». По этой причине интеллигенция тянется к «успеху». Он констатировал:
Толстовец у нас слишком легко становится певцом максимализма, кадет – большевиком. Он признает, что идея – лжива, а образ действия бесчестен. Но из практических соображений он не считает «грехом» служить торжествующей лжи и бесчестию, потому что «большинство», способное защищать свои идеи «штыком и пулеметом», на стороне большевиков.
Так по интеллигентским меркам оценивалась политическая ситуация вскоре после большевистского переворота. От этого было не столь далеко до смирения перед торжеством голой силы. Так происходит во всех великих революциях. Когда прежние символы обвалились и идолы рухнули, а боги утратили свою духовную мощь, приходится поклоняться голой силе.
Через двадцать лет, в эмиграции, Г. Иванов утверждал, что все это было заложено в генетическом коде российской общественности. Событиями двигало «русское, колеблющееся, зыблющееся, музыкальное, онанирующее сознание», «вечно кружащееся вокруг невозможного, как мошкара вокруг свечки». Именно этот психоэмоциональный настрой, своего рода болезненный снобизм, был «неисчерпаемым источником превосходства, слабости, гениальных неудач». Из этого состоит «и наше прошлое, и наше будущее, и наша теперешняя покаянная тоска»9797
Иванов Г. Распад атома. Париж, 1938. С. 12.
[Закрыть].
Разумеется, из мнения поэта не стоит выстраивать исторические обобщения. Отнюдь не русская интеллигенция стала виновником революции, как до сих пор готовы утверждать многие. Но именно она и подготовила почву и для ее оправдания, и для ее же последующего оплевывания. Однако сама она была производным от того «отеческого» произвола, с помощью которого тупо поддерживало свое существование российское самодержавие.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































