Текст книги "Злоречие. Иллюстрированная история"
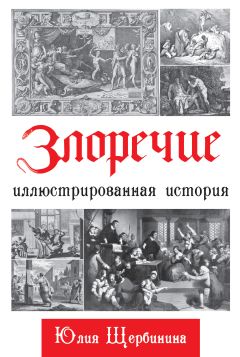
Автор книги: Юлия Щербинина
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Обреченные слушать
Сплетни и слухи – низовая стихия речи, «подвал» коммуникации. Пробраться в него порой бывает не так-то просто. Часто сплетничают о тайном, сокровенном, не предназначенном для посторонних ушей. Приходится подглядывать и подслушивать, что во все времена было любимейшим людским занятием.
Святитель Феофан Затворник упоминает его в контексте злоречия в толковании второго послания апостола Павла к солунянам: «Это глазеры, говоруны, спорники. Шатаясь по площадям, торжищам, улицам и домам, все разведывают, и не диво, что и нарочно подсматривают, вступают в споры, откуда задоры, распри, брани и все нестроения в обществах».
Подслушивание – неотъемлемая составляющая производства сплетен. Добывание информации в сопряжении с риском становится увлекательным приключением, злоречие превращается в квест. Подслушивание – авантюрная игра в «шпиона», «лазутчика», «разведчика». И уже в этих военных метафорах скрыта пружина враждебности. Вожделенный объект подслушивания предстает в образе врага, которого надо уличить и разоблачить. В речевом плане – осудить, осмеять, опорочить.

Николас Мас «Подслушивающая», 1657, холст, масло
На сплетничество тонко намекает интерьерный декор. Статуи, безмолвно наблюдающие за людьми. Лепные купидоны, лукаво глазеющие на происходящее в комнатах. Не говоря уже о самих сценках подслушивания, столь популярных в изобразительном искусстве. Голландский живописец Николас Мас создал целую галерею подслушивающих служанок и жанровых вариаций на тему сплетен. Простодушно сметливые героини Маса обаятельно женственны. Реальные «слухачи» часто куда менее приятны.
Издревле известно немало хитроумных подслушивающих приспособлений, способов засекречивания информации и оригинальных защит от ее утечки и перехвата. Вспомнить хотя бы древнегреческие шифровальные палки-скиталы, славянские оборонительные сооружения с тайными комнатами-«слухами» или прославленные eavedrops – деревянные резные фигуры во дворце Генриха VIII. Встроенные в нависающие края потолочных балок, они служили предупреждением для сплетников и буквальным воплощением поговорки «у стен есть уши». Само же название происходит от древнеанглийского слова, которое дома, куда капает дождевая вода с изначально означало место вокруг крыши, а затем стало образным названием любопытствующих, что прятались под карнизами и подслушивали разговоры домочадцев.
Вспомним также «Хронику бычьего глаза», или «Хронику круглого окна», название которой отсылает к помещению перед опочивальней Людовика XIV в Версале, где имелось круглое отверстие в стене, позволявшее незаметно подсматривать за происходящим. Затем словосочетание бычий глаз (фр. I’oeil-de-boeuf) стало идиомой со значением «подглядывание за жизнью короля».
Сбор сплетен посредством подглядывания был не чужд и представителям знати, и даже самим государям. В мемуарах Екатерины II описана забава ее супруга Петра III, который любопытства ради проделал дырочку в комнату, где в узком кругу обедали придворные. Для компании Петр созывал фрейлин и заставлял залезать на стулья для совместного наслаждения тайным спектаклем. Да что там! Всякая уважающая себя кумушка-сплетница владела простейшим народным приемом подслушивания: приставить к стене стакан. А наиболее сметливые умели читать по губам.

Теодорос Раллис «Подслушивание», 1880, холст, масло

Реми Когге «Мадам принимает гостей», 1908, холст, масло

Генри Адольф Лайссемент «Кардиналы подслушивают в Ватикане», 1895, холст, масло
Желудь на веревке
В печатную эпоху сплетни и слухи неотделимы от понятия газетная утка — обиходного названия газетной мистификации, выдуманного сенсационного слуха, непроверенной или преднамеренно ложной информации, опубликованной СМИ. Одной из самых известных считается утка, выпущенная в 1835 году нью-йоркской газетой «Sun» в виде серии очерков об открытии жизни на Луне. Другой памятный пример – напечатанное в 1899 году всеми газетами Денвера сообщение о сносе Великой китайской стены и строительстве вместо нее автомобильной дороги.
Само выражение «газетная утка» овеяно множеством легенд. По одной версии, оно связано с публикацией одного из бельгийских журналов о невероятной прожорливости уток – с целью доказать легковерность публики. Согласно другой гипотезе, это выражение отсылает к статье об экзотическом способе ловли диких уток, опубликованной еще в XVII веке французской «Земледельческой газетой». Дескать, отправляться на охоту надобно с отваренным в слабительном зелье и привязанным к веревке желудем – утка его проглотит и, мучимая желудочным расстройством, сделается легкой добычей. Третья гипотеза связана с фонетическим созвучием профессионального сокращения «N.T.», которым помечались статьи без достоверных источников (лат. non testatum, англ. not testified), с немецким словом «Ente» (утка). Еще одна этимологическая версия предложена братьями Гримм: якобы Мартин Лютер использовал метафору «голубых уток» для описания заблуждений и утраты веры.
Откуда бы ни прилетела газетная утка, она свила себе уютное гнездышко на страницах газет для массовой аудитории. Уже к концу XVIII столетия прессу наводнили баснословные россказни и завиральные истории. В последней трети XIX века формируется понятие желтая пресса – печатные периодические издания, специализирующиеся на сенсациях, скандалах, слухах, сплетнях. Происхождение названия также имеет несколько версий: от цвета газет, печатавшихся на желтоватой дешевой бумаге; от конфликта двух американских газет из-за комикса «Желтый малыш».
Основные приемы подачи информации в желтой прессе – шок, эпатаж и секретность, зачастую мнимая и просто разжигающая читательский ажиотаж. Такие материалы получили название human-interest stories – то есть нацеленные больше на эмоциональный интерес и развлечение, чем на передачу новостей и освещение событий. Фокус внимания смещается с факта на его подачу – отбор словесных средств, стилистическое оформление. В сущности, те же «желуди» разной степени съедобности на «веревке» разной длины.
Интригующие заголовки, двусмысленные полунамеки, элементы комикса в газете – для позапрошлого столетия это были новые способы конкурентной борьбы за читателя, которые начали успешно использоваться такими медиамагнатами, как Уильям Херст («The San Francisco Examiner», «New York Journal») и Джозеф Пулитцер («The New York World»). Тиражи быстро расходились, бизнес расширялся, а ученые черпали материал для исследования коллективных иллюзий, массовых фобий, национальных комплексов, цепко схваченных желтой прессой.

Одна из обложек журнала «The Tatler»
С 1709 года Ричардом Стилом – ирландским политиком, родоначальником газетного эссе, «отцом» светской сплетни как жанра – выпускался журнал «The Tatler» (англ. «болтун»). Под псевдонимом «Айзек Бикерстэф, эсквайр» Стил трижды в неделю печатал сплетни, самолично подслушанные в лондонских кафе. Затем нанял помощников-репортеров, один из которых поставлял слухи литературного мира из кофейни Уила, другой собирал новости «о нравах» в кофейне Уайта, третий добывал байки о жизни антикваров в Греческой кофейне.
В 1901 году журнал снова начал выходить в Великобритании, а с 2008-го – в России. Сейчас его выпускает издательство «Conde Nast». Основная тематика – светская жизнь, гламурные новости, слухи из высшего общества.
Процесс появления таких изданий в Российской империи заметно отличался от западного, что объясняется вполне объективными обстоятельствами. Среди российского населения в целом была ниже грамотность, а доступные грамотным людям печатные тексты цензурировались жестче, чем в Европе. В материалах периодических изданий второй половины XIX века, вроде «Петербургского листка» или «Московского листка», уже предпринимались попытки беллетризации событий, глянцевания действительности, вольности изложения фактов для привлечения читателей. С 1908 по 1917 год выходила «Газета-копейка», содержание и адресация которой условно позволяют считать ее желтой. А первые настоящие издания такого рода наплодятся у нас только в 1990-е: «СПИД-Инфо», «Мегаполис-экспресс», «Экспресс-газета»…
Мятежный шепот
Огромная протяженность нашей страны максимально сближала сплетни со слухами. Порой они вовсе не различались, да никто и не утруждал себя их разграничением. При этом в России, возможно, как нигде более причудливой была молва о представителях власти. Скажем, в годы царствования Бориса Годунова носились зловещие слухи о царе-убийце, которые усилились с появлением самозванца и, как писал Пушкин, «посеяли тревогу и сомненье, на площадях мятежный бродит шепот».
Проходит время, и в записях политического сыска 1723 года фиксируются следующие рассуждения тобольского крестьянина Якова Солнышкова: «Роды царские пошли неистовые, царевна Софья Алексеевна, которая царствовала, была блудница и жила блудно с бояры, да и другая царевна, сестра ее жила блудно. <…> И государь царь Петр Алексеевич такой же блудник, сжился с блудницею, с простою шведкою, блудным грехом.»
Затем уже шептались, будто царь Петр – подкидыш, лже-сын Натальи Кирилловны. Судачили о неблагородном происхождении Екатерины I («не прямая царица – наложница») и Петра II («до закона прижитый сын некрещеной девки»). Из уст в уста передавали, что настоящий отец Анны Иоанновны – простой учитель-немец, потому она «Анютка-поганка». Распространяли кривотолки о Елизавете Петровне («прижита до закона», «не природная и незаконная государыня») и о цесаревиче Павле Петровиче («выблядок»). С особым смаком сплетничали об интимной жизни Елизаветы Петровны («Сначала ее князь Иван Долгорукой погреб, а потом Алексей Шубин, а ныне-де Алексей Григорьевич Разумовский гребет.») и ее тайных отпрысках (известная легенда о Таракановых).
Власти как могли боролись с «враками». Так, в 1772 году среди арестованных по делу самозванца Федота Богомолова, выдававшего себя за Петра III, оказалась солдатская жонка Авдотья Васильева. Сплетница всего лишь «непристойные плодила разговоры» о самозванце – и вместо положенного судом кнута милосердием государыни Екатерины было велено «учинить ей публичное, с барабанным боем, жестокое плетьми наказание и сверх того, подрезав платье, яко нетерпимую в обществе, через профосов выгнать за город метлами».
Боролись со слухотворчеством даже с помощью официальных актов. Здесь можно упомянуть специальный указ Сената, инициированный паническим слухом 1721 года о разрушении Петербурга наводнением. Слух стремительно распространялся, народ всколыхнулся, запахло бунтом – и перепуганный Сенат поспешил известить о том, что в столице «произошла молва в людех, будто явились некоторые глупые пророки, с тем якобы, будет вода чрезвычайно велика, что сущей есть фальшь, чему не надлежит верить».
Затем был екатерининский «Манифест о молчании», или «Указ о неболтании лишнего», грозивший преследованием людям «развращенных нравов и мыслей», что суют свои носы в «дела, до них непринадлежащих». Манифест неоднократно оглашался народу, а его ослушники упорно преследовались.
Досужая болтовня и особенно «враки» – как тогда именовались злые сплетни – были предметом самого пристального внимания Тайной канцелярии, а затем Тайной экспедиции. Случалось, один человек обвинялся сразу в трех преступлениях под общим определением «непристойные слова»: клевете, оскорблении и распускании сплетен. Наиболее сурово наказывали распространителей слухов о «неприличном», «низком» происхождении правителей.
Ходили также особые «слухи о слухах» – в частности, о наказаниях за их распространение. Так, шептались про воспитательное кресло в кабинете обер-секретаря Тайной экспедиции Степана Шешковского: с виду вроде бы обыкновенное, но с потайным механизмом, который – едва стоило сесть – заковывал человека намертво. Затем сиденье ныряло под пол, оставляя на поверхности только плечи и голову скованного. Нижнюю часть туловища оголяли и секли, а несчастной голове суровый обер-секретарь растолковывал правила поведения в обществе.
Да, при Шешковском бичевали не токмо кнутом, но и словом. По окончании экзекуции тело быстренько одевали и возвращали наверх в том же кресле – и все шито-крыто, никакой огласки. Такому наказанию, опять же по слухам, подвергались даже аристократические особы. Например, слишком болтливая генеральша Марья Кожина, которая «по нескромности открылась в городской молве, что Петр Яковлевич Мордвинов попадет при дворе в силу».
«Мятежный шепот» не утихал и в XIX столетии, но следственные протоколы и официальные отчеты содержали уже не только констатации, но и размышления о природе слухов. Московский генерал-губернатор, князь Голицын писал по поводу восстания декабристов: «В обширных городах всегда более находится, нежели в других местах, праздных людей, которые, о чем-либо услышав, при рассказах о том же другим всегда умножат слышанное и еще делают свои заключения, то таким образом слухи, распространяясь и увеличиваясь, служат только на несколько дней всеобщим разговором и потом скоро совершенно исчезают, давая место другим. Искоренить сие ни в каком государстве нельзя…»
Помимо политических событий и светских новостей, обильную пищу для пересудов в аристократических кругах давала общественная деятельность: посещение дворянских собраний, участие в судебных процедурах и даже благотворительность. Участвуя в благотворительности, вальяжный барин или изнеженная барыня иной раз попадали в непривычную, а для кого-то и вовсе экзотическую обстановку, получая яркий опыт, аналогичный участию нынешних «селебритиз» в экстремальных шоу «на выживание». Из бедных крестьянских домов, земских больниц, убогих ночлежек и приютов господа выносили массу незабываемых впечатлений, которыми охотно делились с гостями на светских раутах, самодовольно хвастались при случае ревнивым соперникам и восторженным воздыхателям.
Колоритный образ завзятой сплетницы, «старушенции в костюме дамы благотворительницы» находим у Чехова в рассказе «Ряженые»: «Благотворительность она любит, ибо нигде нельзя так много с таким вкусом судачить, перебирать косточки ближних, дьяволить и вылезать сухой из воды, как на почве благотворительности». Конкурировать с подобными россказнями могли разве что истории о военных подвигах, рыболовных приключениях и любовных интригах.

Владимир Маковский «Посещение бедных», 1874, холст, масло
«Литература изустная»
Примерно с первой трети XIX века молва становится предметом научного исследования. «Положенные на бумагу слухи и вести получают значение исторического документа. Сплетни, сказки и не-сплетни и не-сказки, которые распускались и распускаются в Москве на улицах и в домах, у нас литература изустная. Стенографам и должно собирать ее», – читаем у Петра Вяземского в «Старой записной книжке» (1825).
Журналисты тоже рано оценили социальную значимость сплетен и слухов, хозяйственно приспособив их для фиксации общественных мнений. Николай Добролюбов еще в студенчестве выпускал рукописную газету «Слухи», справедливо полагая, что они есть «сама жизнь с ее волнениями, страданиями, разочарованиями, обманами, страстями». И хотя вышло не более двадцати номеров, ни в каких иных периодических изданиях того времени мы не прочитаем, что «Павел Петрович задушен и что Клейнмихель мошенник».
Начиная с пушкинской поры, изящная словесность бесперебойно поставляет героев-сплетников: Загорецкий и Репетилов в «Горе от ума», Зарецкий в «Евгении Онегине», Бобчинский и Добчинский в «Ревизоре», дамы «просто приятная» и «приятная во всех отношениях» в «Мертвых душах», г-жа Хохлакова в «Братьях Карамазовых», целая галерея колоритных персонажей в романах Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы», «Дикое счастье», «На горах»…

Оноре Домье «Криспен и Скапен», 1858–1860, холст, масло
Если публицистика представляла сплетни как фиксации массовых настроений, то беллетристика использовала их в качестве сюжетов. В произведениях XVIII – начала XIX века выведены собирательные образы сплетников с «говорящими» именами: Криспен и Скапен в комедии Скаррона «Саламанкский школяр, или Великодушные враги»; Вестина, Свахина, Вздоркина в комедии Хмельницкого «Говорун»; Змейкин в комедии Писарева «Лукавин»; Набатова в комедии Ростопчина «Вести, или Убитый живой»…
Разнообразно варьируя мотив сплетничества и слухотворчества, литературная классика наглядно демонстрирует всю их пагубность. Осиливший хотя бы школьную программу читатель должен был убедиться в том, что пересуды способствуют лжи и обману, вводят в заблуждение и ввергают в ужас, ссорят закадычных друзей и любящих родственников, пробуждают низкие чувства и толкают на подлые поступки.
Сплетни способны выставить благородного человека глупым и жалким (случай Чацкого), сделать заложником чужих мнений (ситуация Онегина), превратить в изгоя-одиночку (трагедия «Гамлета Щигровского уезда»). Слухи могут дискредитировать целое семейство (лживые газетные россказни о деле братьев Карамазовых), а то и вовсе довести до сумасшествия (казус Передонова из «Мелкого беса») или даже самоубийства (рассказ Лескова «Административная грация»). Бесчестного же человека, напротив, наделить хотя бы на недолгое время положительными свойствами (Хлестаков, Чичиков).
Салтыков-Щедрин блистательно показал не только тлетворность сплетен, но и спекулятивную их сущность: «Какое дело кабаньей жене, что поросенков брат третьего дня с свиньиной племянницей через плетень нюхался? Ан дело, потому что кабанья жена до исступления чувств этим взволнована, потому что кабанья жена дала себе слово неустанно искоренять поросячью безнравственность и выводить на свежую воду тайные поросячьи амуры».
Особый литературный сюжет – использование сплетен в матримониальных делах: сводничестве, сватовстве, свадьбе или, напротив, расстройстве помолвки, разрушении брака. Вспомнить хотя бы ту же «Школу злословия» Шеридана. Из русской классики приведем не самую известную, но прелюбопытную историю Владимира Даля «Вакх Сидоров Чайкин», где «страшная сплетня» о главном герое соединяется с клеветой, оскорблением, проклятием, а мотивы ее расписаны буквально по пунктам.
…Рассказывали обо мне ужасные и беспримерные злодеяния, ухищрения, происки, черные поступки всех родов, вследствие-де коих мне и было вдруг отказано не только от бывшей невесты моей, но и от дому Калюжиных; предостерегали весь город не знаться и не водиться с таким неблагодарным злодеем. Наглая сплетня о сватовстве моем изобретена и распущена была первоначально самою Анной Мироновной, с тем: 1-е – чтобы в городе заговорили о новом женихе в семействе Калюжиных – мера, признанная издавна полезною и потому повторяемая у Калюжиных, как во время оно чистительные средства около первого числа каждого месяца; 2-е – чтобы понудить других женихов приступить порешительнее к делу; 3-е, наконец, – чтобы приготовить себе на всякий случай убежище.
Менее известен широкому читателю эталон злоречивого сплетника – Психачев из романа Константина Вагинова «Труды и дни Свистонова» (1929). Герой бесстыдно называет себя «собирателем гадостей» и, небрежно оглядывая гостей, запросто предлагает хозяину дома: «Хотите, я про них всех расскажу вонючие случаи?» Прототипом Психачева был журналист, поэт, издатель Петр Сторицын (Коган), о котором, как уверяли современники, написал также Маяковский в стихотворении «Сплетник»: «Фарширован сплетен кормом, он вприпрыжку, как коза, к первым вспомненным знакомым мчится новость рассказать».
Особо интересны произведения, раскрывающие коммуникативные механизмы сплетничества. Помимо знаменитой чеховской миниатюры «Брожение умов», можно вспомнить рассказ Аркадия Аверченко «Сплетня». Обыватель Аквинский становится невольным свидетелем купания супруги господина Тарасова и имеет неосторожность поведать об этом коллеге Ниткину. Тот в свою очередь разбалтывает канцеляристам, уснащая домыслами. Затем некий Нибелунгов слышит пикантную новость и делится с экспедитором Портупеевым – экспедитор передает жене – та рассказывает горничной Тарасовых. Кому приносит весть горничная? Правильно, самому господину Тарасову!
В отличие от писателей, русские художники были явно снисходительнее к сплетникам, вольно или невольно заражались их азартом, любовались их кокетством. В живописных сценах сплетничества мы не увидим гротескных фигур и разоблачительных сюжетов. Изображения по большей части камерные, от них веет домашним уютом и добрым юмором. Здесь сплетня – неотъемлемый элемент обыденности, виньетка на общем полотне человеческих нравов. И далеко не самый большой порок, взяточничество посерьезнее (картина Маковского «Секрет»).
Интересно сравнить два портрета выдающихся русских художников. Очевидно, и Тропинин, и Перов замыслили узнаваемый женский типаж. И обоим это блистательно удалось. Однако тропининский неоконченный этюд представляет хитренькую и одновременно наивную тетушку, что кокетливо скосила взгляд на зрителя и призывной полуулыбкой словно приглашает присоединиться к обсуждению любопытной новости. Иная сплетница у Перова: с горящим взглядом, всецело увлеченная услышанным и явно спешащая поведать об этом всему свету.

Василий Тропинин «Сплетница», рубеж 1820–1830, холст, масло

Василий Перов «Сплетница», 1875, холст, масло

Владимир Маковский «Тет-а-тет», 1909, холст, масло

Владимир Маковский «Секрет», 1884, дерево, масло
В русской живописи мы почти не обнаруживаем сцен подглядывания-подслушивания, но это и неудивительно. В европейских странах не было крепостничества, и слуги, обладая большей свободой перемещения в пространстве дома, имели больше возможностей наблюдать за господами, узнавать новости, вынюхивать секреты.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































