Читать книгу "Злоречие. Иллюстрированная история"
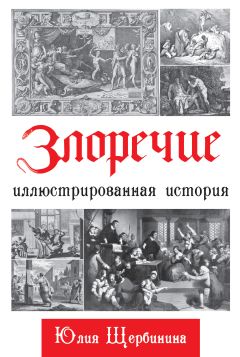
Автор книги: Юлия Щербинина
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Лаял ли кому?»
На Руси понятие оскорбления долгое время не фиксировалось в юридических документах и понималось предельно широко: как нанесение обиды.
«Русская Правда» Ярослава Мудрого относила к оскорблениям только физические действия. В Уставе Владимира Мономаха уже упомянуты словесные оскорбления, но столь же обобщенно – как непристойные позорящие высказывания. Размер штрафа определялся социальным положением оскорбленного. Однако, по верному замечанию Василия Ключевского, «установление ответственности за оскорбление словом было первым опытом пробуждения в крещеном язычнике чувства уважения к нравственному достоинству личности человека».

Иван Билибин, илл. к «Песне о купце Калашникове» М.Ю. Лермонтова, 1938, бумага, тушь
За оскорбление боярской жены взыскивали пять гривен или более двух килограммов золота. Оскорбление крестьянки оценивалось в одну гривну серебра. Плюс столько же в каждом случае причиталось епископу. При этом защищалась не столько честь самой женщины, сколько честь ее мужа.
В письменных памятниках допетровской Руси оскорбления обобщенно именовались лаем, бесчестьем, непригожими (позорными, неистовыми) словами, неподобной бранью.
Как отдельный вид правонарушения словесное оскорбление впервые зафиксировано в «Судебнике» 1552 года: …Чтоб православнии христиане <…> матерны бы не лаялись, и отцем и матерью скверными речми друг друга не упрекали, и всякими неподобными речми скверными друг друга не укоряли.
Соборным уложением 1649 года оскорбление толкуется как словесный выпад против чести всякого человека вплоть до государя. Отдельная статья была посвящена видам словесного оскорбления: морального характера (вроде «злодей»), юридического порядка (например, «разоренье мне от тебя»), родовой чести (указание на неблагородное происхождение). Оскорблением считалось также ненадлежащее обозначение лица (именование уменьшительным титулом, именование мужчины «жонкою» и т. п.).
При этом оскорбление по-прежнему оставалось в жесткой зависимости от чинов и званий. За оскорбление повара или конюха – рубль, патриарха – до четырехсот рублей. Церковное наказание за брань – до сорока дней поста. Бесчестье высокого лица могло повлечь также телесные наказания и тюремное заключение. Еще практиковался позорный обряд «отсылки головою» виновного к обиженному. Ключевский описал его в «Истории сословий в России».
Приставы вели под руки обидчика на двор к обиженному боярину и ставили его внизу крыльца, на которое вызывали из дома и обиженного. Дьяк произносил последнему речь, говоря, что государь указал и бояре приговорили за его боярское бесчестье отвесть обидчика к нему головою. Обиженный благодарил за царскую милость, а обидчика позволял отпустить домой. На пути к обиженному, как и стоя на дворе у него, обидчик пользовался правом безнаказанно «лаять и бесчестить всякою бранью обиженного», который «за те злые лайчивые слова» ничего не смел сделать с обидчиком под опасением усиленной кары.
Здесь просматривается неявный, но значимый парадокс: одно оскорбление «отменяется» другим, образуя очередной замкнутый круг злоречия. При этом ни обыденная мораль, ни церковная риторика не противоречат юридической практике. «Аще ли кто злословит или оскорбляет родителя своя, или клянет, или лает, сий пред Богом грешен, от народа проклят…» – предостерегал «Домострой».
Очень показательно, что, помимо оскорблений, в «Домострое» перечислены едва ли не все проявления злоязычия, которых следовало избегать в семейном общении: «.не солгати, не оклеветати, не завидети, не обидети чужого, не претися всуе, не осуждати… не просмеивати, не помнити зла, не гневатится ни на кого.»
В исповедных вопросниках с середины XV века встречается вопрос: «Лаял ли кому?» – то есть ругался ли с кем-нибудь. Причем осуждалось оскорбление не только высших и равных по статусу, но также челяди и иноверцев. Запрещалось злословить не только людей, но и скот, неодушевленные предметы, даже погоду, ибо все это тоже от Бога. В исповедях встречались вопросы вроде: «На ветр, и на мороз, и на снег, и на дождь, и на образ Божий слово наговаривал еси?»

Павел Плешанов «Царь Иоанн Грозный и иерей Сильвестр во время большого московского пожара 24 июня 1547 года», 1856, холст, масло
Исстари грубость речи вообще и оскорбление в частности оправдывались разве что высшими соображениями. Так, во время московского пожара и народного восстания иерей Сильвестр произнес гневную речь в адрес семнадцатилетнего Ивана IV: обличал его «буйство», обвинял в пожарище, называл сгоревшую столицу наказанием за грехи. Андрей Курбский писал, что Сильвестр явился к царю «претяще ему от Бога священными писанми и срозе заклинающе его страшным Божиим именем». Использовал «кусательные словесы нападающие и порицающие», дабы крепкой уздой удерживать «невоздержание, и преизлишнюю похоть, и ярость». Однако «кусательные словесы» были восприняты благосклонно и послужили сближению Иоанна с Сильвестром, который затем был его духовником до опалы 1560 года.
Архиплуты-протобестии
Одним из самых древних образчиков древнерусских оскорблений считается новгородская берестяная грамота начала XIII столетия. Некая Анна жалуется брату на некоего Коснятина, который обозвал ее курвой, а дочь Анны – блядью. В Уставе Владимира Мономаха приводятся такие оскорбления, как колдун, зелейник, изменщик, еретик. Первая письменная фиксация выражения блядин сын обнаружена историками в челобитной Ивана Колычева на князя Василия Микулинского по поводу их долгой ссоры 1523–1525 годов. Как пишет Колычев, Микулинский налетел на него, размахивая посохом и выкрикивая «блядин сын, смерд!».
Немало примеров оскорбительных выражений в следственных делах допетровской эпохи: боярский холоп, шпынок турецкий, худой князишко, оленье ухо, псарев внук… Причем в одних документах бранные слова приводятся, а в других отсутствуют. Люди все больше и больше опасаются доверять хулу бумаге. В отличие от сказанного, написанное выглядит не только неприличнее, но и страшнее. Написанное можно зачеркнуть, но нельзя отменить. Начертавший оскорбление оказывается меж стыдом и жутью.
Передавая содержание бранных речей, ответственные лица – дознаватели, канцеляристы, переписчики – часто прибегали к эвфемизмам. В суровом XVII веке фиксировали очень обтекаемо: «Про государя [некто] говорит неистовое слово». В следующем столетии писали пространно, но уже более конкретно: «Бранил государя матерно». В отдельных случаях цитировали оскорбительные высказывания с заменой более приемлемыми синонимами. Например, в приговоре 1752 года солдату Алексею Язвецову было написано: «Иван Долгорукий императрицу прогреб (выговорил то скверно), а потом-де Алексей Шубин, а сейчас Алексей Григорьевич Разумовский гребет (выговорил скверно ж)».
Приемы эвфемизации оскорблений спустя столетия кажутся наивными либо забавными. Для обозначения силы брани нередко употреблялся усиленный глагол вроде «расперегреб». Некоторые хулительные слова предъявлялись описательно («называл Ея императорское величество женским естеством») или с уточняющим комментарием («государыня такая мать [выговорил то слово по-матерны прямо])».
Иностранцы традиционно отмечали в русских словесную грубость и умение отменно ругаться. «Они вообще весьма бранчливый народ и наскакивают друг на друга с неистовыми и суровыми словами, точно псы», – утверждал немецкий путешественник XVII века Адам Олеарий. Повышенная конфликтность как типично русская черта отмечена и европейской мемуаристикой XVIII–XIX веков. В частности, драматург Жак-Франсуа Ансело писал об особом «воинственном инстинкте русских». Национальная тяга к оскорблениям отражена и во множестве оригинальных текстов – взять хоть страстные воззвания протопопа Аввакума, хоть яростную переписку Ивана Грозного с Андреем Курбским.
То же самое в изобилии находим в русской литературной классике. Городничий в «Ревизоре» обзывает Бобчинского с Добчинским колпаками, сороками короткохвостыми, сморчками короткобрюхими. Жалобщиков-купцов ругает самоварниками, аршинниками, архиплутами, протобестиями, надувалами мирскими. Супруга даже ужасается: «Ах, боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускаешь!»
В одной только полустраничной сцене из «Униженных и оскорбленных» списочным порядком идут кровопийца, гнида, распутница, идол проклятый, лупоглазая гадина, яд, гниль болотная, пиявка, змей гремучий, упорная сатана, облизьяна зеленая, изверг, черная шпага французская, семя крапивное, маска привозная… Причем поток отборных оскорблений «большею частию без запятых и без точек, но с каким-то захлебыванием» обрушивается на безропотную сиротку.
В рассказе Куприна «На покое» две страницы сплошь запечатаны взаимными оскорблениями старых актеров: червяк, эфиоп, каналья, бесстыдник, скандалист, негодный, кретин, пропойца, дурак пьяный, медная голова, дутая знаменитость, балаганный Петрушка. Не менее азартно костерят друг друга супруги Орловы из одноименного рассказа Горького, буквально иллюстрируя расхожее выражение «ругается как сапожник»: пропойца, дьявол, изверг! еретица, тупорылая хавронья, кикимора болотная!
А вот лишь несколько примеров из шолоховских «Донских рассказов»: старая сволочуга, коммунячий ублюдок, красноармейская утроба, чертячье отродье, старая падла, сучье вымя, сукин сын, дурочкин полюбовник.
В 1990-е годы широко дискутировалась книга Сергея Снегова «Язык, который ненавидит» с идеей о том, что в русском языке количество обозначений оскорбления существенно превосходит общее число слов восхваления. По данным автора, на сотню оскорбительных названий человека приходится лишь десяток восхваляющих. По результатам лексических изысканий исследователь пришел к любопытным выводам.
Во-первых, «ругни в словаре больше, чем похвалы, и она разнообразней и ярче хвалебных слов». Во-вторых, чаще человека «охаивали существительными – всего сразу опорочивали», а хорошее выражали прилагательными, тем самым «признавая только частью его, а не целостностью». В-третьих, «если хвала и давалась как целостность личности, то невольно в имя существительное вкрадывалась ирония, какой-то оттенок сомнения».
Однако все же речевая агрессия вряд ли имеет жесткую этническую принадлежность. Проявляясь в эмоциональной неуравновешенности, постоянной готовности нападать и защищаться, враждебность воплощается скорее в универсальных и устойчивых психоповеденческих сценариях (гл. XV). «Кусательные словесы» бытуют не в отдельных лингвокультурах, а в человеческой речи вообще.
Как обидеть государя
Особый род оскорблений – хула представителей верховной власти, получившая юридическое название оскорбление величия (лат. crimen laesae majestatis, фр. lese majeste). Под это определение подпадало всякое враждебное и даже просто неуважительное высказывание в адрес правителя, а также – как считалось долгое время – всего государства в целом.
Около 80 года до н. э. римский диктатор Сулла обнародовал «Закон об оскорблении величия». Сначала Форум заполнили таблички с именами его личных врагов, затем уличные столбы запестрели проскрипциями (лат. proscribere – оглашать, письменно обнародовать) – списками граждан, которые якобы нанесли ущерб достоинству Суллы.
Согласно закону об оскорблении величия римского народа (лат. lex majestatis), который действовал в период республики, величием обладали вначале боги, затем гражданская община и сенат. Высшие должностные лица на время пребывания в должности были неподсудны не сами по себе, но именно в силу majestas государственных институтов. В 8 году до н. э. император Август дополнил закон о государственных преступлениях оскорблением принцепса и его семьи.

Сильвестр Давид де Мирис «Проскрипции Суллы», гравюра из книги «Картины истории Римской республики, сопровождающиеся историческим очерком», ок. 1799
Проскрибированные объявлялись вне закона. Приговоренным к смерти устраивали публичную порку, затем отсекали головы и выставляли на ораторских трибунах. В полный рост поднялись Донос и Клевета, ударили по рукам и ринулись в народные массы. В этот темный период истории возник известный латинский афоризм: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». Согласно Плутарху, даже перед самой кончиной Сулла приказал задушить мелкого чиновника Грания, который плохо о нем отзывался.
Затем, при Тиберии, оскорблением величия считалось уже любое неугодное императору действие или высказывание, а также невыражение должной почтительности ему и его гению-хранителю. При столь широком толковании оскорблением была даже потеря солдатом меча – как бесчестие императорского гения, которому приносили воинскую присягу. Началась новая волна политических репрессий и ложных доносов. Несмотря на споры по данному вопросу современных историков с древнеримским коллегой Тацитом, это подтверждается и Светонием в «Жизни двенадцати цезарей».
Преследования за оскорбление величия при Тиберии доходили до гротеска. Наказание раба или переодевание перед статуей императора, обнаружение монеты с императорским профилем в неподобающем месте, упоминание императора без похвалы – самые ничтожные случаи расследовались под пыткой.

Павел Сведомский «Фульвия с головой Цицерона», 1880-е, холст, масло
В числе проскрибированных оказался и Цицерон после выступления против Марка Антония. По легенде, отрубленная голова оратора была выставлена на всеобщее обозрение – и Фульвия, жена Антония, некоторое время глядела с ненавистью в мертвые глаза, затем положила голову себе на колени, вытащила изо рта язык и пронзила золотой шпилькой из прически. Все это ужасное действо сопровождалось злобными поношениями и язвительными насмешками.
Линию Тиберия продолжил Нерон во второй половине своего правления. Как писал тот же Светоний, «он казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угодно». Нерон проскрибировал даже тех, кто не аплодировал его музицированию на пирах.
Со временем отношение к оскорблению величия смягчилось, о чем можно судить хотя бы из письма римских императоров Феодосия, Аркадия и Гонория преторианскому префекту Руфину. «Мы не желаем наказывать того, кто дурно отзывается о нас или о нашем правительстве: если кто злословит по легкомыслию, следует им пренебречь; если он говорит по глупости, надо о нем пожалеть; если он желал нанести оскорбление, должно его простить».
В Средние века, несмотря на продолжение действия закона по всей Европе, странствующие стихотворцы-ваганты сочиняли тексты, порочащие папу римского, простонародье вполголоса костерило правителей, а властные верхи грызлись между собой. Относительно лояльны к сатире на власть были разве что англичане, а вот французы и немцы сурово преследовали хулителей. Так, Людовика XIV страшно раздражали карикатуры на его персону. Причина вполне очевидна: художественно оформленные словесные нападки были доступны только грамотной части населения, тогда как над обидными картинками мог зубоскалить всякий простолюдин. Карикатура – визуализированное оскорбление.
Внимание ревнителей королевской чести переключилось с сочинителей на рисовальщиков. Указом Филиппа Орлеанского в 1722 году был сформирован особый карикатурный трибунал. Однако же оскорбители не унимались и даже создали каноны непристойных изображений королевских особ. Людовика XVI выводили жирным боровом с головой человека, Марию Антуанетту – позорной шлюхой.

Ричард Ньютон «Измена», 1798, раскрашенный офорт
Страдавший тяжким недугом – порфирией британский король Георг III не пользовался авторитетом у подданных, регулярно подвергаясь нападкам. И пока придворный живописец Фрэнсис Котс писал парадные портреты короля, карикатуристы Джеймс Гилрей, Томас Роулендсон, Ричард Ньютон рисовали его в комически ничтожном виде. Не случайно Пушкин назвал Англию Георгианской эпохи «отечеством карикатуры и пародии».
Скандально известная карикатура Ричарда Ньютона изображает Джона Буля (юмористическое олицетворение типичного англичанина) выпускающим кишечные газы на портрет короля Георга III. Голова премьер-министра Уильяма Пита возмущенно голосит: «Это измена!!!»
Русских царей европейские карикатуристы предпочитали рисовать медведями. В этом образе представляли даже Екатерину II: на одной карикатуре царицу-медведицу со всех сторон окружают и травят охотники, на другой оседлавший Екатерину с медвежьей головой князь Потемкин атакует Британский легион. Это изобразительное клише перешло в последующие столетия. Американцы рисовали медведя-Сталина, голландцы – Хрущева и Брежнева, немцы – Горбачева, шведы – Ельцина, англичане – Путина и Медведева.
В охране высочайшей чести с французами конкурировали немцы. Только один факт: за первые семь лет правления Вильгельма II было вынесено 4965 приговоров за оскорбления величия. Газетчики писали, что преследование тех, кто не одобряет действия монарха, обернется превращением казарм в тюрьмы – иначе не разместить всех арестованных. В дальнейшем позиция кайзера понемногу смягчалась, и в 1906 году он принял решение помиловать осужденных за нарушение этого закона. В истории оскорбления величия было поставлено временное многоточие.

Жан Вебер «Бесстыдный Альбион», карикатура в журнале «L’Assiette au Beurre», 1901
Во время Англо-бурской войны во французском сатирическом журнале «L’Assiette au Beurre» появилась впечатляющая карикатура с изображением женского голого зада, который живо напоминал британского короля Эдуарда VII. От греха подальше скандальный номер изъяли из продажи, лицо-ягодицы прикрыли пририсованной юбкой.
На острый и безжалостный карандаш Жана Вебера попадали также Бисмарк в облике мясника, свежующего сограждан, и королева Виктория, влекомая чертями в преисподнюю. Причудливо фантазийные и мастерски выполненные, соединившие философские аллюзии Фелисьена Ропса и трансгрессивную образность де Сада, эти изображения признаны жанровыми эталонами.
Его высокодержимордие
В России оскорбление величия юридизировалось гораздо позднее, чем по всей Европе, – в Соборном уложении 1649 года, где впервые появилось постановление «о государевой чести». Прочие оскорбления относились к приватным и затрагивающим личную, прежде всего дворянскую честь. Однако в ситуации неограниченного самовластия оскорбление величия трактовалось у нас почти как в Древнем Риме – всеобъемлюще и безжалостно.
Установлением Петра I бранные слова о частных лицах, «не одумавшись с сердца» произнесенные, необходимо было искупить перед судом, прося у обиженного «христианское прощение». А вот оскорбления царской особы карались кнутом, вырыванием ноздрей, лишением всех прав состояния, сибирской ссылкой и, наконец, смертной казнью. При этом оскорбляющими честь государя считались любые «непригожие речи» о власти.
Какие же «продерзостные» и «злодейственные» слова можно было услышать о царе? Вот несколько реальных высказываний людей разных сословий о Петре I. «Лучше бы с императора кожу сдирать, чем ризы и оклады с образов» [как якобы велел Петр] (войт города Королевца). «Он христианскую веру оставил и носит немецкое платье, и бороду бреет…и благочинья в нем нет» (архимандрит). «Пускай государь умрет, а царицу я за себя возьму» (монах). «Кто затеял бороды брить, тому б голову отсечь» (крестьянин). «Царь не царской крови и не нашего русского роду, но немецкого» (солдатская жена).
Всякий уличенный в подобных речах объявлялся «повредителем» государственных интересов. Мера наказания назначалась исходя из социального статуса «повредителя», наличия или отсутствия у него политических мотивов, судебных стереотипов и личной воли самодержца. Причем если приговор гласил, что некто «высочайшую Ея и.в. персону многими непристойными и зловредными словами поносил», то это отнюдь не всегда означало бранную речь.
В разряд «непригожих» попадали нелепые слухи и глупые сплетни (гл. IV), неугодные государю частные мнения и баснословные легенды, а иной раз даже упоминания усопших монархов. Так, сержант Михаил Первов в 1744 году лишился ноздрей и был отправлен в сибирскую ссылку за сказку о царе Петре и спасшем его воре. Рассказчика не спасло даже наделение обоих персонажей героическими чертами.
С конца XVI и почти до середины XVIII столетия за оскорбление величия полагалась смертная казнь. Зафиксирован только один случай помилования в 1664 году Прошки Козюлина, который сидел в тюрьме за татьбу и в шутку сказал об одном из заключенных: важничает аки царь. О дерзких словах живо проведала охрана – и взойти бы Прошке на плаху, кабы история не привлекла внимание самого Алексея Михайловича. Словно оправдывая свое прозвище Тишайший, государь велел не лишать живота, а всего-то вырезать язык болтуну.
Оскорблением величия считалось также непочтительное обращение с изображениями монарха. В XVIII веке действовал запрет на продажу парсун (живописных портретов), на которых высочайшая персона мало походила на оригинал. За неискусно исполненные парсуны мастеров бросали под плеть. Певчий Андрей Савельев поплатился за то, что размахивал тростью, указывая на царский портрет. Певчий оправдывался, будто хотел всего лишь согнать мух с изображения его величества, но суд не внял оправданиям.
Каралось даже «непитие за здравие» царской особы как непочтительное отношение и причинение вреда (!) ее здоровью. Пить надлежало до самого дна, иначе легко было стать жертвой доноса – как это случилось с целовальником Дементьевым. Целовальник якобы «не любил государя, потому что не пил за его здравие». Та же участь постигла дворянина Теплова, который «в покал [бокал] только ложки с полторы налил», чем спровоцировал «доношение» императрице Елизавете от канцлера Бестужева-Рюмина.
К оскорблениям монарха относили даже ошибки переписчиков при выведении царского имени или титула. Особо опасен был пропуск первого слога в словах «государь» и «государыня», орфографически умалявший властный статус. «Подчистки» (выскабливание помарок) тоже считались государственным преступлением – прикосновением нечестивой руки к священному царскому титулу. Все оправдания писцов именовались «выкрутками», не принимались во внимание следствием и не считались смягчающими обстоятельствами. Здесь мы сталкиваемся с любопытным феноменом «карательной лингвистики». Злоречие черпает основания из самого языка.
Пожалуй, более всего не повезло дьячку Ивану Кириллову: при переписывании указа о поминовении преставившейся царевны Прасковьи горе-копиист перепутал имена и «величество» с «высочеством». Дьячка пожизненно сослали в Сибирь. А самую смешную описку допустил Семен Сорокин: в документе красиво вывел подпись «Перт Первый», за что был наказан плетьми.
Проступки, ничтожность которых была самоочевидна и граничила с абсурдом, перечислены в хрестоматийной оде Державина «Фелица», славящей Екатерину, помимо прочего, и за послабления в подобного рода преследованиях. «Там можно пошептать в беседах И, казни не боясь, в обедах За здравие царей не пить. Там с именем Фелицы можно В строке описку поскоблить Или портрет неосторожно Ее на землю уронить…»
Отдельный пункт перечня оскорблений величия – «непристойные» (неуместные) и «блядские» (похабные) песни. За первые крепко влетело посадской женке Авдотье Львовой, что некстати спела при гостях о племяннице Петра I: «Не давай меня, дядюшка, царь-государь Петр Алексеевич, В чужую землю нехристианскую, босурманскую, Выдай меня, царь-государь, за своего генерала, князь-боярина…» Правда, отделалась певунья относительно легко: дыбой и кнутом.

Айзек Крукшенк «Усмирение сумасшедшего медведя», 1801, раскрашенный офорт
Соотечественники презрительно называли Павла I «мужицким царем» и сочиняли на него оскорбительные эпиграммы: Не венценосец ты в Петровом славном граде, Но варвар и капрал на вахтпараде.
И эпитафии: Не пес ли тут лежит, что так воняет стервой? Нет! Это Павел Первой.
Европейцы придумали ему прозвище Русский Гамлет, а карикатуристы рисовали его то яйцеголовым уродцем, то сумасшедшим гигантом на пути в Бедлам, то скованным цепью медведем.
Апогеем издевательств стало глумление заговорщиков над трупом задушенного императора…
Екатерине II ужасно не нравилась популярная в народе песня о брошенной жене-императрице: «Гуляет мой сердешный друг в зеленом саду, в полусадничке… со любимою своею фрейлиной, с Лизаветою Воронцовою.» Двусмысленными оказывались едва ли не всякие тексты с совпадением имен: «Зверочек, мой зверочек, Полунощный мой зверочек, Повадился зверочек во садочек К Катюше ходить…» За такую песню судили пристава Спиридонова по обвинению дьяка Делифовского.
Обвинение в оскорблении величия могло быть способом мести или средством карьерного роста. В 1732 году иеродьякон Самуил Ломиковский измыслил оригинальное мщение своему врагу, иеромонаху Лаврентию Петрову. Ломиковский явился на двор Максаковского Преображенского монастыря, потрясая «картками, помаранными гноем человеческим». Дескать, на «картках» его рукой были выведены фамилия и титул императорского величества, а нечестивец Петров подтер ими свой зад. Но изощренная задумка позорно провалилась: Ломиковский не смог доказать принадлежность фекалий Петрову и отправился в Сибирь вкалывать на серебряных заводах.
Чем дальше, тем громче чихвостили современники своих правителей, не скупясь на самые нелицеприятные эпитеты. В частности, Илья Репин в переписке с Корнеем Чуковским называл Александра III «ослом во всю натуру» и «толстозадым солдафоном», а Николая II – «гнусным варваром» и «высокодержимордием». В крестьянской среде царей поносили часто не по злобе, а в порыве отчаяния или попросту из привычки сквернословить (гл. XIII). Случались жесточайшие земельные ссоры, когда языки пламени крестьянского гнева лизали не помещичьи, но даже царские бока.
Один из таких случаев 1915 года зафиксирован в рапорте исправника. Отставной нижний чин Дмитрий Пустотин, борясь за право на часть усадебной земли, бил себя кулаком в грудь с криком: «Я кровь за государя проливал!» На что крестьянин Петр Ментюков злорадно ответил, показывая на свои гениталии: «Вот у меня царь, вот за кого ты кровь проливал!» Жена Ментюкова задрала подол и добавила: «А вот царица!»









































