Текст книги "Россия и современный мир №1 / 2018"
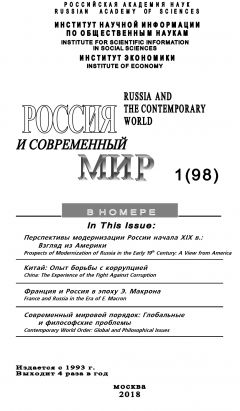
Автор книги: Юрий Игрицкий
Жанр: Журналы, Периодические издания
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
Массовизация революции
1917-й год – это время не только общественного брожения, но и народного взрыва, целой серии революций: рабочих, солдат, городских низов, крестьянства. Происходила массовизация революции, началось всероссийское «восстание масс», которые по своему радикализму были сродни средневековым протестным движениям. Через Февраль 1917 г. Россия выскочила в массовое общество (точнее, оно вышло из революции)3737
. Оно формировалось со времен Великих реформ – под влиянием индустриализации, урбанизации; новый импульс получило в 1905–1906 гг. с рождением массовой политики. Тотальная война и социальная революция окончательно его оформили.
[Закрыть].
Массовые революционные движения имели, конечно, причины социального (социально-экономического) характера. В то же время были следствием процессов, которые шли в стране с 60-х годов XIX в., и мировой войны. Однако их главный источник – сама революция. Послефевральский народ – это совсем иная социальная среда («почва»), чем рабочие, солдаты, крестьяне царской России. Народ менялся в ходе революции, в ответ на нее. «Политический радикализм интеллигентских идей» соединился с «социальным радикализмом народных инстинктов»3838
Эти слова П.Б. Струве, сказанные им после Первой революции, точно характеризуют и 1917 г. [17, с. 148].
[Закрыть], что дало разрушительный эффект.
Историки много пишут о том, что после Февраля в деревню ринулись дезертиры. Эта взрывоопасная масса, озлобленная и надорванная войной, послужила катализатором «передельной революции», а потом, в Гражданскую, составила основу крестьянского повстанчества. Но резервы народной революции имелись и в больших городах – Петрограде, Казани, Нижнем Новгороде и др. (где было сосредоточено большое количество запасных полков). Социальное пространство там было чрезмерно засорено: из-за войны и революции скопилось огромное количество практически ничем не занятых людей (беженцев, дезертиров, запасных, а также профессиональных революционеров). Многие из них были вооружены (не случайно большевики занимались затем всеобщим разоружением народа). Этот социальный потенциал мог быть задействован как угодно и кем угодно.
«Лабораторией» народной революции – местом, где творилась новая социальность, – стали улицы Петрограда. Вот характерная зарисовка, относящаяся к самому началу апреля 1917 г.: «С раннего утра и до поздней ночи улицы города были переполнены толпами народа. Большую часть их составляли воинские чины. Занятия в казармах нигде не велись, и солдаты целый день и большую часть ночи проводили на улицах. Количество красных бантов, утеряв прелесть новизны, по сравнению с первыми днями революции, поуменьшилось, но зато неряшливость и разнузданность как будто еще увеличились. Без оружия, большей частью в расстегнутых шинелях, с папиросой в зубах и карманами, полными семечек, солдаты толпами ходили по тротуару, никому не отдавая чести и толкая прохожих. Щелканье семечек в эти дни стало почему-то непременным занятием “революционного народа”, а так как со времени “свобод” улицы почти не убирались, то тротуары и мостовые были сплошь покрыты шелухой» [4, с. 27]. Это типовое описание Петрограда; с Февраля 1917 г. город стал именно таким. А семечки – знак праздника / праздности; означают праздное времяпрепровождение в деревне.
В послевоенных дневниках Карла Шмитта есть такое замечание: «Человек с улицы – господин улицы; это и есть современная демократия» [22, S. 12]. В Феврале народ (солдат, матрос, рабочий, городские низы) и явился как господин петроградской улицы: эмансипировался и почувствовал себя реальной исторической силой. Послефевральское время (до большевиков, до Гражданской войны) – самое для него счастливое. Он – главный бенифициарий, настоящий диктатор 1917 г. (не Керенский, не Ленин, не Троцкий). Сбросив с себя путы «старого мира» (все ограничители / ограничения, которые тот на него наложил), «господин улицы» освободился от тяжести всяких социальных обязательств – стал сам себе хозяином. Он принес в революцию свои желания, свои темы. В конечном счете он и распорядился страной, как умел.
Послефевральский народ стал свободен и празден – не нацелен на труд, созидание. «Кучками шатаются праздные солдаты, плюя подсолнухи. Спят днем в Таврическом саду. Фуражка на затылке. Глаза тупые и скучающие, – скажет в августе 1917 г. З.Н. Гиппиус. – Скучно здоровенному парню. На войну он тебе не пойдет, нет! А побунтовать… это другое дело. Еще не отбунтовался, а занятия никакого» [6, с. 535]. Перед нами – бывшие солдаты, бывшая армия, превратившаяся в вооруженную орду. Вид этих солдат-крестьян, «разнузданный и расхлестанный» (так его характеризовали современники), – это политическое заявление: символ пораженчества, дезертирства. С этими людьми нельзя было вести войну – во всяком случае с внешним врагом. Народ освободился – от службы, от обязательств и обязанностей (прежде всего в отношении государства / революции и иных подобных абстракций). Показательно: в те дни, когда «новые петроградцы» лузгали семечки, «корпорация» дворников постоянно отказывалась от профессиональной обязанности – убирать, заявляя, что это не их дело.
У «господина» петроградской улицы появились дела поважнее прежних (царского времени); он был занят митингами, манифестациями. «С тех пор, как началась революционная драма, не проходит дня, который не был бы отмечен церемониями, процессиями, представлениями, шествиями, – указывал М. Палеолог. – Это – непрерывный ряд манифестаций: торжественных, протеста, поминальных, освятительных, искупительных, погребальных и пр. …Все общества и корпорации, все группировки, – политические, профессиональные, религиозные, этнические, – являлись в Совет <рабочих и солдатских депутатов> со своими жалобами и пожеланиями… Таврический сад видел за своей оградой прецессии евреев, мусульман, буддистов, рабочих, работниц, учителей и учительниц, молодых подмастерьев, сирот, глухонемых, акушерок. Была даже манифестация проституток» [12, с. 447–448].
А вот как французский посол описывает одно из таких торжеств (на Марсовом поле 23 марта 1917 г. – в память жертв революции): «Ораторы следуют без конца один за другим, все люди из народа, все в рабочем пиджаке, в солдатской шинели, в крестьянском тулупе, в поповской рясе, в длинном еврейском сюртуке. Они говорят без конца, с крупными жестами… Большинство речей касается социальных реформ и раздела земли. О войне говорят между прочим и как о бедствии, которое скоро кончится братским миром между всеми народами» [12, с. 451]. Всего этого было так много, что «кто-то из иностранцев, побывав… в Петрограде, сказал, что русская столица с ее бесконечными митингами, проделками “анархистов”… и т.д. напоминает ему грандиозный дом для сумасшедших» [13].
Палеолог относил эти разговоры на счет особой природы русских; однако это не было просто эмоциональной разрядкой, одним из видов революционных развлечений. Послефевральские уличные разговоры – поиск способов самовыражения: языка, без которого невозможно построить новую идентичность, новую реальность. Причем как вид говоривших, так и качество разговора точно характеризуют нового «господина улицы». Он – не демократ, не гражданин. Для него это – пустые слова; вообще, язык Февраля не переводим на народный (к примеру, слово «оратор» солдат-крестьянин на фронте и в тылу переводил для себя так «оратель» – тот, кто орет, громко говорит). Если характеризовать этот тип с помощью концепции политической культуры, то ему идеально подходит определение «парохиал». Это тот, кто вне политики (она для него не существует – он не понимает смысла политических действий), он – локалист (его не интересуют темы и проблемы, непосредственно с ним самим не связанные), недоверчив (враждебен политике, политикам, государству; доверяет исключительно ближнему кругу, «своим»), нацелен на прямые насильственные действия (считает, что права, власть можно только отнять, захватить – взять силой), политически безответственен (бессознательно живет в политике, действует «как все» – «миром», «скопом»).
Иначе говоря, это не современный политический человек, но победившая архаика, отменяющая политику. Этот «господин улицы» внеположен гражданской политической культуре – и в этом смысле органически враждебен Февралю. Он отрицает идеалы этой революции; они ему недоступны – он до них не «дорос». По существу, именно этот гражданин – главный контрреволюционер 1917 г. Но он в полной мере воспользовался плодами Февраля – чтобы стать именно «господином»: заявить о себе, приобщиться к власти, начать творить свой новый мир.
Местом первоначального действия (пробы сил, «разминки») и стал для него Петроград. Он – не просто новый (а потому «плохой») горожанин, но человек, враждебный городу (из деревни – патриархальный, традиционалистский), напуганный им и взявший у него реванш. Петербург как бы провоцировал на это – тем, что был именно городом (в европейском смысле – по организации, архитектуре, стилю и образу жизни горожан). Занесенные сюда ветром революции солдат-крестьянин, матрос, всякий пришлый элемент и преодолевали это давление – преображали город, делали «своим». Не случайно они оперировали именно в центре; рабочие окраины были им ближе, доступнее, понятнее, а значит, малоинтересны. Петроград их не абсорбировал – попросту не мог переварить такую массу.
Но было и еще одно. В народной культуре как бы воспряло кочевое начало; тысячи и тысячи людей оказались вне налаженной (оседлой) жизни – пустились кочевать. И раскинули свои «кочевья» (становища, «привалы») в главном городе «оседлой», европейской, т.е. чуждой им культуры (ее символе). Семечки, мусор, загаженные парки, разбитые статуи, обездвиженные трамваи – это «присвоение» / захват Петербурга-Петрограда. Об историческом значении этого захвата сказал О. Мандельштам: «Cкифский праздник на брегах Невы». Город переставал быть прежним – становился народной столицей: Ленинградом. С этого начались процессы де-европеизации (после двух столетий европеизации) России, де-урбанизации (по определению А.С. Ахиезера, следствием революции стала не урбанизация деревенской России, а «деревенизация» города [2, с. 554]).
Революционный народ: «Кто был ничем…»
А.Ф. Керенский на одном из своих многочисленных выступлений возглашал: «Основное положение демократии – все равны». Так он разъяснял смысл «Декларации прав солдата» (11 мая 1917 г.), отменившей обязательное отдание чести в армии, т.е. фактически уравнявшей офицеров и солдат. Уравнение (именно уравнение: материально-имущественное и социальное, а не равенство – в правах – вместе с братством и свободой) – главное слово народной революции3939
Вот что писал об этом Максим Горький: «…моему народу свойственно тяготение к равенству в ничтожестве.., исходящее из дрянненькой азиатской догадки: быть ничтожным – проще, легче, безответственней» [8, с. 207]. Конечно, у «уравнения» была и высокая мотивация – потребность в социальной справедливости. Для социальности этого типа она имеет особое значение, является неразрешимой проблемой – и теперь, спустя столетие. А тогда реализовалась через удовлетворение уравнительно-передельных «дрянненьких» инстинктов.
[Закрыть].
С первых дней Февраля обнаружился передельно-уравнительный характер народных движений. Показательно: солдаты и матросы (их вооруженный, силовой фактор) выступили за уничтожение социальной иерархии (как «старорежимной) – поначалу символическое. В армии развернулась настоящая война за отмену традиционного приветствия старших по званию (отдания чести) и ликвидацию погон («обеспогонивание») [10, с. 140–228], которые воспринимались как знак принадлежности к привилегированному («высшему») сословию, символ власти, принуждающей к исполнению своей воли. По существу, речь шла об анархическом бунте против всего этого, а также об отмене авторитетов – всяких отношений, основанных на авторитете и ответственности.
Февраль 1917 г. фактически дал старт гражданской войне, которая шла поначалу в символических формах: против царских орлов и орденов, офицерских погон и проч. – всех символов власти, статуса, богатства (да и просто достатка). Все это – элементы образа врага, чрезвычайно важного для народной революции, имя которому: «буржуй». Первым этапом борьбы с ним, в которой применялось массовое насилие, и была антиофицерская кампания. Так, солдаты одного из пехотных полков заявили в мае 1917 г. командиру своего корпуса, что единение с офицерами возможно, если те «откажутся от буржуазии и полностью перейдут на сторону пролетариата». Офицер одного из артиллерийских дивизионов, дислоцированных в Твери, сообщал начальству летом 1917 г.: «Война капитализму понимается как призыв к немедленному уничтожению капиталистов и буржуев, – причем, под этим понимаются все те, кто не в солдатской форме». Даже унтер-офицеров, произведенных в прапорщики, нижние чины воспринимали как предателей своего «класса»: «Надел погоны офицерские, значит, продался буржуазии» [10, с. 209].
Мир без «буржуазии» (попов, помещиков и капиталистов) – вот идеал народной революции. Солдат восстал против офицера – чтобы «уравнять» его с низшими чинами (заставить «категорически присоединиться» к ним), отделить от «буржуазии». Пролетариат хотел не только восьмичасового рабочего дня, но и самоуправления: получить в свои руки промышленность, установить полный контроль над предприятиями, убрать собственников, управляющих, мастеров. Крестьянство желало вытеснить из деревни помещика, а также нового (столыпинского) крестьянина – и всё (землепользование, организацию) подчинить общине. А кроме того, осуществить вековую мечту: взять землю (через «черный передел» поставить окончательный заслон частной собственности), избавиться от гнета города – от власти «политического и административного чиновника сверху», от необходимости кормить «городских»4040
«Господам хлеба не дадим, – говорили на сходах в разных частях страны крестьяне, – потому что не хотим кормить буржуев и зарвавшихся рабочих, не дадим хлеба и армии, потому что так быстрее кончится война» (цит. по: [11, с. 65–66]).
[Закрыть].
«Россия, ты сдурела!»
Летом 1917 г. ситуация была смутной. Единственное, что было ясно: идет разложение. В августе на всероссийский съезд губернских комиссаров в Петрограде собрались представители местной власти. В газетах сообщалось, что во всех речах, прозвучавших на съезде, начиная с речи приветствовавшего съезд министра-президента А.Ф. Керенского и кончая речью представителя власти самой отдаленной окраины, проводилась главенствующая мысль о скорейшем создании твердой государственной организованной власти. Иначе говоря, февралисты с мест заявили о том, что страна неуправляема – установилось безвластие.
На культуру такого типа ситуация безначалия повлияла катастрофически4141
Склонность к безвластию / безгосударственности или крутой диктатуре, отрицание частной собственности, передельные инстинкты сближали народ с большевиками. Правда, народ хотел именно своей утопии – того, что ему предлагали большевики, но без большевиков.
[Закрыть]. Вместе со старой властью, ее полицейско-карательской функцией, из социальной жизни ушла тема наказания. Это автоматически снимало и проблему преступления, вины – прежде всего как проблему юридическую и полицейскую. Либералы во власти придерживались следующей точки зрения: к органам власти граждане свободной России должны прибегать «лишь постольку, поскольку это требуется действительными интересами правового общежития»; в отсутствие новой правовой системы в повседневной жизни следовало руководствоваться «правом неписанным, живущим в нашем сознании, свойственном всему культурному человечеству» (см. об этом: [5, с. 343–344]). Однако в сознании большинства граждан новой России жило другое право, свойственное некультурному человечеству, – обычное. Его ярчайшее проявление – самосуд. Следствием торжества обычного права стали всеобщая беззащитность и всеобщее насилие.
Это нечем было сдержать; поразительным образом вместе с полицией из жизни ушла и мораль (моральные «сдержки» ограничения моралью). Революция создала героев и вождей, но устранила моральные авторитеты. В этом смысле показательно отношение к православной церкви и ее поведение. Там тоже действовали распадные, энтропийные тенденции; церковь сначала поспешно и безответственно отреклась от прошлого (от царя, царизма, «старого режима»), затем устранилась от происходящего, занявшись собой. (Заметим в скобках, что революционный процесс определяла тенденция к локализации: нации и провинции в 1917 г. «побежали» от центра; социум разламывался на национальные, профессиональные и т.п. локусы.) Поэтому преображенная революцией Россия на какое-то время стала «миром поголовного хама и зверя» (так сказал об этом И. Бунин), торжества «животно-первобытного» в человеке и «животно-первобытных человеков»; она раскрыла «несказанно страшную правду о человеке».
Все это, безусловно, серьезно и страшно, напоминает дикий и жестокий праздник непослушания. Символично, что дети, захваченные вихрем осво-божденческой революции, активно участвовали в политических манифестациях. Притом частенько требовали ликвидации «ига родителей» и на своих красных флагах писали: «Да здравствует детский социализм!» [10, с. 272]. В революционной России все (и «верхи», и «низы») вдруг стали вести себя как непослушные дети, оставшиеся без надзора. Это – проявление инфантилизма, незрелости (не в смысле молодости, а в смысле недоцивилизованности) всего социального организма. Культурные дефициты «обнажились» и стали «работать» в момент социального слома, когда социум стремительно утрачивал цивилизационную оболочку («опрощался»). Это и стало главной причиной распада – не психология, а культура.
Революция сметала институты, административные и социальные (начиная с собственности), право, преемственность и проч. – все то, что было следствием культуры. Все формы жизни, созданные культурой (в процессе долгой и затратной исторической эволюции), распадались. К августу 1917 г. масштабы распада стали пугающе очевидны – о ситуации можно сказать словами Ю.Ф. Карякина, сказанными им в 1993 г.: «Россия, ты сдурела!». «Диктатура митинга», стихия «праздника» (освобождения от обязанности: трудиться, служить, исполнять, подчиняться – в отсутствие принуждения сверху), эмансипация от норм и правил (правовых, религиозных, моральных, эстетических) создавали деморализующую атмосферу. В ней терялось общество, т.е. социальная база Февраля, – рассыпались его структуры, устои, оно маргинализировалось. Происходило то, о чем за 100 лет до революции упреждал Н.М. Карамзин: «…В правлениях новое опасно, / А безначалие ужасно! / Как трудно общество создать! / Оно устроялось веками: / Гораздо легче разрушать / Безумцу с дерзкими руками. / Не вымышляйте новых бед: / В сем мире совершенства нет».
Февраль очень быстро потерял опору. И виновата в этом была не только новая власть («виновата» – в каком-то последнем, окончательном смысле: вина – на ней4242
Февралисты, конечно, повинны – в том смысле, в каком об этом сказал И.А. Бунин: «Прав был дворник (Москва, осень 1917 года): – Нет, простите! Наш долг был и есть – довести страну до Учредительного собрания! Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти горячие слова, – мимо него быстро шли и спорили, – горестно покачал головой: – До чего в самом деле довели, сукины дети!» [3, с. 135].
[Закрыть]; в том, в каком и «царизм» не был «окончательно» повинен в Феврале). Революция (как любое событие такого масштаба) есть состояние общества – выражение его потребностей, дефицитов, фобий. Февраль создал возможность (почву) для разложения, но разлагаться-то стало само общество – так неожиданно быстро и легко, в таких грандиозных масштабах, что никто и не предполагал.
А большинство простого народа сразу отвергли устои прежнего порядка, бросились в новую жизнь – без Бога, Царя и Отечества. То, как они преобразились в «дни свободы», какие личины на себя надели, свидетельствует: они вообще – вне порядка (против традиций и модéрностей, в отрыве от любых связей – вырваны, точнее, вырвались из них), в нем не нуждались. Они – против всяких скреп; за безвластие, безначалие, безверие, безработицу и прочее «без». Их роль – разрушительная: они – маргиналы, проводники радикализации. Им органичен хаос; они идут на развал «старого мира» (им «нужно», чтобы он распался, оставив по себе пустое место – «пустошь»). И вождей себе ищут соответствующих – чтобы узаконить свой новый мир.
Это очень важный опыт, данный русской революцией – и не только России. Только в этой атмосфере возможна была победа большевизма; он явился на разлагавшийся социальный организм. Все плоды разложения (социальные, экономические, управленческие, культурно-ментальные) стали капиталом большевистской революции.
Большевики и революция
В «смутной» атмосфере 1917 г. победили большевики – как некая третья сила, пришедшая «извне» (они «воспитывались» вне России», вне легальной публичной политики – в эмиграции, ссылке, подполье; не знали русской жизни – ее устройства, достоинств, не дорожили ею). Победили потому, что легализовали распад (вписали в процессы «справедливой войны» со «старым миром» – «несправедливости и горя»), использовали стихию народной революции. Ленинско-троцкистский большевизм дал ей язык, обещал решить ее задачи (мир – солдатам, земля – крестьянам, фабрики – рабочим), наделил ее смыслом (двигатель истории – классовая борьба, буржуазия – классовый враг), «придумал» для нее будущее («коммунистический рай на земле» – абсолютно органично народной утопии).
Из всех послефевральских политиков большевики оказались наиболее созвучны революционному народу. В межреволюционные месяцы они осуществили элементаризацию, варваризацию социализма. Большевизм, задумывавшийся как безоговорочное отрицание всего варварского в русском, стал концентрированным выражением русского варварства. Растворение в массе, необходимое для овладения ею, привело к тому, что «почвенное» начало поглотило в большевизме начало цивилизованное, европейское. В ходе революции социалистическая идея в ее западном понимании все больше уступала место неокультуренному, «низовому» «черносотенному социализму». (А его носители во главе со Сталиным неизбежно должны были вытеснить из партии зараженную «европеизмами» прослойку – выжечь как скверну.) Большевики-то и отформатировали революцию особым образом.
Во времена русской революции весь мир судил об этом событии по французскому примеру: происходит падение монархии, на ее место приходят умеренные силы, которые играли важную роль при старом режиме, их сметают крайние радикалы, террор достигает апогея (кровь, безумие, попытка перевернуть все человеческое бытие), потом Термидор и Наполеон – вот алгоритм революции. По сути, такой была Английская революция 40-х годов XVII в. Этот опыт уверил всех европейских, западных интеллектуалов, что революции происходят так. И все вслед за Токвилем полагали, что новый порядок зреет в рамках старого, а созрев, побеждает (революции, по Марксу, – локомотивы истории).
Внешне русская революция развивалась по тому же сценарию: свержение монархии вполне умеренными, известными до революции силами, приход радикалов, террор, гражданская война, убийство монарха. Поэтому русские эмигранты (к примеру, П.Н. Милюков) и даже большевики полагали, что в середине 1920-х придет Термидор; кто-то даже видел в Сталине Бонапарта. Но русский случай оказался иным.
Русская революция выпадает из общеевропейского ряда. Она была первой в череде революций «нового типа» (ХХ в.): итальянской, немецкой, португальской, испанской и др., направленных против современности (в том смысле, что они не открывали дорогу новому, но закрывали ее)4343
Большевики уничтожали все то новое, что возникло в недрах «старой» России. Это и есть главное последствие их революции. Не случайно мы и сегодня – перед задачами 100-летней давности, и не знаем, как их решать. В этом острая политическая актуальность 1917 г.
[Закрыть]. Иначе говоря, если встать на точку зрения исторического прогресса (предположить, что он есть), то в 1917 г. в России случилась антипрогрессистская, реакционная революция.
Революция в ее октябрьском изводе оказалась направлена против освободительной, демократической, европейской линии русской истории (линии Февраля). Она дала пример не эмансипации (хоть и кровавой) индивида, но его нового закрепощения (эксплуатации по-новому); отбросила Россию на «особый путь», на котором страна отказалась от всех достижений европейской цивилизации (семьи, частной собственности, государства, права, прав и т.д.4444
Именно в этом, а не в просвещенческом прогрессизме, который декларировала большевистская революция, ее главный замах; именно этим она и потрясла мир.
[Закрыть]; потом пришлось кое-что вернуть, так как без этого не может обойтись человеческое общество, но в варварском, извращенном и ограниченном виде). Реакцией на все сложности, которые принесла в страну на рубеже XIX–XX вв. современность стал массовый запрос на упрощение / примитиви-зацию. Большевики лишь «упаковали» его в современные формы.
Библиография
1. Александр Иванович Гучков рассказывает… Воспоминания председателя Государственной думы и военного министра Временного правительства. М.: ТОО Ред. журн. «Вопросы истории», 1993. 143 с.
2. Ахиезер А.С. Россия: Критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. Т. 1. 804 с.
3. Бунин И.А. Окаянные дни. СПб.: Азбука-классика, 2003. 320 с.
4. Врангель П.Н. Записки (ноябрь 1916 – ноябрь 1920 г.): в 2 кн. М.: Менеджер, 1991. Кн. 1. 293 с.
5. Гайда Ф. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 – весна 1917 г.). М.: РОССПЭН, 2003. 432 с.
6. Гиппиус З. Дневники. М.: НПК «Интелвок», 1999. Т. 1. Синяя книга. Петербургский дневник. 736 с.
7. Глебова И.И. Еще один камень в фундамент российской идентичности: Вспоминая «забытую войну» // Труды по россиеведению: Сб. науч. тр. М.: ИНИОН РАН, 2014. Вып. 5. С. 329–347.
8. Горький М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. СПб.: Изд. Азбука-классика, 2005. 224 с.
9. Дневник Л.А. Тихомирова, 1915–1917 гг. М.: РОССПЭН, 2008. 440 с.
10. Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры российской революции 1917 г. СПб.: Дм. Буланин, 2001. 349 с.
11. Куренышев А.А. Крестьянство и его организации в первой трети ХХ века. М.: Гос. исторический музей, 2000. 222 с.
12. Палеолог М. Царская Россия накануне революции: Репринт. воспроизв. изд. 1923 г. М.: Политиздат, 1991. 494 с.
13. Петроградская газета. 1917. 11 июня.
14. Пивоваров Ю.С. Русское настоящее и советское прошлое. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2015. 336 с.
15. Россия 1917 г. в эго-документах: Воспоминания. М.: РОССПЭН, 2015. 510 с.
16. Сергеев В.М. Демократия как переговорный процесс. М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издат. центр научных учебных программ», 1999. 148 с.
17. Струве П.Б. Интеллигенция и революция // Вехи: Интеллигенция в России. Сб. ст., 1909–1810 гг. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 136–152.
18. Февральская революция 1917 г.: Сб. док. и мат. М.: РГГУ, 1996. 353 с.
19. Феллер У. Внутренний враг: Шпиономания и закат императорской России. М.: НЛО, 2009. 376 с.
20. Late imperial Russia: Problems and prospects / Essays in honor of R.B. McRean. N.Y., 2005. 208 p.
21. Russia in the European context, 1789–1914: A member of the family. N.Y., 2005. 238 p.
22. Schmitt C. Classarium: Aufzeichnungen der Jahre, 1947–1951. B.: Duncker a. Humbolt, 1991. 364 S.
References
Ahiezer A.S. Rossija: Kritika istoricheskogo opyta (Sociokul'turnaja dinamika Rossii). 2-e izd., pererab. i dop. Novosibirsk: Sibirskij hronograf, 1997. Vol. 1. 804 p.
Aleksandr Ivanovich Guchkov rasskazyvaet… Vospominanija predsedatelja Gosudarstvennoj dumy i voennogo ministra Vremennogo pravitel'stva. Moscow: TOO Red. zhurn. «Voprosy istorii», 1993. 143 p.
Bunin I.A. Okajannye dni. Saint Petersburg: Azbuka-klassika, 2003. 320 p.
Dnevnik L.A. Tihomirova, 1915–1917 gg. M.: ROSSPEN, 2008. 440 p.
Feller U. Vnutrennij vrag: Shpionomanija i zakat imperatorskoj Rossii. Moscow: NLO, 2009. 376 p.
Fevral'skaja revoljucija 1917 g.: Sb. dok. i mat. Moscow: RGGU, 1996. 353 p.
Gajda F. Liberal'naja oppozicija na putjah k vlasti (1914 – vesna 1917 g.). Moscow: ROSSPEN, 2003. 432 p.
Gippius Z. Dnevniki. Moscow: NPK «Intelvok», 1999. Vol. 1. Sinjaja kniga. Peterburgskij dnevnik. 736 p.
Glebova I.I. Eshhe odin kamen' v fundament rossijskoj identichnosti: Vspominaja «zabytuju vojnu» // Trudy po rossievedeniju: Sb. nauch. tr. Moscow: INION RAN, 2014. Is. 5. P. 329–347.
Gor'kij M. Nesvoevremennye mysli: Zametki o revoljucii i kul'ture. Saint Petersburg: Izd. Azbuka-klassika, 2005. 224 p.
Kolonickij B.I. Simvoly vlasti i bor'ba za vlast': K izucheniju politicheskoj kul'tury rossijskoj revoljucii 1917 g. Saint Petersburg: Dm. Bulanin, 2001. 349 p.
Kurenyshev A.A. Krest'janstvo i ego organizacii v pervoj treti HH veka. Moscow: Gos. istoricheskij muzej, 2000. 222 p.
Late imperial Russia: Problems and prospects / Essays in honor of R.B. McRean. N.Y., 2005. 208 p.
Paleolog M. Carskaja Rossija nakanune revoljucii: Reprint. vosproizv. izd. 1923 g. Moscow: Politizdat, 1991. 494 p.
Petrogradskaja gazeta. 1917. 11 Jul.
Pivovarov Ju.S. Russkoe nastojashhee i sovetskoe proshloe. Moscow; Saint Petersburg: Centr gumanitarnyh iniciativ; Universitetskaja kniga, 2015. 336 p.
Rossija 1917 g. v jego-dokumentah: Vospominanija. Moscow: ROSSPEN, 2015. 510 p.
Russia in the European context, 1789–1914: A member of the family. N.Y., 2005. 238 p.
Schmitt C. Classarium: Aufzeichnungen der Jahre, 1947–1951. B.: Duncker a. Humbolt, 1991. 364 S.
Sergeev V.M. Demokratija kak peregovornyj process. Moscow: Moskovskij obshhestvennyj nauchnyj fond; OOO «Izdat. centr nauchnyh uchebnyh programm», 1999. 148 p.
Struve P.B. Intelligencija i revoljucija // Vehi: Intelligencija v Rossii. Sb. st., 1909–1810 gg. Moscow: Molodaja gvardija, 1991. P. 136–152.
Vrangel' P.N. Zapiski (nojabr' 1916 – nojabr' 1920 g.): v 2 kn. Moscow: Menedzher, 1991. Kn. 1. 293 p.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































