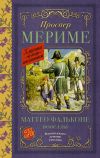Текст книги "Предательство интеллектуалов"

Автор книги: Жюльен Бенда
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Отметим другую заслуживающую внимания форму поощрения интеллектуалами партикуляризма: возвеличение особой морали и презрение к морали всеобщей. Как известно, целая школа, включающая не только политических и общественных деятелей, но и солидных философов, в течение полувека доказывает, что народ должен составить понятие о своих правах и обязанностях, обусловленное изучением его особого духа, его истории, его географического положения и конкретных обстоятельств, в которых он находится, а не велениями иллюзорного сознания человека всех времен и народов; что класс должен построить для себя шкалу блага и зла, определенную рассмотрением его особых нужд, особых целей, особых условий его жизненной среды, и не помышлять о «справедливости самой по себе», «гуманности самой по себе» и другой «мишуре» общей морали. Сегодня мы наблюдаем у интеллектуалов, в лице Барреса, Морраса, Сореля и даже Дюркгейма[218]218
О связи суждений Дюркгейма и французских традиционалистов см.: D. Parodi. La Philosophie contemporaine en France, p. 148.
[Закрыть], полный крах той формы души, которая от Платона и до Канта требовала, чтобы в сердце беспристрастного вечного человека было понятие блага. К чему ведет учение, призывающее группу людей назначить себя единственным судьей нравственности своих действий (обожествление группой собственных вожделений, узаконение применяемого ею насилия, невозмутимость в осуществлении своих замыслов), – это мы видели на примере Германии в 1914 году. Возможно, мы когда-нибудь увидим это во всей Европе на примере буржуазии, если только нам не доведется увидеть это на примере рабочего класса, способного обратить ее доктрины против нее самой[219]219
«Одна Германия вправе судить о своих методах» (майор фон Дитфурт, ноябрь 1914 года). – Философия национальной морали представляется главным образом немецкой. Не примечательно ли, что Гегель и Целлер категорично утверждают, будто Платон в «Государстве» дал определение блага, действительное лишь для греков, а не для всех народов? (См.: P. Janet. Histoire des idées politiques, t. I, p. 140.)
[Закрыть].
Осмелюсь сказать, что возмущение ряда французских моралистов действиями Германии в 1914 году не перестает удивлять меня, когда я думаю о том, что шестнадцатью годами ранее, во время уже упоминавшегося мною судебного процесса, эти моралисты проповедовали соотечественникам ту же самую доктрину, побуждая их отбросить понятие абсолютной справедливости, к которому апеллировали «нелепые метафизики», и желать только справедливости, «соответствующей Франции», ее особому духу, особой истории, особым извечным потребностям и нынешним запросам[220]220
«Вот что профессора еще обсуждают насчет истины и справедливости, – писал Баррес в 1898 году, – когда всякий уважающий себя человек знает, что надо всегда рассматривать, является ли такое-то отношение справедливым между двумя определенными людьми, в определенный период времени, в конкретных условиях». Именно это ответит Германия 1914 года своим обвинителям. – Повторю: во Франции до Барреса мы не найдем ни одного моралиста, будь то де Местр или Бональд, который сказал бы, что «всякий уважающий себя человек» мыслит только справедливость, продиктованную обстоятельствами.
[Закрыть]. Я охотно сказал бы – радея об их чести, а вернее, об их последовательности, – что их возмущение в 1914 году не зависело ни от какого нравственного убеждения, а было связано только с желанием выставить в невыгодном свете перед простодушными людьми врага своей нации.
Отношение интеллектуалов к нравственности сегодня лучше многого другого показывает их решимость – и умение – служить мирским страстям. Призывать соотечественников считаться только с личной моралью и отвергать всякую мораль общего характера – значит выказывать себя мастерами в искусстве поддерживать в них волю отличаться от всех прочих людей, т.е. в искусстве совершенствовать в них национальную страсть, по крайней мере в одном из ее видов. Стремление быть себе единственным судьей и пренебрежение любым мнением других – бесспорно, признак силы нации, как и всякое проявление гордости – признак силы социального образования, чей органический принцип, что бы ни говорили, есть утверждение «я», противополагаемого «не-я». Германию в последнюю войну погубила вовсе не «беспредельная гордость», вопреки мнению тех мечтателей, которые всеми средствами пытаются доказать, что порочность души – это фактор слабости в практической жизни. Германию погубило то, что ее материальная сила не была равновелика ее гордости. Когда гордость находит соответственную материальную силу, она отнюдь не губит народы: об этом свидетельствуют Рим и Пруссия Бисмарка. Интеллектуалы, которые тридцать лет призывали Францию стать единственным судьей своих действий и не обращать внимания на вечную мораль, демонстрировали ясное понимание национального интереса, поскольку интерес этот – в высшей степени реалистический и не имеет ничего общего с бескорыстной страстью. Остается опять-таки решить, призваны ли интеллектуалы служить интересам такого рода.
Современные интеллектуалы обрекают на людское презрение не только всеобщую мораль, но и всеобщую истину. Тут интеллектуалы проявили себя, право же, гениальными в своем старании служить мирским страстям. Очевидно, что истина – большая помеха для намеревающихся утвердиться в своих отличиях: коль скоро они ее принимают, они принуждены сознавать себя во всеобщем. Какая радость для них – узнать, что это всеобщее лишь фантом, что существуют одни только частные истины, «истины лотарингские, провансальские, бретонские, согласие между которыми, устанавливавшееся веками, определяет то, что благотворно, почитаемо, истинно во Франции»[221]221
«Призыв к оружию»*. Сравните это с традиционным французским учением, наследником которого объявляет себя Баррес: «В какой бы стране вы ни жили, вы должны верить лишь в то, что истинно и во что вы были бы расположены верить, если бы жили в другой стране» («Логика Пор-Рояля», III, xx)*. – Не надо думать, что догма о национальных истинах касается только моральной истины. Недавно мы были свидетелями возмущения французских интеллектуалов тем фактом, что их соотечественники приняли доктрины Эйнштейна без особого сопротивления.
[Закрыть](соседи наши говорят об истинном в Германии); иными словами, им приятно узнать, что Паскаль – не более чем грубый ум, что истина по сю сторону Пиренеев – полнейшее заблуждение по другую*. – Подобное поучение человечество слышит и относительно класса: оно узнает, что есть буржуазная истина и рабочая истина; что даже функционирование нашего разума различно в зависимости от того, рабочие мы или буржуа. Источник ваших зол, назидает Сорель трудящихся, в том, что вы не усвоили способ мышления, подходящий вашему классу; его ученик Жоанне говорит то же самое капиталистическому миру. Быть может, скоро мы будем пожинать плоды этого подлинно высочайшего искусства современных интеллектуалов обострять у классов чувство своего отличия.
Преклонение перед частным и презрение к общему – это ниспровержение ценностей, характерное для всего мировоззрения современного интеллектуала и провозглашаемое им в гораздо более высокой области мысли, чем политика. Как известно, метафизика, принимаемая в последние двадцать лет почти всеми, кто мыслит или выставляет себя мыслящим, полагает высшим состоянием человеческого сознания такое состояние – «длительность», – когда мы постигаем в себе то, что есть в нас наиболее индивидуального, наиболее отличного от всего, что нам не тождественно, и освобождаемся от тех форм мышления (понятие, рассудок, правила языка), посредством которых мы можем познать в себе только то, что обще у нас с другими. Эта метафизика полагает наивысшей формой познания внешнего мира ту, при которой вещь постигается в ее единственности, в ее отличии от всякой другой вещи; она выражает крайнее презрение к разуму, который стремится открыть общее в бытии. Сегодня мы столкнулись с явлением, ранее неизвестным, по крайней мере не получившим такого развития: метафизикой, проповедующей культ случайного и презрение к вечному[222]222
Культ случайного самого по себе; Лейбниц и даже Спиноза высоко оценивали познание «единичных вещей» как ступень на пути к вечному. – Ренувье, столь враждебный определенного рода универсализму, никогда не придавал философского значения познанию предмета в его «единственности и невыразимости». (См.: G. Séailles. Le pluralisme de Renouvier, «Revue de Métaphysique et de Morale», 1925.) Он никогда не подписал бы такой вот хартии современной метафизики: «Что философы со времен Сократа соревновались, кто больше всех презирает знание частного и больше всех почитает знание общего, – это превосходит наше понимание. Ведь, в конце концов, разве не должно быть самое почитаемое знание знанием самых ценных реальностей? А какая ценная реальность не конкретна и не единична?» (Уильям Джемс).
[Закрыть]. Ничто не показывает нам убедительнее, насколько глубока у современного интеллектуала воля к возвеличению реального – практического – мира существования и принижению мира идеального, или собственно метафизического. Напомним, что в истории философии почитание единичного, индивидуального – это вклад немецких философов (Шлегеля, Ницше, Лотце), тогда как метафизическое преклонение перед всеобщим (соединенное даже с некоторым пренебрежением к экспериментальному) – преимущественно греческое наследие человеческого разума; так что и в этом отношении учение современных интеллектуалов в его глубинных особенностях означает торжество германских ценностей и поражение греческой культуры.
Наконец, я хотел бы отметить еще одну, довольно любопытную, форму, какую принимает у интеллектуалов пропагандирование партикуляризма: их призыв к тому, чтобы рассматривать всякую вещь лишь как существующую во времени, т.е. как последовательность конкретных состояний, «становление», «историю», а не как нечто вневременное, нечто пребывающее, что скрывается за этой последовательностью различных состояний. Ви́дение вещей в историческом аспекте, утверждают они, – единственно серьезное и единственно философское, потребность же созерцать их в модусе вечности сродни детскому интересу к вымыслам и вызывает улыбку. Надо ли доказывать, что эта концепция вдохновляет всю современную мысль? Есть большая группа литературных критиков, для которых, по их собственному признанию, вопрос, прекрасно ли произведение, отступает на второй план – гораздо важнее, отражены ли в нем «требования эпохи», «дух современности»[223]223
Недавно солидный литературный журнал упрекал одного критика (г-на Пьера Ласерра) в неспособности понять «современную литературу».
[Закрыть]. Сформировалась целая школа историков-моралистов, которые восхищаются какой-либо доктриной не потому, что она верна и совершенна сама по себе, а потому, что она в совершенстве воплощает мораль своего времени, дух науки своего времени (в основном по этой причине Сорель восхищается бергсонизмом, а Ницше – философией Николая Кузанского). И конечно, историческое видение мира свойственно, в первую очередь, всем нашим метафизикам; проповедуют ли они Entwickelung*, длительность, творческую эволюцию, плюрализм, интегральный опыт или конкретно-всеобщее, все они учат, что абсолют развивается во времени, в обусловленной обстоятельствами среде, и провозглашают упадок той формы духа, которая от Платона до Канта освящает существование, мыслимое вне изменения[224]224
Как ни странно, эта метафизика исторического обнаруживается и у поэтов. Известно преклонение Клоделя перед «настоящей минутой» («потому что она отличается от всех других минут; она не просто граница одного и того же количества прошлого»); уже Рембо говорил: «Нужно быть безусловно современным». – Напомним также, что для некоторых христиан догма имеет силу лишь относительно какого-то времени. И здесь тоже партикуляризм, очевидно, был открыт немцами: «Нет такого изложения морали, которое было бы единым для всех времен христианской церкви: каждое из них полноценно лишь для определенного периода» (Шлейермахер). О германских чертах этой воли рассматривать всякую вещь в ее становлении см.: Parodi. Le Problème moral et la Pensée contemporaine, р. 255.
[Закрыть]. Если согласиться с Пифагором, что Космос – это область упорядоченного и единообразного существования, а Уран – область становления и подвижности*, то можно сказать, что вся современная метафизика помещает на вершину иерархии ценностей Уран и не очень-то жалует Космос. Разве не примечательно: интеллектуал, в высоком звании метафизика, поучает мирского, что важно только реальное, тогда как сверхчувственное достойно лишь снисходительной усмешки?[225]225
Эти взгляды на современную религию частного, мне кажется, мало затрагивает недавнее появление философской школы (неотомизм), которая противопоставляет религию Бытия религии Становления; ясно, что, несмотря на определенные декларации в духе универсализма, человеческое Бытие, по мнению основателей этой школы, в действительности принадлежит только им и их группе (хоть группа здесь и превосходит нацию); один из них с удовольствием сказал бы, как тот христианин II века: «Люди – это мы; прочие – свиньи и псы». – Думаю, не стоит придавать значение и тем разновидностям партикуляризма, когда утверждают, что, трудясь ради себя самих, трудятся ради всеобщего, поскольку всеобщее представлено именно той группой, которую поддерживают («Я потомок римлян – я человек» (Моррас); «Я германец – я человек» (Фихте) и т.д.). Однако эти притязания показывают, что всеобщее, вопреки доктринам, остается «престижным».
[Закрыть]
Но интеллектуалы оживили своими доктринами реализм мирских не только восхваляя частное и пороча всеобщее; они поместили на вершине иерархии нравственных ценностей обладание конкретными преимуществами, временной силой и средствами, которые их доставляют, и обрекли на людское презрение искание собственно духовных благ, непрактических, или не сопряженных с выгодой, ценностей.
Это касается, прежде всего, отношения к государству. Те, кто на протяжении двадцати столетий проповедовали миру, что государство должно быть справедливым, теперь провозглашают, что государство должно быть сильным и безразличным к справедливости (мы помним позицию известных французских ученых в деле Дрейфуса). Убежденные в том, что государства сильны в меру их авторитарности, они защищают автократические режимы, правительства, действующие по произволу – в государственных интересах, религии, призывающие к слепому повиновению власти, и предают анафеме установления, основанные на свободе и дискуссии[226]226
См. прим. J.
[Закрыть]. Резко отрицательная оценка либерализма огромным большинством писателей и публицистов – одно их тех явлений нашего времени, которые более всего удивят историю, в особенности со стороны французских литераторов. Устремив взоры на сильное государство, они превозносят государство прусского образца, где царит строгая дисциплина, где каждый стоит на своем посту и, выполняя распоряжения сверху, трудится ради величия нации, так что здесь не остается места для воли индивидуумов[227]227
О преклонении перед «прусским образцом» даже у английских интеллектуалов см.: Eliе Halévy. Histoire du peuple anglais; Epilogue, liv. II, chap. I.
[Закрыть]. Вследствие преклонения перед сильным государством (а также и по другим причинам, о которых мы скажем далее) они желают, чтобы в государстве преобладал военный элемент, имеющий привилегированный статус, и чтобы его права на привилегии были признаны гражданским элементом (см. «Призыв к оружию», заявления многих писателей во время острой полемики по делу Дрейфуса). Мыслящие люди проповедуют унижение тоги перед шпагой – вот что ново в их корпорации, особенно в стране Монтескьё и Ренана. Наконец, они проповедуют, что государство тем более должно быть сильным и безразличным к справедливости в своих отношениях с другими государствами; они восхваляют в главе нации волю к возвышению, стремление восстановить «правильные границы», желание властвовать над соседями и санкционируют средства, которые, с их точки зрения, могут обеспечить эти блага: внезапное нападение, хитрость, недобросовестность, пренебрежение договорами. Мы знаем, что эта апология макиавеллизма уже полвека вдохновляет всех немецких историков, а у нас исповедуется довольно авторитетными учеными, призывающими Францию почитать своих королей, которые были-де живыми воплощениями чисто практического разума, как бы плутоватыми крестьянами (см. у Ж. Бенвиля), нисколько не соблюдавшими какую-то нелепую справедливость в отношениях с соседями.
Чтобы ясно показать новизну позиции интеллектуала, напомню знаменитое возражение Сократа реалисту из «Горгия»: «Ты хвалишь людей, которые кормили афинян, доставляя им то, чего они желали. Говорят, будто они возвеличили наш город, а что из-за этих прежних правителей он раздулся в гнойную опухоль, того не замечают. А между тем они, прежние, набили город гаванями, верфями, стенами, податными взносами и прочим вздором, забыв о воздержности и справедливости. И когда наконец приступ бессилия все-таки разразится, винить афиняне будут советчиков, которые в ту пору случатся рядом, а Фемистокла, Кимона, Перикла – виновников своих бедствий – будут хвалить»*. Можно сказать, что вплоть до наших дней провозглашенное в этих строках главенство духовного признавали, по крайней мере в теории (но о теориях-то и речь), все те, кто явно или неявно предлагали миру шкалу ценностей; признавала церковь; признавали Возрождение и XVIII век. Сегодня мы угадываем насмешку Барреса или какого-нибудь итальянского моралиста (если говорить лишь о представителях романских народов) над этим презрением к силе и возвеличением справедливости и чувствуем их недовольство тем, как афинский мыслитель судит людей, обеспечивших его родному городу временное могущество. Для Сократа, являющего здесь совершенный образец интеллектуала, верного своей сущности, гавани, верфи, стены – все это «вздор»; серьезны только справедливость и воздержность. Для тех, кто сейчас выступает в его роли, вздор («облако»)*, наоборот, справедливость, а вещи серьезные – верфи и стены. Интеллектуал в наши дни стал служить делу войны. А один современный моралист, из самых уважаемых, недвусмысленно одобрил судей, которые, будучи исправными охранителями земных интересов, приговорили Сократа к смерти[228]228
Sorel. Le procès de Socrate.
[Закрыть]; такого от воспитателей человеческой души еще не слыхали с того дня, когда Критон закрыл глаза своему учителю.
Я сказал: современные интеллектуалы проповедуют, что государство должно быть сильным и безразличным к справедливости; и в самом деле, они придали этому утверждению характер проповеди, морального поучения. Тут их оригинальность невозможно переоценить. Когда Макиавелли советует государю известного рода действия, он не считает эти действия ни моральными, ни прекрасными; мораль для него – по-прежнему то же, что и для всех, ибо он не без печали удостоверяет, что ее трудно совместить с политикой. Государь, говорит он, «должен быть всегда готов обернуться в любую сторону... не отклоняться от добра, если это возможно, но уметь вступить на путь зла, если это необходимо»*. Отсюда ясно, что, по мнению Макиавелли, зло остается злом, даже если служит политике. Современные же реалисты – это моралисты реализма; для них действие, умножающее силу государства, уже по одной этой причине приобретает, при всех обстоятельствах, моральный характер; зло, которое служит политике, перестает быть злом и становится благом. Эта позиция очевидна у Гегеля, у пангерманистов, у Барреса и в неменьшей степени у таких реалистов, как Ш. Моррас и его приверженцы, несмотря на их неоднократные заявления, что они не исповедуют морали. Может быть, они не исповедуют морали (во всяком случае, в открытой форме) в том, что касается частной жизни, но определенно исповедуют ее в политической области, если называть моралью все, что устанавливает шкалу блага и зла; для них, как и для Гегеля, в сфере политики практическое есть моральное, а то, что все называют моральным, если оно мешает практическому, есть аморальное. Таков истинный – вполне моралистический – смысл известной кампании, развернутой в целях пропаганды ложного патриотизма. Пожалуй, можно даже сказать, что для Ш. Морраса практическое есть божественное и что его «атеизм» состоит не столько в отрицании, сколько в перемещении Бога – перенесении его в человека и в политическую жизнь; полагаю, я верно охарактеризовал начинание Морраса как обожествление политического[229]229
Это прекрасно поняли стражи духовного, которые осудили его, чем бы они ни руководствовались. Точнее говоря, Моррас в своем творчестве делает страсть человека к основанию (или укреплению) государства предметом религиозного поклонения, земное превращает в трансцендентное. В таком смещении трансцендентного – секрет большого влияния Морраса на современников. Ведь современники, особенно в нерелигиозной Франции, только и ждали подобной доктрины – судя по шумному успеху этого писателя. Его почитатели словно кричали: «Наконец-то нас избавили от Бога; наконец-то нам позволяют поклоняться себе самим и, в нашем стремлении стать великими, не быть добрыми; нам указывают идеал в реальности; на земле, а не в небесах». В этом смысле творчество Морраса равнозначно творчеству Ницше («будьте верны земле»), с той лишь разницей, что немецкий мыслитель обожествляет в человеке анархические страсти, а французский – страсти организующие. Оно равнозначно также творчеству Бергсона и Джемса, поскольку утверждает ту же мысль: реальное есть единственный идеал. Такое обмирщение божественного можно соотнести и с творчеством Лютера.
[Закрыть]. Это смещение морали – несомненно, самое важное дело современных интеллектуалов, оно должно более всего привлечь внимание историка. Понятно, какой поворот происходит в истории человечества, когда говорящие от имени рефлексивной мысли учат людей, что их политический эгоизм божествен и все, что ведет к его ослаблению, является упадочническим. Следствия этого учения мы видели на примере Германии в 1914 году[230]230
Мораль макиавеллизма со всей ясностью провозглашается в следующих строках, в которых всякий нелицемерный ум признáет (отвлекаясь от стиля) учение всех нынешних преподавателей реализма, независимо от их национальности: «В отношениях с другими государствами правитель не должен считаться ни с законом, ни с правом, если это не право сильного. Отношения эти вверяются ему, отдаются под его ответственность божественным правом Судьбы и миропорядка и возносят его над предписаниями индивидуальной морали, заставляя исполнять высшее моральное веление, содержание которого заключено в словах: «Salus populi suprema lex esto [Да будет благо народа высшим законом!]» (Фихте, цит. по: Andler. Op. cit., p. 33). Мы видим прогресс по сравнению с Макиавелли.
[Закрыть].
Можно отметить и такую инновацию интеллектуалов. До наших дней люди знали только два учения о связи политики и морали: по Платону, «мораль определяет политику», по Макиавелли, «политика не имеет никакого отношения к морали». Теперь они знают третье: «Политика, – назидает Моррас, – определяет мораль»[231]231
Учение этого писателя можно привести в такую форму: «Все, что является благом с политической точки зрения, есть благо; иного критерия блага я не знаю»; это позволяет ему утверждать, что он ничего не говорит относительно частной морали.
[Закрыть]. Однако истинная новизна не в том, что людям преподносят эту догму, а в том, что они к ней прислушиваются. Еще Калликл объявлял, что сила – единственная мораль; но мыслящий мир презирал его. (Напомним также, что на Макиавелли сыпались проклятия большинства моралистов его времени, по крайней мере во Франции.)
Современный мир знает и других моралистов реализма, которые в качестве таковых тоже не испытывают недостатка в доверии: это государственные деятели. Отмечу здесь ту же перемену, что и выше. Раньше главы государств придерживались реализма, но не почитали его; Людовик XI, Карл V, Ришельё, Людовик XIV не претендовали на моральность своих действий; они видели мораль там, где им ее показало Евангелие, и не пытались сместить ее, оттого что не следовали ей на практике[232]232
На скрижали блага и зла, оставленной в «Политическом завещании» Ришельё и в «Мемуарах Людовика XIV в назидание дофину», мог бы расписаться Винцент де Поль. Тут мы читаем: «Короли должны быть весьма осторожны при заключении договоров, но когда они заключены, их надлежит свято соблюдать. Я знаю, многие политики учат обратному; но, даже не принимая в соображение того, что может противопоставить таким принципам христианская вера, я утверждаю, что, поскольку потерять честь – это больше, чем потерять жизнь, великий государь должен скорее подвергнуть риску себя самого и даже интересы государства, нежели изменить своему слову, которое он не может нарушить, не погубив своего доброго имени, в коем кроется величайшая сила суверена» (Richelieu. Testament politique, 2-е part., сhap. VI).
[Закрыть]; несмотря на все совершенные ими насилия, они ни в чем не погрешили против цивилизации – мораль нарушалась, но моральные понятия оставались неприкосновенными. А вот Муссолини провозглашает моральность своей политики силы и аморальность всего, что ей препятствует; как и писатель, человек у власти, прежде бывший только реалистом, ныне стал апостолом реализма, а придает ли вес его апостольству величие его государственного поста, за неимением величия личности, – это нам известно. Заметим, впрочем, что в наше время правящий, поскольку он обращается к массам, обязан быть моралистом, представлять свои действия сопряженными с некой моралью, метафизикой, мистикой. Ришельё, отдающий отчет лишь королю, может говорить только о вещах практических, оставляя на долю других осматриваться в вечности; Муссолини, Бетман-Гольвег, Эррио принуждены томиться на этих высотах[233]233
То же касается и писателя. Макиавелли, говорящий с теми, кто ему равен, может позволить себе роскошь не быть моралистом, Моррас, говорящий с массами, – нет: в демократическом государстве невозможно писать без серьезных последствий. Кроме того, политическая деятельность, которая сопровождается деятельностью моральной, доказывает, что политик хорошо понимает подлинные условия своего успеха. Человек, сведущий в этих вопросах, сказал: «Не может быть глубокой политической реформы без реформирования религии и морали» (Гегель). Особое влияние газеты «L’Action française», в сравнении с прочими консервативными органами печати, несомненно, связано с тем, что возглавляемое ею политическое движение сопровождается моральным учением, хотя другие интересы заставляют ее это отрицать.
[Закрыть]. Отсюда ясно к тому же, как велико сегодня число тех, кого я могу назвать интеллектуалами – ведь я именую этим словом тех, кто обращается к миру, указывая на трансцендентное, – и у кого я вправе потребовать отчета в их деятельности в качестве таковых.
Проповедники политического реализма часто выражают согласие с учением церкви, но когда оно осуждает их положения, объявляют его лицемерным. Эта позиция, мало обоснованная, если речь идет об учении церкви до XIX века, гораздо более обоснованна в нынешнюю эпоху. Сомневаюсь, что у современного теолога еще можно найти столь резкое порицание захватнической войны, как, например, такое: «Мы видим, насколько несправедлива и возмутительна война, когда ее объявляют лишь из властолюбия и из желания расширить свое господство в нарушение законных границ; из одного только страха перед растущим могуществом соседнего государя, с которым живут в мире; из жадного стремления завладеть страной более удобной, чтобы там обосноваться, или, наконец, из желания сокрушить соперника единственно потому, что его считают недостойным благ или государств, коими он владеет, или же права, полученного им по закону, – ибо это вызывает беспокойство, от которого хотят избавиться с помощью вооруженной силы»[234]234
Dictionnaire des cas de conscience (édit. 1721), art. «Guerre». Заметим, что с подобной моралью территориальное формирование любого европейского государства было бы невозможно. Это образец непрактического учения, т.е., по нашему мнению, учения истинно духовного человека. (О том, как должны принимать это учение в миру, см. прим. Е на с. 217.) Для Виктории тоже расширение державы – дело неправое.
[Закрыть]. Наоборот, в наши дни не счесть сочинений, где мы без труда найдем оправдания для всех завоевательных действий, – такие, например, как положение, согласно которому война является справедливой, «если начавший ее может сослаться на необходимость сохранить общее благо или общественное спокойствие, возвратить несправедливо отнятое, подавить мятеж, защитить невинных»[235]235
Этот тезис, выдвинутый Альфонсо ди Лигуори, превалирует сейчас в учении церкви над тезисом Виктории.
[Закрыть]; или другое положение, гласящее: «Война справедлива, когда она необходима для нации либо чтобы защитить ее от вторжения, либо чтобы устранить препятствия к осуществлению ее прав»[236]236
Кардинал Гуссе (Gousset. Théologie morale, 1845).
[Закрыть]. Церковь, которая еще в начале нынешнего столетия учила, что война между двумя государствами может быть справедливой только с одной стороны[237]237
Это схоластическая доктрина войны, в строгом виде сформулированная Фомой Аквинским. Государь (или народ), объявляющий войну, действует как магистрат (minister Dei*), под юрисдикцию которого подпадает другая страна, совершившая несправедливость и отказывающаяся ее исправить. Отсюда следует, в частности, что государь, объявивший войну и ставший победителем, должен только наказать виновного, не извлекая из своей победы никакой личной выгоды. Сегодня эта высокоморальная доктрина церковью забыта. (См.: Vanderpol. La Guerre devant le christianisme, titre IX.)
[Закрыть], явно отказалась от этого принципа и теперь исповедует, что война может быть справедливой одновременно с обеих сторон, «если каждый из двух противников не уверен в своем праве и, соглашаясь с государственными советниками, рассматривает его просто как вероятное»[238]238
Этот принцип, очевидно, был принят Святым престолом в 1914 году, во время франко-германского конфликта. Для католической церкви Германия пользовалась преимуществом незнания, называемого в теологии «непреодолимым», т.е. означающего, что приложено все возможное старание к тому, чтобы понять объяснения противника. Думается, нужна была добрая воля, чтобы признать за Германией право на это преимущество.
[Закрыть]. Такая позиция церкви чревата последствиями. Важно и то, что в прошлом справедливой могла быть сочтена только война с противником, совершившим несправедливость, сопряженную с моральным намерением, а сегодня – даже война, развязанная единственно по причине материального ущерба, нанесенного неумышленно[239]239
Это – как и положение о войне, справедливой с обеих сторон, – содержится в доктрине Молины, полностью вытеснившей из учения церкви в области военного права схоластическую доктрину.
[Закрыть](например, из-за случайного перехода границы). Наполеон и Бисмарк наверняка нашли бы сегодня в учении церкви больше, чем когда-либо, аргументов в оправдание всех своих захватов[240]240
В «Dictionnaire théologique» (éd. Vacant-Mangenot, 1922, art. «Guerre») я обнаружил текст, который рекомендую всем агрессорам, желающим прикрыться высоким моральным авторитетом: «Глава нации не только вправе, но и обязан прибегнуть к этому средству [войне], выполняя возложенную на него миссию защиты общих интересов. Это право и эта обязанность касаются не только строго оборонительной войны, но и войны наступательной, ставшей необходимой из-за происков сопредельного государства, амбициозные замыслы которого создают реальную опасность». – В той же статье словаря мы находим теорию колониальных войн, идентичную теории Киплинга, именующего их бременем белого человека.
[Закрыть].
Такой реализм современные интеллектуалы проповедуют не только нациям, но и классам. И рабочему классу, и буржуазии они говорят: организуйтесь, станьте сильнее, возьмите в свои руки власть или постарайтесь удержать ее, если вы ею уже обладаете; не пытайтесь водворить в ваших отношениях с враждебным классом больше милосердия, больше справедливости или иной «чуши»[241]241
Выражение Сореля (см. нашу работу: Sentiments de Critias, р. 258); и еще: «До чего же отвратительны люди, внушающие народу, будто он должен исполнять какое-то неведомое, в высшей степени идеальное веление справедливости, устремленной в будущее» («Размышления о насилии», гл. III). Автор, впрочем, изъявляет такое же отвращение и к тем, кто проповедует это веление справедливости буржуазии.
[Закрыть], которой вас одурачивали долгие годы. И опять они не говорят рабочим: станьте такими, потому что это диктуется необходимостью; они говорят (вот в чем вся новизна): станьте такими, потому что этого требует мораль, эстетика; стремиться быть сильным – признак души возвышенной, стремиться быть справедливым – признак низкой души. Таково учение Ницше[242]242
См. прим. К.
[Закрыть]и Сореля, которым рукоплещет вся так называемая мыслящая Европа; эта Европа, в той мере, в какой ее привлекает социализм, восторгается доктриной Маркса и выказывает пренебрежение к доктрине Прудона[243]243
См.: Сорель. Размышления о насилии, гл. VI: «Моральность насилия». Нам возразят, что справедливость, которую развенчивает Сорель, – это справедливость судов, т.е., по его убеждению, мнимая справедливость, «насилие под личиной права». Но мы что-то не видим, чтобы истинная справедливость была у него в большем почете.
[Закрыть]. – Тем же языком интеллектуалы говорят и с партиями, борющимися внутри одной нации: станьте сильнейшими, взывают они к той или другой партии, в зависимости от своего пристрастия, и устраните все, что вас сковывает; избавьтесь от глупости, которая велит вам отдать противнику полагающееся и вместе с ним установить социальный строй, проникнутый справедливостью и гармонией. Известно восхищение целой армии «мыслителей» разных стран итальянским правительством, попросту объявляющим вне закона всех своих сограждан, которые его не одобряют. Вплоть до наших дней воспитатели человеческой души, преемники Аристотеля, призывали человека порицать государство, если оно превратилось в организованную мятежную группировку; выученики г-д Муссолини и Морраса толкуют об уважении к подобному государству[244]244
В связи с этим нелишне отметить, что некоторые политические лидеры выступают с апологией нетерпимости – выступают осознанно, с гордостью, примеры которой до сих пор являли иногда лишь посвященные в религию откровения. Образчик такой апологии приводится у Ж. Ги-Грана (G. Guy-Grand. La Philosophie nationaliste, p. 47); еще один пример см. у Л. Ромье (L. Romier. Nation et Civilization, p. 180).
[Закрыть].
Превознесение «сильного государства» выливается у современного интеллектуала в ряд учений, которые, можно с уверенностью сказать, крайне удивили бы его предшественников, во всяком случае великих.
1. Утверждение прав обычая, истории, прошлого (естественно, постольку, поскольку они освящают навязанные силой режимы) в противоположность правам разума. Я говорю «утверждение прав обычая»; ведь современные традиционалисты не просто учат, как Декарт или Мальбранш, что обычай – это в общем и целом нечто благотворное, чему предпочтительнее повиноваться, нежели противиться: они учат, что на стороне обычая – некое право, вернее право вообще, и, следовательно, его надо уважать не только ради пользы, но и ради самой справедливости. Программные положения об «историческом праве» Германии на Эльзас, об «историческом праве» французской монархии – это не чисто политические позиции, а позиции моральные; их отстаивают во имя «здравой справедливости», о которой у тех, кто их не разделяет, сложилось, само собой разумеется, ошибочное представление[245]245
«Современная наука установила как мерило истины не дедуктивные требования рассудка, а констатированное существование факта» (Поль Бурже). Под «истиной» здесь явно понимается моральная истина; применительно к научной истине фраза была бы тривиальной. Факт же здесь – единственно то, что отвечает пристрастиям автора. Когда г-н д’Оссонвиль указывает Полю Бурже на то, что демократия есть факт, и даже факт непреложный, ему возражают, что это – «предубеждение», и он неожиданно узнает, что «лодки строят, чтобы плыть против течения». То же самое, в сущности, говорят и революционеры.
[Закрыть]. Справедливое, определяемое через свершившийся факт, – безусловно новое учение, особенно для народов, в течение двадцати столетий черпавших свои понятия о справедливом у единомышленников Сократа. И конечно, здесь тоже душа Греции сменилась у воспитателя человека душою Пруссии. Во всех наставниках Европы – как средиземноморской, так и германской – заговорил дух Гегеля: «Всемирная история есть всемирный суд» (Weltgeschichte ist Weltgericht).
2. Превознесение политики, основанной на опыте, т.е. политики, согласно которой общество должно управляться принципами, доказавшими, что они могут сделать его сильным, а не «химерами», нацеленными на то, чтобы сделать его справедливым. Именно в этом узкопрактическом смысле преклонение перед опытной политикой ново для интеллектуалов; ибо если понимать под этим словосочетанием соблюдение принципов, которые показали себя способными сделать общество не только сильным, но и справедливым, то подобную политику, в противоположность политике чисто рациональной, советовали в мыслящем мире задолго до приверженцев Тэна или Огюста Конта[246]246
См. прим. L.
[Закрыть]. Задолго до наших теоретиков «организующего эмпиризма» Спиноза утверждал, что политическая наука – наука опытная и что условия долговечности государств познаются не только разумом, но и наблюдением (см. его выпад против утопистов, «<Политический> трактат», I, 1); но он считал, что из наблюдения выясняется: для долговечности государству нужно не только иметь хорошую армию и послушный народ, но и соблюдать права граждан и даже соседних народов[247]247
Другой мыслитель, по отношению к которому наши эмпирики проявляют крайнюю неблагодарность, – автор вот этих строк: «Рассудите, сколь опасно однажды привести в движение огромные массы, составляющие французскую нацию. Кто сумеет остановить это движение или предугадать все его возможные последствия? Даже если бы все преимущества нового плана были неоспоримы, какой здравомыслящий человек отважился бы упразднить давние обычаи, изменить давние принципы и придать государству иную форму, нежели та, к которой его привела история длительностью в тысячу триста лет?» (Ж. Ж. Руссо)*.
[Закрыть]. – Преклонение перед опытной политикой сопровождается сегодня у тех, кто ее принимает, явно рассчитанной на публику эффектной позой: известно, с каким неприступным видом, с какой презрительной твердостью, с какой мрачной уверенностью в обладании абсолютной истиной они изрекают, что в политике они «признают только факты». Тут мы констатируем – особенно у французских мыслителей – нового рода романтизм, романтизм позитивизма; нет нужды перечислять читателю его крупнейших представителей. Кроме того, это преклонение обличает духовное упрощенчество, составляющее, собственно, приобретение XIX века[248]248
См. прим. М.
[Закрыть]: убеждение, что учения, которые надо взять из прошлого (если допустить, что они есть), целиком выводятся из анализа фактов, то бишь из анализа осуществившихся намерений, – как будто намерения не осуществившиеся не являются значимыми и, возможно, даже более важными, поскольку это вполне могут быть те, которые теперь выдвигаются на первый план[249]249
«Дух подлинно научный, – говорит один из таких поборников факта, – не испытывает потребности оправдывать привилегию, которая предстает как неустранимая элементарная данность общественной природы» (Поль Бурже). Но тот же «подлинно научный» дух испытывает потребность возмущаться протестом против этой привилегии, каковой протест, однако, также есть «неустранимая элементарная данность общественной природы». – Мне возразят, что протест этот – данность не общественной, а пассионарной природы, в части его противообщественного содержания. Действительно, именно такова, по существу, позиция этого догматизма: общественное рассматривают независимо от пассионарного, превратилось ли последнее в общественное (в результате католического воспитания), или же оно принуждено к молчанию (силой, согласно школе Морраса, либо тонким искусством, согласно школе Бенвиля). И вот что всего любопытнее: рассуждающие подобным образом об общественном самом по себе обвиняют своих противников в том, что они пробавляются абстракциями.
[Закрыть]. Преклонение перед фактом, добавим, это и притязание на то, что наконец найден «смысл истории», открыта «философия истории»; и здесь тоже видна духовная слабость, которой не страдали предыдущие века. Создавая свои философские концепции истории, Боссюэ и Гегель, безусловно, не были в большей степени метафизиками, чем Тэн, или Конт, или какой-нибудь из их горячих приверженцев, но они по крайней мере знали, что они метафизики, что иначе и быть не может, и не были так наивны, чтобы считать себя «чистыми учеными».
3. Утверждение, что политические формы должны быть приспособлены к «человеку, каков он есть и каким будет всегда» (читай – неуживчивым и кровожадным, т.е. постоянно требующим режимов принуждения и военных институтов). Упорное желание стольких современных пастырей уверить людей в неспособности человеческой природы к совершенствованию представляется одним из самых странных аспектов их мировоззрения. Ведь эта позиция, из которой следует ни больше ни меньше, как полная бесполезность их служения, доказывает, что они начисто забыли о его сути. Когда моралисты, воспитатели, признанные духовные наставники, видя человеческое варварство, всенародно объявляют: «таков человек» и «таким его надо принимать», «его не изменишь», хочется спросить у них, в чем же тогда смысл их существования. Услышав в ответ, что они – «позитивные умы, а не утописты» и «заняты тем, что есть, а не тем, что могло бы быть», мы поначалу приходим в изумление: как же им неведомо, что моралист – по сути своей утопист и что объект морального воздействия создают, утверждая его, – в этом особенность такого воздействия. Но потом мы догадываемся, что все это им известно и, в частности, они прекрасно знают, что именно утверждая ее они создадут вечность варварства, необходимую для поддержания высоко ценимых ими институтов[250]250
Подвергаемая здесь критике позиция не имеет ничего общего с позицией недавно появившейся школы моралистов (Ро, Леви-Брюль), которые тоже хотят, «чтобы человека принимали таким, каков он есть», но единственно с целью рассмотреть, как сделать его лучше.
[Закрыть].
Догма о неисправимой порочности человека у некоторых ее адептов, впрочем, имеет иной корень: романтическое удовольствие воображать человеческий род несущим бремя фатального и вечного ничтожества. В наши дни благодаря некоторым политическим писателям, можно сказать, развился настоящий романтизм пессимизма, столь же ложный в своей абсолютности, как и ненавистный ему оптимизм Руссо и Мишле; его высокомерие и мнимо научный подход производят сильное впечатление на бесхитростные души[251]251
У этого пессимизма, что бы ни говорили некоторые из его глашатаев, нет ничего общего с пессимизмом корифеев XVII века. Лафонтен и Лабрюйер не высказывают никаких мыслей о фатальности или вечности живописуемых ими низостей. Напомним также, что романтики пессимизма, с их старанием убить надежду, не могут претендовать на связь с католической традицией (как заметил г-н Жорж Гуайо).
[Закрыть]. Нельзя не признать, что эта доктрина принесла свои плоды за пределами литературного мира. На нее откликнулось человечество, которое уже не верит ни во что, кроме собственного эгоизма, и безжалостно высмеивает наивных людей, по-прежнему думающих, что оно может стать лучше. На этом, безусловно новом, поприще потрудился современный интеллектуал: он научил человека отрицать свою божественность. Мы понимаем все значение проделанной им работы. Стоики утверждали, что подавляют боль, отрицая ее; это спорно в отношении боли, но глубоко верно в отношении способности к нравственному совершенствованию.
Укажу еще на два учения, связанные у современных интеллектуалов с проповедью «сильного государства»; излишне говорить, что учения эти – новость у служителей духовного.
Первое объявляет человеку, что он велик постольку, поскольку стремится действовать и мыслить так, как действовали и мыслили его прадеды, так, как свойственно его расе, его среде, и не грешит «индивидуализмом»; тридцать лет назад, когда обсуждалось дело Дрейфуса, многие французские интеллектуалы предали анафеме человека, «претендующего искать истину самостоятельно», желающего составить собственное мнение, вместо того чтобы принять мнение своей нации, которой предусмотрительные вожди подсказали, чтó ей надлежит думать. В наше время священнослужители духа учат, что стадное мышление похвально, а независимая мысль достойна презрения. Впрочем, группе, которая хочет быть сильной, не по пути с человеком, претендующим мыслить самостоятельно[252]252
Такая группа неизбежно, по логике вещей доходит до деклараций вроде следующей: «С нынешнего дня должна прекратить существование глупая утопия, будто каждый может думать своей головой» («Impero», 4 nov. 1926). Подобные декларации обязан поддерживать всякий адепт «интегрального национализма». См. прим. N на с. 229.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.